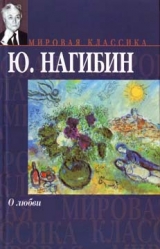
Текст книги "О любви"
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Появился Павел Алексеевич с мокрыми волосами и этюдником. Он много успел, пока Нина валялась, перекатывая в мыслях вчерашнее. С торжествующим видом он извлек из этюдника лист бумаги, испещренный набросками птичьих крыльев.
– Выполняю твое указание! – радовался Павел Алексеевич. – Это вот синичкино крылышко, это – поползня, это – воробьиное, ей-богу, самое красивое! А это, можешь себе представить, гоголячье. Но гоголя я не удержался и взял целиком. Посмотри, какой постав. Теперь понятно – ходить гоголем!..
Наброски были хороши, беда в том, что ей не хотелось набросков. Ей хотелось простого движения жизни, не ухваченного и не остановленного острым глазом и быстрой рукой художника. Но Павел Алексеевич был так упоен своими достижениями, что она принудила себя к скупой похвале.
Больше порадовали ее другие сообщения мужа: они с Никитой купались в озере, вода студеная аж до стона, но на редкость приятная и бодрящая; юный богатырь Илья нашел возле дома три боровика – значит, грибов полно; на завтрак дают отличную пшенную кашу, вареные яйца и кофе, если она не хочет опоздать, то надо немедленно вставать. Что она тут же и сделала.
Она успела окунуться в обжигающе холодном озере, умыться, причесаться, одеться, когда за ней зашел галантный Никита, чтобы проводить кратчайшим путем в столовую. Они быстро шли, давя бесчисленные розоватые грибы, напоминающие волнушки, но без мохров и на тонкой ножке. Ночью эти грибы казались белесыми и чуть светящимися. Никита назвал их подольховиками, хотя ольхи тут и в помине не было. Местные жители ими пренебрегают, в лесу полно груздей, белых и рыжиков, а эти надо вымачивать, прежде чем солить, и все равно они горчат, но приезжие из Новгорода набивают ими мешки и наволочки. Чувствовалось, что при том уважении, какое Никита испытывал ко всему населяющему мир, ему неприятно говорить дурно о подольховиках. Нахмурив брови, он счел нужным добавить, что если не лениться и вымочить их хорошенько – дня три-четыре, меняя воду, то они не уступят свинушкам.
– А чем больна жена Андрона? – спросила Нина без всякой связи с предыдущим, что нисколько не озадачило ее спутника, нацеленного лишь на удовлетворение любознательности собеседника, – все привходящее он отметал.
– Не знаю толком. Кажется, сердечница.
– А почему он ребят с собой не взял?
– Они сюда ненадолго, Борису Петровичу скоро в Париж, на конференцию. Андроновы ребята, по-моему, в пионерском лагере.
– А почему Борис Петрович не женат?
– Заядлый холостяк! – осуждающе, но и с тайным восхищением сказал Никита.
С крыльца столовой открывался подернутый ветреной вороненой рябью залив. Вдоль берега, высоко задрав нос, мчалась моторка, таща на буксире лыжника. Худой загорелый человек уверенно выписывал виражи, держась за повод одной рукой. То, почти ложась на воду, он огибал прибрежные камыши, то уносился вдаль и терялся в ослепительной солнечной полосе.
– Ну, теперь зарядили на все утро! – сказал Никита. – За грибами их не вытащишь. Таскают друг дружку до одурения на этих самых лыжах или в настольные игры дуются.
Нина молча вглядывалась в уменьшающуюся фигуру лыжника.
– Борис Петрович – мастак, – продолжал Никита. – Он бьет Андрона по всем статьям, кроме, кажется, пинг-понга. Почему физики так любят играть? – сказал он задумчиво. – Разве грибы или рыбалка не лучший отдых? А может, они не умеют отключаться, только переключаться: давать мозгу какие-то новые и несложные задачи?
Нину заинтересовали соображения Никиты, и она с внезапной нежностью подумала о физиках: какие там супермены – просто уставшие, заработавшиеся люди…
…Грибная лихорадка захватила Нину и Павла Алексеевича. Среди двух-трех десятков человек, изживавших лето в «зоне отдыха», лишь физики не поддались общему психозу. «Я люблю шампиньоны, да и то в кокотнице», – лениво цедил Борис Петрович. «Ваши хваленые грузди у нас в Ленинграде по полтора рубля банка, – басил Андрон. – Охота спину гнуть». В чьих-нибудь иных устах это звучало бы пошло, но физикам все прощалось. Они знали свою пользу и цель и спокойно противостояли всеобщему безответному напору.
Грибы пробудили в Нине милые воспоминания. В детстве она каждое лето проводила в деревне у бабушки. Подмосковную эту местность – между Пушкином и Мамонтовкой – давно затопило Учинское водохранилище. Под водой скрылась и бабушкина могила на старом сельском погосте. Нина помнила лес своего детства так же ясно, как большое, свисшее от старости, губастое и голоухое, дорогое бабушкино лицо. Две чернильно-темные, заросшие купырем речки сливались в лесу, и на мыске, меж высоких осин с матово-серебристыми стволами, что ни день высыпали малюсенькие красноголовики. А в густом хвойнике, во мгле под еловыми шатрами, скрывались кряжистые боровики. Чтобы сорвать их, Нина окапывала толстенные ножки своими слабыми руками. В пустом, без подлеска, березняке свечками торчали молодые, стройные подберезовики. Других грибов они не брали, пренебрегая не только сыроежками, свинушками, моховиками, но даже маслятами и лисичками.
С бабушкой интересно было собирать. Почти слепая – две пары очков на носу, но азартная и жадная к грибам, она затаивалась, если попадала на богатое место, и не откликалась на отчаянное «ау» внучки и, наоборот, без устали аукалась, если вокруг нее было пусто. Она могла выхватить гриб из-под чужих ног и даже протянувшейся руки, могла закричать: «Мой!., мой!..» – не видя гриба, но догадавшись, что другой его видит. Ей жалко было расставаться и с самым червивым грибом. «А что червь – поганый, что ли? Он грибом питается». Когда ходили по ранние опята и надо было отыскивать гнилые пни, обросшие желто-розовыми, в крапинках, грибами, бабушка, преисполненная ража, громко кричала: «Ищи, маленькая, ищи! Ты ведь нырок!»
Не стало бабушки, не стало того леса, и, казалось, исчезли грибы.
Как странно, что не с кем поговорить о бабушке, жившей так долго и так добро, участливо к окружающим. Ее соседок-подруг давно нет на свете, а собственная дочь, Нинина мать, тихо доживающая в поселке при подмосковной очистительной станции, где проработала всю жизнь, ни о чем не хочет и не может говорить, кроме своего покойного мужа, которого Нина даже мысленно избегает называть отцом, – такими чужими, посторонними друг другу были они всегда. Родители рано передоверили ее бабушке, которая зимой жила с ними, а летом увозила Нину к себе. Нина изредка навещает мать, но та не выказывает восторга при виде дочери, а вытащить ее в Москву невозможно. Да это никому и не нужно: ни матери, ни ей. Все скудные силы рано обветшавшего существа матери отданы ушедшему. Она говорит отцовскими словами, к месту и не к месту ссылается на его авторитет, поучает от его лица не только дочь, соседей, но и каждого, кто ненароком ступит в ее круг. Если бы Нина не знала своего замкнутого, трудолюбивого и недалекого отца, она решила бы, что ушел неузнанный гений.
Наверное, великое счастье выпало ее матери. Но какое-то жутковатое, душное счастье. Оно сделало ее безразличной к родной крови и плоти, к небу и земле. Ее богом, героем, повелителем, ее крепостью и храмом был незаметный, тихий человек, посвятивший жизнь очистке сточных вод. И, думая о слепой и великой любви своей матери, Нина не могла решить, заслуживает ли она зависти или сожаления. Ясно одно: это беззаветное чувство питалось из самого себя. Поистине, любить можно лишь ни за что, за что-нибудь любить нельзя.
Обирая лесную прель от росших кучками и даже целыми полями черных груздей с изжелта-зелеными, порой будто обугленными шляпками и видя, а когда просто чувствуя рядом с собой крупную фигуру мужа, занимающегося сбором грибов с обычной для него самоотдачей, она исполнялась к нему доверия, нежности, какой-то щемящей родности. И, пугаясь этой неоправданной взвинченности чувства, естественной лишь перед разлукой, она уверяла себя, что ничего не стоит без Павла Алексеевича; и весь накрут, все сложные психологические игры она может позволить себе только потому, что есть он. И кому она нужна – несамостоятельная, не знавшая ответственности, никчемная стареющая женщина?..
В лесу она по-новому открыла свое тело, которое в привычных условиях было ей ловко, как в молодости. Наклоны по-прежнему легко давались гибкой и тонкой, чуть удлиненной талии, но, карабкаясь на бугор, она ощущала тяжесть бедер, а к концу похода ныли утратившие крепость икры. Она, конечно, сдавала. Со стороны это почти не заметно – выручали горячие, яркие глаза, свежий рот, молодая кожа. Странно, но до этого леса она и сама видела себя как бы со стороны. И только здесь познакомилась с огрузневшей, утратившей былую спортивность, хотя все еще выносливой теткой, которая претендовала быть Ниной. Видать, вовсе короток будет ее бабий век. Это не личное, а родовое свойство: бабушка очень рано рассталась с женской привлекательностью и женской жизнью, хотя до конца дней сохранила бодрость и подвижность. Все знавшие ее называли «неугомонной старухой». Страдала ли бабушка, когда до положенного природой срока стала превращаться в «неугомонную старуху»? Этого она не знает и не узнает никогда. А страдала ли ее мать, тоже рано постаревшая? Она так растворилась в любви к мужу, что не замечала ничего ни в себе самой, ни вокруг себя. Но так ли на самом деле? А может, она мучилась страхом, что муж бросит ее ради молодой и пригожей, он ведь и в старости казался ей юным красавцем кавалергардом. И у бабушки, и у матери своя судьба, а Нина не хочет стареть, она не помнит, что была молодой, у нее украли молодость…
В далеком лесу за песчаным карьером, где неугомонно ревели воинские дизельные грузовики, стойко обзванивая хвойный воздух, скрежетали и лязгали землечерпалки, за полузаброшенной деревней, потонувшей в бузиннике, в темном, непроглядном лесу можно находить в утренние, наиболее добычливые часы десятка по два-три белых на брата, – не слишком щедро, зато наверняка. Лес, хоть и отдаленный, был не беден грибниками, забиравшимися сюда еще засветло. А попадались белые лишь на узкой полосе вдоль высоко вознесенной насыпью бетонки. Крепкие, на толстых ножках, они сидели возле елочек во мху и брусничнике и даже в рослой густой траве, где им вроде бы делать нечего. Пробовали углубляться в лес, но без толку. Там все забито хвощами и папоротниками, в такой растительности хорошие грибы не водятся, разве что поганки.
Дотошно обрыскав опушку на протяжении трех-четырех километров, они ехали в другой лес, ближе к карьеру, где перебивали усталость кропотливого поиска скорым, вперегонки, обшариванием лиственной прели и сухой игольчатой осыпи среди валежин и до отказа набивали корзины и прочую тару груздями, волнушками, лозянками и свинухами, – рыжики попадались редко.
Грибы поглощали уйму времени. По возвращении надо было их сортировать, чистить, мыть, отваривать, белые мариновать в стеклянных банках, остальные солить в эмалированных ведрах, за которыми ездили в город Валдай. Там же закупили уксусу, маринадных специй, а в деревне – укропу, листьев хрена и чесноку для засолки.
Поскольку их друзья вырвались далеко вперед по всем грибным статьям, Павел Алексеевич предложил Нине ходить в лес и после обеда. Она вспомнила, что бабушка не доверяла вечернему лесу и при всей своей фанатичной любви к грибной охоте не отваживалась ступить в лес во второй половине дня. А ну-ка заблудишься и ночь настигнет! Да ведь они-то и утром все больше по опушкам шастают, где тут заблудиться? Павел Алексеевич предложил для начала прочесать сосняк вокруг базы. Так и сделали, и в первый же вечер набрали два ведра маленьких желтых, с исподу коричневых моховиков, каких не водится в Подмосковье. Эти грибы годились и в жарево, и в маринад. И хотя их пример никого не соблазнил, они взяли за правило вечерние походы…
Как-то раз, доверяя ослепительному солнцу, не померкшему и после обеда, они пошли через бор неприметной «муравьиной» тропой, пренебрегая совавшимися под ноги моховиками, в надежде на какое-то сказочное место, и шли все дальше и дальше, забыв, что придется возвращаться. Их отвага была вознаграждена, хотя и не так, как ожидалось: с бугра, закогченного узловатыми корнями трех сросшихся сосен, открылось незнакомое озеро. С ближней к ним стороны озеро заросло камышами, с другой в него опрокинулся высокий берег с мачтовыми соснами, а посредине, на блистающей воде, покачивались пунцовые перья заката, и они не сразу обнаружили пару белых лебедей, замаскированных огнистыми отблесками. Лебеди то вовсе исчезали в отсветах и бликах, то разом сбрасывали сверкающую кольчугу, являясь во всей своей чистой белой огромности, вновь становились игралищем воды и солнца.
Нина и Павел Алексеевич стояли над озером, пока заходящее солнце не убрало с него последнего света. Лебеди, матово-серые, заскользили по пустой белесой воде и скрылись за лещугой.
Домой они вернулись в сумерках.
– А мы уже беспокоиться стали, – сказала Варя, опорожнявшая на задах дома таз с очистками.
– Есть чего! – откликнулся Павел Алексеевич. – Лес сквозной, прозрачный.
– А мы лебедей видели, – сказала Нина.
– Да? Ниночка, ты уже разобралась с утрешними?
– Нет… Сейчас займусь.
– Что-то у меня много порченых…
На другое утро Нина встала пораньше, чтобы разделаться с грибами – скопились угрожающие навалы. Вчера она так устала, что, не поужинав, завалилась спать. Павла Алексеевича уже не было, ушел на этюды. Подбежала беленькая собачонка, розовая кожа просвечивала сквозь редкую шерсть, и стала бить хвостом по стойке крыльца, прося подачку. Эту собаку она видела впервые, к ней прибегали кормиться две другие, похожие на шпицев, с кисточками на ушах и репьевыми колтунами в хвостах. Она протянула руку, чтобы погладить собачонку, и та сразу повалилась кверху голым щенячьим брюшком, по которому сновали черные блохи. Нина кинула ей кусок хлеба, собачонка подхватила его на лету, и вовремя – во весь опор, с огромным лаем поспешали штатные нахлебники. Поджав хвост и кося черным полным глазом, щенок затрусил прочь, но, верно, знал, что его не станут преследовать, и отбежал совсем недалеко. Он не собирался оставлять хлебные места, справедливо полагая, что там, где кормятся двое, хватит и третьему. Маленькое существо уже накопило жизненный опыт.
Нина дала еду собакам, поставила кофейник на огонь – завтрак еще не скоро, покрошила сыра на фанерку и пристроила в развилке березового сука – скоро сюда слетятся лазоревки и гаечки, слила грязную воду из-под замоченных еще вчера свинушек и отчего-то вдруг вспомнила лебедей. Ах хороши! И как поплыли, когда солнце убрало с воды свой свет, – спокойно, величаво, и никто им в целом мире не нужен. Ей подумалось: из всего, что тут было с их приезда, похоже, одни только лебеди не запрограммированы предусмотрительностью Павла Алексеевича. Даже физики должны были появиться, чтобы украсить их маленький праздник и сгинуть по выполнении своей задачи.
Как ловко, незаметно и железно повернул он все на свой лад! Она-то ждала, что поездка поможет ей пусть не порвать – какой там! – ослабить домашние путы, что будет хоть что-то другое. Но он спокойно, без малейшего насилия загнал ее в привычные рамки – даже убогие звери появились. Только техникума не хватает для полноты картины. Без шуток, что изменилось от того, что она переместилась из надоевших Борков на заманчивый Валдай? Ровным счетом ничего. Она опять служит душевному комфорту Павла Алексеевича, которому ее близость необходима так же, как работа, прогулки, присутствие зверей и птиц. Он снова обманул ее. Видимо, понял, что она уже не выдерживает заточения, и придумал эту поездку, но все свел к механической перемене места. И то, что мелькнуло в дороге, выбив на миг из душевной летаргии, развеялось без следа, как-то незаметно вместо Валдая ей подсунули все те же Борки. «Павел Алексеевич, – обратилась она мысленно к мужу, – чтобы претендовать на безоглядное подчинение женщины, надо влюбить ее в себя безоглядно. Моему отцу это удалось, а вам нет, и потому отступите немного в сторону. Дайте мне увидеть мир, который вы вечно застите своей грузной фигурой. Мне надоело мелодичное позванивание семейных цепей…»
«С жиру бесишься!.. Во время войны так бы не рассуждала!» – услышала она густой голос старшины Сергунова, оставленного наблюдать их дом, и сад, и скот. То же самое сказал бы и Никита, вспоминающий о войне как о лучшей поре своей жизни. До чего дезертиры смерти – а все уцелевшие – дезертиры смерти, иначе надо признать, что они лучше тех, кого не стало, – любят чуть что хвататься за войну как за высший критерий, вернейшее мерило всех жизненных ценностей. В войну они с бабушкой голодали в эвакуации, что же, она должна до конца дней довольствоваться голодным пайком и в прямом, и в переносном смысле слова? Войной удобно затыкать людям рот. Есть такие, что с великой охотой навязали бы мирной жизни военную скупость, железную дисциплину и слепое подчинение, но война для того и была, чтобы ничего этого не было.
«С жиру бесишься!..» – «Да, бешусь – с лишнего жира на моих мышцах, с жира не от обжорства, а от возраста, с жира, нарастающего и на душе, когда ее искусственно усыпляют. В жирную гаремную жену превратил меня самый близкий, единственно близкий на свете человек. Но теперь – довольно…»
3
Павел Алексеевич не сразу угадал опасность, но сразу почувствовал перемену. Вернулось то, что он с недоумением и беспокойством уловил по пути на Валдай: отчужденность, глубоко запрятанная неприязнь к нему. Тогда он приписал это дорожной лихорадке, вполне естественной: ведь Нина так давно не покидала дом. Сейчас все стало куда резче, злее и откровенней, хотя она боролась с собой, изо всех сил подавляя раздражение.
Размышляя, он пришел к выводу, что это началось не сегодня и даже не в дороге, а куда раньше и лишь ждало своего часа, чтобы выйти наружу. Может быть, что-то возрастное? Наступает такая пора в жизни женщины, когда она собой не управляет. Вроде бы еще рано, хотя возраст нельзя сбрасывать со счетов. Так или не так, он отвечает за все, что с ней происходит, и не смеет уходить от ответственности. Не нужно самооправданий, считай, что причина ее перемены в тебе – не в тебе, каким ты себя видишь, а в тебе, каким ты отражаешься в ней. Возможно, он и разобрался бы в душевных крутенях жены, но тут его резко повело в сторону.
Он вдруг обнаружил, что Нина не на шутку увлечена физиком Борисом Петровичем. Удивительно было, как бессознательно и бескорыстно, из глубины вечного женского заговора, Варя принялась помогать нарождающемуся роману. Она варила украинский борщ, с которым, разумеется, не мог соперничать жидкий супчик столовки, и приглашала на обед физиков. Для каждого застолья она придумывала какой-нибудь повод: престольный праздник, чей-нибудь день ангела, годовщина первого поцелуя или последнего дня врозь с Никитой. Устраивала поздние ужины с вином и водкой под копченого леща, которым Никита разжился в пустынном сельпо, затеяла поездку на остров для осмотра разрушенного монастыря.
Эта поездка помогла Павлу Алексеевичу уловить момент, когда рассеянный, незаинтересованный, озабоченный затянувшимся оформлением поездки во Францию Борис Петрович взял наконец приманку. Он решительно не хотел ехать, как ни уговаривали его Варя и Нина, первая – напористо, вторая – робко-обиженно.
– Я все знаю заранее, – говорил он тягуче-пресыщенным голосом. – Полуразрушенные стены, битый кирпич, мусор и нечистоты. Люди почему-то любят пачкать на развалинах. Это не входит в вашу компетенцию, Нина Ивановна?
– Да будет пустяки говорить! – наседала Варя. – Там большущая живая деревня, под самым монастырем.
– Большущих живых деревень не осталось и на материке, – устало опускал на глаза длинные ресницы Борис Петрович. – Впрочем, если там действительно уцелели туземцы, то в монастыре картофелехранилище и стыло-гнилистый дух.
Павел Алексеевич не сомневался, что так оно и есть, и тоже отказался участвовать в поездке. Лучше пойти по грибы. Нина, не скрывавшая разочарования, согласилась с ним, но в последнюю секунду прыгнула в лодку к Никите и Варе. Уже на озере их нагнала моторка, буксирующая лыжника. После коротких переговоров Нина перелезла в моторку, туда же забрался лыжник. Павел Алексеевич с берега наблюдал эти, конечно же, не рассчитанные заранее маневры, отдававшие водевилем, но ему не было смешно.
После этой поездки поведение Бориса Петровича резко изменилось. Прежде он не замечал Павла Алексеевича из отсутствия человеческого интереса и откровенного презрения к его профессии, а сейчас стал нарочито вежлив, позволяя себе при этом весьма резкие выпады против той области проявления человеческого духа, которая прямо противоположна науке. И Нина с неумным восторгом и злорадством поддерживала его сомнительные эскапады. Очевидно, возле стен монастыря они поняли друг друга, и сейчас надо было разделаться с мужем, чтобы обрести внутреннюю свободу. Значит, она все еще считалась с ним, коль не могла просто переступить через него, как через порог.
Павел Алексеевич не испытывал к Нине дурного чувства. Боль, жалость, умиление перемежались, порой сливались в его душе. Нина выглядела неумело и беспомощно в новой, незнакомой роли, даже несвойственная ей прежде глупость говорила об удивительной наивности и чистоте сорокалетней женщины, которой мучительно трудно вышагнуть из самой себя.
Какое-то стыдливое чувство заставляло Павла Алексеевича все время уступать площадку физику, но однажды они все-таки схлестнулись. Началось с очередных нападок Бориса Петровича, шумно поддержанных Андроном и молчаливо – Ниной, на современное искусство, якобы переживающее затяжной спад. Потягивая кофе, Борис Петрович утверждал, что нынешнее искусство ничтожно уже потому, что не пользуется тем знанием о мире и человеке, которым располагает наука.
– Ну, это еще вопрос, кто располагает большим знанием о человеке – наука или искусство, – нарушил неизменное молчание Павел Алексеевич и на какое-то мгновение сам оробел от наступившей тишины. – Один большой поэт говорил, что искусство всегда у цели. Может ли это сказать о себе ваша наука, сильно сомневаюсь.
– Во дает! – дурашливо взревел Андрон.
– Ну, Пала, ты что-то не того, брат, – не то испугался, не то застеснялся за друга Никита.
Борис Петрович с интересом наблюдал взорвавшегося невежеством молчуна. Бывает вот так: держит человек рот на замке, и окружающим кажется, что есть у него своя, выношенная дума, а заговорил – и всем ясно, что он просто дурак.
– Вы давно уже не в силах объяснить природу тех явлений, с которыми сталкиваетесь, и без конца жонглируете символами, маскирующими вашу растерянность, – наседал Павел Алексеевич. – Вы прячетесь за какой-то научный воляпюк, ровным счетом ничего не говорящий людям.
– Что за чепуха? – Борис Петрович неожиданно для самого себя разозлился. – Наука, физика, так же далеко ушла от обывательского языка, как и от обывательского предметного мышления. Мне приходится делать довольно сложные расчеты, но меня совершенно не интересует, какая за ними скрывается реальность. Между тем результаты расчетов вполне материальны.
– Еще бы!.. Но отвлеченное мышление становится весьма предметным, когда подсчитывают, сколько трупов придется на единицу продукции.
– Ну, это не в ту степь, – поморщился Борис Петрович.
– Ежели душеспасительными мыслишками пробавляться – все замрет, – убежденно сказал Андрон.
– Вот и пусть замрет.
– Вы хотите, чтобы мы разоружились перед лицом врага?
– И чтобы враг разоружился перед нашим лицом. И чтобы навсегда отпала необходимость в таких, как вы.
– Ого! Крепко сказано. И чтоб остались одни мазилки, бумагомаратели…
– Игрецы на лютне, – подсказал Борис Петрович.
– Да, да, да! Мазилки, бумагомаратели, игрецы на лютне. И все, кому это нужно. Это и будет золотой век. Причем выбора нет: либо золотой век, либо все полетит к чертовой бабушке.
Нину донельзя раздражало то, что говорил Павел Алексеевич, он казался ей неучем, Митрофанушкой, но еще сильнее раздражало, что в глубине души она была согласна с ним. Ей хотелось, чтобы Борис Петрович не огрызался, не иронизировал, а сразил его наповал простыми, сильными и ясными доводами. Все люди как-то договариваются с Богом и с самими собой, и физики не исключение, то ли от презрения к противнику и всей аудитории Борис Петрович промямлил что-то высокомерно-неубедительное о господстве науки в современном мире.
Павел Алексеевич уже понял, что говорит со своими противниками на разных языках. Оба ученых мужа исповедовали нехитрую и весьма почтенную возрастом веру в разумность, непреложность и ценность всего, что создано безответственным разумом и ловкими руками человека. Не надо думать о существе и цели открытия, надо доводить его до высшей кондиции. «Зачем же создавать фетиши? – сказал Павел Алексеевич. – Если нет этической основы, грош всему цена». Ему объяснили, что в век сверхзвуковых и космических скоростей, полетов на Луну и обратно надо уметь мыслить по-современному.
– Старая песня! Когда Льву Толстому надоедали с полетами Уточкина, он говорил: «Лучше хорошо жить на земле, чем плохо летать в небе». Замечательная мысль!
– Ну, знаете! – пренебрежительно усмехнулся Борис Петрович. – Зря вы потревожили старика. Люди-то научились летать, и весьма неплохо.
– Да нет же, плохо, уверяю вас. Самолеты разбиваются, их угоняют. Человеческая трагедия населила воздух. Да и вообще, хваленая техническая наука со всеми ошеломляющими открытиями не дала человеку ни на грош счастья, не утешила в печали, горе и одиночестве, не сделала его добрее и лучше. Но все это делало и продолжает делать заруганное вами искусство.
– Вы только потому и можете сидеть тут и разглагольствовать, что есть мы! – покраснел и как-то слишком громко сказал Борис Петрович.
– Нокаут! – радостно грохнул Андрон.
– Что, Пала, побили тебя? – подмигнул другу Никита. – Нечем крыть?..
– Да… Тут, как говорится, зачехляй оружие.
Павел Алексеевич как-то слишком внимательно посмотрел на Бориса Петровича, но тот увел взгляд.
«Что нашла в нем Нина? – думал он. – Не мог же привлечь ее вычислительный аппарат, который природа случайно заткнула ему в голову? Он ограничен и банален, и даже поза его неинтересна. Говорят, правда, любовь слепа. Но оставим любовь в покое, здесь она ни при чем. Увлечение?.. Тогда все происходит иначе: корабли не сжигают, а тщательно берегут, Нина же настроена на большой пожар. Уже в дороге пахло паленым. И дело тут вовсе не в человеке со стороны, а во мне самом, мой мир обесценился для нее. И не стоило размахивать картонным мечом, доказывать, что у Бориса Петровича нет этики. Как будто это может остановить Нину. И ничего не даст, если я схвачу ее в охапку и увезу отсюда. Там окажется другой Борис Петрович. Земное воплощение Гора было разным, но суть крылатого бога Древнего Египта от этого не менялась…» Шутка не помогла. Он посмотрел на запертое, отчужденное, с тесно и недобро сжатыми губами лицо Нины, и безнадежность овладела им. «Спокойной ночи», – пробормотал он и, неловко выбравшись из-за стола, побрел к дому. Его не удерживали. Они все в той или иной мере были виноваты перед ним и тяготились его присутствием. Даже Никита, который в простоте души не очень понимал, что происходит, поддался общему настроению: без Павла Алексеевича легче…
…Снотворное подействовало быстро и так же быстро иссякла его благодетельная сила. Павлу Алексеевичу казалось, что он лишь успел натянуть на себя сон вместе с одеялом, и вот уже сна – ни в одном глазу. Он с раздражением отбросил неприятно шерстистую ткань, глянул на часы, но лунный свет, процеживающийся сквозь занавеску, погасил фосфор стрелок и не высветил циферблата. Он приподнялся на локте – Нинина кровать была пуста. Его это не удивило, он бы и во сне почувствовал ее приход.
Почему считается, что нет безвыходных положений? Вот он оказался в таком положении. Ни с того ни с сего, без видимой причины. И кого в этом винить? Себя? Но он не знает за собой вины. Физика? Его роль пассивна. А разыгрывать из себя ангела-хранителя чужого очага он не обязан. Нину? В чем ее вина? Разве виновата она, что человек, с которым прожила столько лет, стал ей чужд?.. Как непрочен грунт, на котором строится здание человеческого счастья! Еще неделю назад ему и в голову не могло впасть, что спокойная, преданная, домашняя и словно бы чуть дремлющая Нина скажет «нет» их жизни. Наконец-то он понял, что происходящее с ней сейчас – это рывок в свой возраст, в свой век из чужого, насильно навязанного. Он расплачивается за то, что похитил Нину у ее поколения. Их довольно прочное одиночество нарушали лишь его сверстники, чьи воспоминания не были ее воспоминаниями, чье мироощущение не было ее мироощущением, чья подъемная пора пришлась на дни ее детства. И общение не шло на равных, какая-то наставническая, а порой и брюзжащая нотка почти неслышно прозванивала в их тоне. И верно, легчайшим дымком тлена тянуло на нее и от его окружения, и от него самого, от всего их быта. Но, человек любящий, привязчивый, добрый, она бесконечно долго подчиняла свою душу рутине, наделяя ее мнимой ценностью. Взрыв был неизбежен. Впрочем, кто знает?.. Привычное подавление своей сути могло продолжаться еще какое-то время, только не нужно было менять обстановку, а там – возрастной слом и стремительное угасание женщины, прожившей жизнь не в своем возрасте. Но нарушился стереотип – и остатки молодости взбунтовались в ней. И поскольку она была неиспорченна и бесхитростна, лишена даже малого навыка обмана, это получилось грубо и жестоко и вместе – щемяще-простодушно. Хотя хватило бы такта и снисходительности (о понимании говорить не приходится) у самовлюбленного дурака, которого избрала Нинина смута. А то ведь натопчет, нагваздает в чужой незащищенной душе – не отмыть. «О чем только я думаю, – взныло в нем, – да еще так смиренно! Бог да поможет Нине, я ей уже не помогу. Знаю, знаю – глупо и несовременно придавать чрезмерное значение тому, чему наш трезвый и ученый век отводит место где-то возле уборной. Вполне допускаю, что среди моих знакомых нет ни одной безупречной пары, и это не мешает иным из них искренне любить друг друга и жить интересами семьи. Все это так, но что делать, если я такой отсталый идиот? Как это там?.. „Быть обреченным на то, чтобы постоянно вдыхать запах падения, запах другого, с каждым дыханием“… А ведь я читал „Редактора Люнге“ еще в школе и с тех пор никогда не перечитывал. Я могу все понять и все простить, но быть с ней я уже не смогу. Только с чего я взял, что ей нужно мое понимание, прощение и тем более возврат к старому? Может, только сейчас, разделавшись со мной, обретет она себя настоящую и будет счастлива. А что останется мне? Все, что окружало меня раньше, только без нее, лишенное смысла и содержания, – пустота. И старение в этой пустоте…»








