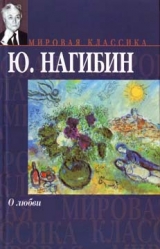
Текст книги "О любви"
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Царскосельское утро
Пушкин проснулся мгновенно и таким свежим, будто не было одури семичасового сна. И сразу почувствовал свое худое, крепко стянутое в суставах, горячее тело. Он спал голый, под одной лишь простыней, да и та неизменно сбивалась комом в ногах, а утра последних майских дней слюдили приморозкам распахнутое окошко, и все же кожа была так сухо-горяча, будто ее нажарило летнее солнце. И до чего же приятно водить прохладными ладонями по мускулам груди и узким бедрам, остужая тело и согревая руки, и знать, что это ты, твоя суть, которой ты хозяин и верный слуга.
Он вскочил резко, упруго и бесшумно, как хищный зверь, окунул полотенце в ведерко с водой, стоявшее в тумбочке ночного столика, и обтерся с головы до ног. Натягивая панталоны, носки и рубашку, он прислушался к тишине спящего лицея.
За перегородкой крепко спал уравновешенный, спокойный Пущин, он просыпался на том же боку, на каком и засыпал, но снились ему неизменно – по собственному признанию – нагие девы; тихо дремал Дельвиг, днем он пребывал в полусне, ночью – в полуяви; беспокойно и шумно – с возгласами, бормотаньем и всхлипами – спал Кюхельбекер; образцово спал аккуратный Корф и барственно, с носовыми руладами – сиятельный Горчаков. Каждый спал, как умел, по устройству своему, привычке и жизненному положению, но сейчас важно было другое: как обошелся Морфей с дядькой Леонтием.
Дядька спал всегда по-разному, и порой казалось, что он – вольно или невольно – пародирует сон воспитанников. То он дремал вполглаза в Дельвиговом пошибе, то выл, вскрикивал, рыдал и хохотал почище самого Кюхли, то был сдержан, как Модест Корф, то разливался самоуверенной княжеской трубой. Это зависело от того, сколько и чего было выпито на протяжении дня – крепость и качество напитков по-разному окрашивали его сон. Сейчас Леонтия не было слышно, но в каком образе он пребывал: безопасном или чутком – сказать трудно…
В последнее мгновение Пушкин все же чуть не остался дома, и, конечно, не из страха перед дядькой. Он случайно глянул на конторку с оглодками перьев и черноизмаранным листом бумаги – незаконченный ноэль, который он обещал прочесть вечером друзьям своим – гусарам. Но образ ждущей, обмирающей от страха, трепещущей Натальи пересилил.
Держа башмаки в руках, Пушкин осторожно отворил дверь. Его комната была крайней по коридору и находилась рядом с каморкой дядьки. Дверь туда была открыта. Леонтий спал непробудным сном. Значит, нагрузился предостаточно отечественной сивухой – лишь ей удавалось так вот, намертво, укладывать крепкого к выпивке дядьку.
Пушкин обулся и бесшумно направился к двери в другом конце коридора. Несмотря на ранний час, многие лицеисты не спали. Кто-то молился – монотонно и упрямо, кто-то напевал сквозь зубы, видимо бреясь, кто-то бормотал стихи. И рифмованные строчки, как всегда, приманили Пушкина. В каждом молодом стихослагателе он чувствовал брата, даже в гладеньком и чем-то гаденьком Олосеньке Илличевском, даже в кривляке Яковлеве, хотя его поэтические опыты были случайны и ничтожны, не говоря уже о близком всей кровью, одаренном, пусть и чертовски ленивом Дельвиге или благородном безумце и добряке Кюхле.
Пушкин верил: когда господь еще качал колыбель новорожденного человечества, люди говорили стихами – это проще, красивей и более соответствует высокой, неуниженной сути человека, нежели спотыкливая проза. Лишь когда человек окончательно отвернулся от неба и утратил свободу духа, он перестал петь свои мысли и чувства и забормотал презренной прозой. Еще в Гомеровы времена речь людей была ритмически оперена, хотя гекзаметр являет собой первое движение в сторону прозы. Адам и Ева до грехопадения разговаривали четырехстопным ямбом, самым легким, воздушным из всех размеров. С тех пор люди мучительно продираются друг к другу сквозь корявую, затрудненную прозу, ничем не помогающую говорящему и слушающему – ни ладом, ни полетом, облегчающими схват нужного слова, ни ритмом, строящим речь. Но придет время, и люди опять заговорят стихами, и то будет возвращение изначальной гармонии.
Наверное, память о праречи человечества и заставляет юные, послушные естественным велениям души выражать себя через поэзию. Вот и Олосенька, знать, услышал тайный зов. Пушкин сдержал шаг возле его двери и прикоснулся слухом к журчанию ручейкового гладкозвучия. Но слово «древо» в описании отнюдь не библейского, а чащобного, прелого, мохового русского леса мгновенно обозлило его (неужели, живя посреди царскосельских садов, Илличевский так и не научился различать деревья?), а дикий глагол «вопиять» заставил по-обезьяньи вздернуть верхнюю губу и отскочить прочь.
Он оказался против комнаты самого незадачливого и непризнанного из лицейских поэтов – Кюхли. В отличие от других воспитанников, Пушкин не чувствовал отвращения к корявой музе Вильгельма, хотя с присущей ему внушаемостью нередко поддавался соблазну злоязычия и отпускал в адрес доверчивого и влюбленного в него друга «вицы», выделявшиеся среди поверхностного лицейского острословия не только своим ядом, но и способностью намертво западать в память. И бедный Кюхля претерпел от понимающего его и даже по-своему ценящего Пушкина куда больше уязвлений, нежели от всех остальных остряков-недоброжелателей.
Со всегдашним чуть досадливым сожалением прислушивался Пушкин к тяжеловесным виршам – Кюхля словно камни ворочал. Казалось, надо особенно расстараться, чтобы из несмети слов выбрать самое неуклюжее, угловатое, не терпящее никакого соседства. Как же должен он любить поэзию, если способен на подобный сизифовой безнадежности труд!
Если б мне слова и созвучия давались с такой мукой, я бросил бы поэзию. Каждое стихотворение, когда оно отделилось от автора, – это что-то живое, несущее бремя собственного существования. А Кюхля знай себе плодит уродов. Какое мужественное, бесстрашное и стойкое сердце! Его обвиняют в подражании Клопштоку. Но разве у нас нет отечественных бардов, не уступающих немецкому поэту непроворотом громоподобных словес? На каком страшном, дремучем языке писали не только замордованный всеми Тредиаковский, но и такие властители дум, как Сумароков, Петров, Озеров и даже великий Державин, чья колоссальная художественная сила продиралась сквозь трясину и бурелом чудовищных слов. А разве нынешние лучше? Один напыщенный и темный, как могила, Ширинкий-Шихматов чего стоит!..
Кюхля глух, как тетерев. Может, и другие российские пииты туги на ухо и не слышат живой народной речи? Вот упоительный Батюшков и Жуковский, чье вдохновение вспыхивает особенно ярко от чужого огня, вовсе не глухи, но они не потрафляют так сердцу ревнителя русской поэзии, как дряхлый Державин или допотопный Озеров. А что, если люди просто не узнают поэзии, когда она выражается не высокопарным языком богов, под стать торжественной зауми древних акафистов, а живой человеческой речью?
Беда в том, что литература пошла за Данииловым риторическим велеречием, за этим сладкоглаголивым последователем древнего плетения словес и подражателем Екклезиаста, а не за житейщиной пламенного протопопа Аввакума, вспоенного здоровой мужицкой речью. Митрополит Даниил обнаруживал, свою растерянность перед словом в самой неспособности к отбору, он бессильно громоздил совпадающие понятия: «также клевещеши, осуждавши, облыгаеши, насмехаеши, укорявши, досаждавши…» Так и льется звон-пустозвон, а где смысл, точность, простота, прикосновенность к человечьей душе? То ли дело Аввакум! Вон как обращался к несчастной боярыне Морозовой, потерявшей сына: «И тебе уже неково чотками стегать, на на ково поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке неково погладить, помнишь ли, как бывало?» Ведь слеза точит, когда повторяешь эти безыскусственные слова.
Ах, господи, стоит ли терять на это время, когда Наталья ждет не дождется в своей каморке! Ждет, а сердечко колотится все сильнее, ведь рядом, через стену, – ее хозяйка, фрейлина Волконская. Эта костлявая коза беспокойна и зломнительна. Ей вечно мерещатся привидения, духи, разбойники и насильники. Но вместо того чтобы запереться покрепче, она в развевающемся капоте выскакивает из спальни навстречу воображаемой опасности в тщетной надежде, что померещившийся ей шум обернется не призраком, а вполне телесным уланом, юным пажом или хотя бы дворцовым истопником.
Пушкин еще раз оглядел длинный коридор, серые двери пронумерованных комнат, где на узких железных кроватях спали юные князья и бароны, отпрыски помещиков и служилых дворян, будущие чиновники, воины, мореходы, поэты, бунтовщики – каждый уже прозревал свой путь, члены незабвенного лицейского братства, и неожиданно для самого себя сказал вслух, хоть и негромко:
– Спите, дети!.. Бог да хранит вас!.. – И выскользнул за дверь.
Можно было пройти через двор, сунув «тринкгельд» в привычную ладонь швейцара, но Пушкин решил воспользоваться внутренним переходом – через арку и хоры дворцовой церкви. Правда, в темноте там немудрено и шею свернуть, зато меньше риску быть замеченным!
Ему повезло. Двери послушно и бесшумно поддавались легкому нажиму пальцев. В арке с выбитыми стеклами узких окон его хорошо и крепко прохватило студью утренника – снаружи травы и цветы были в седой припушке. Вскоре иней растает и выпарится туманом, а зелень станет зеленой и яркой. Прежде чем нырнуть в густую, пряную, ладанную темь церкви, он посунулся грудью к пустой оконной раме и принес Наталье свежесть подмороженного майского утра.
Пушкин слышал, как испуганно колотилось и обмирало в ней сердце. Он ласкал ее, успокаивал, говорил, что он с ней и не даст в обиду. Хотя что он мог, недоросль, лицеист, которого лишь недавно освободили от унизительного хождения в паре? Пусть только покусятся на его милую! У него острые зубы и когти, крепкие кулаки и дар неоглядной ярости. Но ведь никто не посягает на нее, не мешает их уединению и счастью, и прочь злые мысли!..
– Тише, Александр Сергеич, ну, тише же! – молила Наталья. – Ох, Сашенька, погубите вы меня!..
– Почему ты плачешь? – спросил Пушкин. – Перестань! Дай я вытру твои глаза. Ну что ты, глупая?
– Не знаю, – низким от слез голосом сказала Наталья. – Не сердитесь. Я сама не знаю, чего плачу. Хорошо мне с вами, вот и плачу.
– Мы всегда будем любить друг друга, – сказал Пушкин, веря своим словам.
– Да будет вам! – Наташа рассмеялась странным и отчужденным смехом.
Неприятен был этот взрослый смех, отбрасывавший его в детство. Наташа словно враз стала старше, она знала то, чего не знал он, прочно, сознательно и коротко жила данностью. Это было грустно, обидно и скучно. И еще скучнее стало, когда Наташа невесть в какой связи, а может, и вовсе без всякой связи, принялась рассказывать о своей подруге Маше, актрисе на выходах домового театра графа Толстого, и обмолвилась, что она «тяжела» от графского племянника, улана. Было жалко девушку, Пушкин смутно помнил круглое лицо, наивно приоткрытый рот и ореховые глаза, но к жалости примешалось раздражение.
– Тяжела – гадость! Улан ее обрюхатил, – сказал он резко.
– Фу, Александр Сергеич, ну и язычок у вас! Мы простые и то говорим «тяжела», а вам приличнее выражаться «беременна».
– Брюхата! – вскричал Пушкин. – Неужели ты сама не слышишь? «Брюхата» – полно и кругло, «беременна» – блекот какой-то! А «тяжела» – вовсе мертвечина.
– Ну ладно! – сердито сказала Наташа. – По мне, как ни называйте…
Пушкин резко отстранился.
– Куда же вы? – жалобно спросила Наталья.
– Пора… – сказал Пушкин, чем-то смутно озабоченный. Нет, не бедою Маши и улана, а чем-то другим, возникшим раньше, а сейчас зашевелившимся на дне души, не обретая отчетливого образа.
– Погодите!.. – сказала Наташа и выскользнула из комнаты. Движения Пушкина были медленны, затрудненны, хотя он и не отдавал себе в том отчета. Ему нужно было поймать какую-то реющую возле виска, тревожную мысль, но это никак не удавалось. Ну и бог с ней! Важная мысль сама всплывает рано или поздно, а неважная – пропади пропадом.
Он вышел в коридор – непроглядно темный после солнечной комнаты Натальи. Вытянув вперед руки, он двинулся к выходу, и тут бесшумным белесым призраком навстречу ему метнулась Наталья. Нежданное виденье ее разом уничтожило возникший было холодок. Пушкин принял ее в свои объятия, ощутил незнакомую худобу под ладонями, в ужасе отстранился, и тут же истерический вопль: «Помогите!» – растерзал тишину дворца. Фрейлина Волконская дождалась своего насильника.
Пушкин стремглав кинулся в долгую тьму коридора, пронизал ее, нигде не споткнувшись, скатился по лестнице и выскочил наружу. Прижимаясь спиной к стене, скользнул под арку и очутился по другую сторону дворца.
Но лишь выбежав в сад, почувствовал он себя в безопасности. Едва ли это приключение сойдет ему с рук. Ей бы помолчать, старой козе, и вкусить от запретного плода, вернее, кочана, доставшегося по ошибке. Небось переполошила весь дворец. Теперь пожалуется Елисавете Алексеевне, та – государю, начнется дознание, и, как всегда, подозрение падет на лицеистов. Ему не выкрутиться, да и не умеет он врать.
В парке было сыро и солнечно. Чесменская колонна то исчезала, то вычернивалась в реющем тумане. От пруда тянуло холодом. А высокая лестница Камероновой галереи купалась в солнечных лучах, косо падавших из прозоров меж ветвями старых рослых лип. Не чувствовалось даже слабого ветерка, а листья лип ворочались на черенках, подставляя солнцу то лицо, то рубашку. И уже поблекли пурпурные и лазоревые цветы медуницы, лесного копьеца, значит, всерьез взялась весна.
В стороне Китайской деревни, что за Малым Капризом, щелкал соловей. Да и не просто щелкал, а обучал бою и трелям молодого соловья. Старший был великим мастером, он даже в учебное, замедленное «тех, тех, тех» вкладывал поэзию, а молодой напоминал Илличевского – с легкостью подхватывал любую ноту, выводил любое коленце, но только пусто у него звучало, без тайны и чуда дивного птичьего сердечка, так созвучного сердцу человека. Где творился этот музыкальный урок? Похоже, в сиренях за обиталищем Карамзиных. И сильный полный голос соловья-учителя пронизывал утренний непрочный сон Катерины Андреевны, пошли ей счастья, боже, а мне смирения… Ты предала меня своему умному, образованному, безукоризненному мужу, отдала в его холеные, спокойные руки мое безумное письмо. И он ограничился отеческим внушением с усмешкой почти невысокомерной, но лучше бы он вонзил мне нож в сердце. Вы обошлись со мной, как с нашалившим мальчиком. Но я совсем не мальчик. Просто я не умею защищать свое достоинство, зато я умею помнить обиду. Но тебе я все простил, даже свое унижение, а ему не прощу достоинства. Ты ничего не поняла во мне, взрослая женщина. Бог тебе судья. «Быть может, ты восплачешь обо мне!» «Заплачешь», – поправился он. – Нет, «восплачешь», здесь – «восплачешь». Простота поэзии – это не простота прозы…
Он сам не понял, что заставило его мгновенно обернуться и замереть в заслоне толстого ствола. Спасающее движение опередило испуг. Прижавшись щекой к жесткой влажной коре, он с неправдоподобной, словно под лупой, отчетливостью увидел возле Камероновой галереи рослую, закутанную в плащ фигуру императора, треуголку, надвинутую на лоб ниже положенного артикулом, но все же не закрывающую бледно-голубых меланхолических и лживых глаз. Белые пухловатые щеки, маленький, надменный, с чуть всосанной нижней губой рот – каждую черточку этого сызмальства знакомого лица разглядел он с зоркостью, дарованной ненавистью.
Пушкин ненавидел Александра всеми фибрами души, ненавидел его двоедушие, позерство, удачливость, глухоту, люто ненавидел этого плац-майора под личиной либерального монарха, сентиментального отцеубийцу и первейшего лукавца Европы.
Самодержец вел себя странно, он явно хотел остаться неузнанным. Пожалуй, слишком явно. Скрывайся он всерьез, все выглядело бы иначе: можно так закутаться в плащ, что тебя не то что издали, а нос к носу никто не признает, если к тому же заменить примелькавшуюся всем треуголку гусарской фуражкой. Можно, наконец, прятаться за деревьями, а не лезть на свет и не озираться так часто, с таким наигранным, но соблюдающим достоинство смущением. Императору отлично известно, что не только лицеисты, но и дворцовые служители, дежурные офицеры, расквартированные в Царском Селе гусары и уланы ходят в царские сады, как к себе домой, назначая там свидания фрейлинам, актрисам, служанкам, дочкам городских обывателей и даже почтенным супругам их, и весь его условный маскарад гроша медного не стоит, да и не маскируется он вовсе. Во всем лукавед и паяц, он хочет попасться кому-то на глаза и стать героем передаваемой на ушко сплетни, что у галантного императора опять завелась интрижка.
И Пушкин поклялся никому не говорить, что видел Александра в образе любовника, спешащего на свиданье. Это будет моей местью. Фальшивое видение умрет во мне, и твой обер-сплетник врач Вилье не нашепчет тебе о щекочущем самолюбие слушке. Кстати, почему в царской семье говорят: «врач пользует»? Откуда такая галантерейщина?! Лечит, лечит, врач лечит, господа, а не пользует! Смутное недовольство, испытанное им у Натальи, определилось: в столице государства Российского никто не умеет говорить по-русски – от крепостной горничной до императора, от лицейского стихоплета до первого барда все врут в языке, безжалостно и беспардонно. И все ж язык не умер. Натуральная русская речь, мудро и неспешно обогащаемая общим течением жизни, сохранилась вблизи своих истоков… Ах, господи, стоит ли трудить всем этим душу в такое чудесное утро!..
Пушкин быстро зашагал, а потом побежал по дорожке вдоль озера, свернул на росную тяжелую траву, забрызгавшую до колен его светлые панталоны, перепрыгнул через скамью и оказался в липовой аллее. Он чуть задержался у Девы, разбившей кувшин, и в который раз подивился изяществу ее горестной позы.
Теперь он мчался по аллее, ведущей к искусственным руинам. Солнечная полоса сменялась тенью, кожа успевала почувствовать прикосновение теплого луча и склепий холод, где застило деревом. Он бежал все быстрее, наслаждаясь ветром у висков и хрустом песка под башмаками и ничуть не боясь, что его обнаружат. На нем была шапка-невидимка, он мог не только носиться по аллеям парка, но и вбежать во дворец, проникнуть в царскую опочивальню и наполнить ночную вазу играющего в блуд императора.
Достигнув опрятных руин, созданных дисциплинированным гением одного из царскосельских зодчих, он повернул назад к пруду, но теперь бежал вдоль аллеи, по траве и желтым цветам. Как быстро менялось все в природе! За немногие минуты трава успела обсохнуть, лишь в манжетках покоились серебристые расплющенные капли росы, туман рассеялся, и обвитый цепями и стрелами Чесменский столп гордо вознесся над водой, заблиставшей всем зеркалом. И в миг наисильнейшего восторга перед утром и солнцем, перед всем весенним напрягшимся миром и своим причастием чуду жизни Пушкин вдруг ощутил свинцовую усталость. Колени подогнулись, он почти рухнул к сухому изножию развесистого клена.
Случалось, он засыпал легко и быстро, с ощутимым удовольствием погружаясь в сон, но такого блаженства никогда еще не испытывал. Он словно возвращался в защищенность и безответственность своего предбытия. Он был свободен, чист, ничем не обременен, покоен высшим покоем животной безгрешности. Он никогда еще не прятался так хорошо от окружающих и самого себя, как в этот сон посреди разгорающегося царскосельского утра.
Там его и взяли…
Не стражники, не дворцовая прислуга, не первые праздношатающиеся.
Деревья – они были зачинщиками. Они окружили его, шевеля листвой, скрипя сучьями, потрескивая нутром стволов. И он услышал их мольбу: «Назови нас, назови…» – «Но вы же названы», – удивился он и затосковал во сне. «Не так!.. Не так!.. – мучились деревья. – Наши имена забыты…», «Я вяз, Пушкин, а не дерево» – «А я – клен!..» – «А я – липа!» – «Я – береза!»
Но едва он начал привыкать к грустным и добрым голосам деревьев, как послышался змеиный шип, и малая трава вокруг, обернувшись бескрайним, колышущимся волнами, как в предгрозье, то взблескивающим, то притеняющимся полем, засипела: «И траву не забудь, Пушкин! Я не трава-мурава, я вся разная. А мурава – спорыш!» И зазвенели цветы, зажужжали летучие и ползучие насекомые, и кто-то черный подковылял на широко расставленных ногах и, зыркнув железным зраком, прокартавил: «Я ворон, ворон, а не вран, и я сам по себе, а не вороний муж». И разные морды высовывались из-за деревьев, пялились из травы, нависали с сучьев. Всяк требовал себе настоящего имени, всяк хотел быть назван по существу своему и достоинству, и пруд возжелал из глубины громадного чрева быть поименованным по чину, и сизое облако, и само солнце, и – ради этого на миг посмерклось небо – все ночные светила, а дальше пошло такое, что хоть в голос кричать: «Стойте!.. Пощадите!» Не только живые создания, предметы и явления, но сами обиженные слова долбили в мозг нищенской клюкой, все сущее и подразумеваемое, и называющее суть хотело стать самим собой, воплотиться в точное, не искаженное, не униженное косноязычием иль чужеземным налетом слово. И все верили, что ему, спящему мальчику, под силу этот титанический труд.
Он отринул от себя всю душную наваль и вырвался из сна. У него были мокрые глаза. Он вытер их рукавом и вдруг заплакал. Отчего? От провидения судьбы и ноши, ему уготованной? Эта ноша была непосильна его юношеским плечам. Ему хотелось жить, любить Наталью, поклоняться Карамзиной, писать легкие и дерзкие стихи, жалеть старых друзей и восхищаться новыми, побеждать на всех ристалищах, чувствовать в лопатках подъемную силу крыл, а не взваливать на себя грехи всех словообидчиков, не сумевших угадать имена населяющих мироздание. Почему он должен расплачиваться за чужую глухоту? Сблизить слова со смыслом, выловить в хаосе звуков истинные обозначения вещей и явлений, дать литературе живую речь, искаженную непрошеными зашельцами, церковниками, немецкими профессорами, – разве по плечу такой труд одному человеку?
Он плакал, потому что кончилось детство. Для тех, кто еще томился в душных спальнях на четвертом этаже лицейского здания, для юных честолюбцев, мечтателей, поэтов, умников и простофиль детство продолжалось, он один выделен судьбой. Прежде ему казалось, что детство кончилось, когда он впервые обнял Наталью в тесной ее каморке, но дух его остался волен. На нем не было ответственности, а лишь это и есть взрослость. И что бы он теперь ни делал, как бы ни бесчинствовал, ему не убежать от своей ноши. К трубочному табаку, к искрящемуся шампанскому, к обжигающему пуншу, к сладости женских губ будет примешиваться горечь взятого на себя – когда и перед кем? – обязательства…
…Не только близкие Пушкину люди, но и наблюдавшие его со стороны – в гостиных, на гулянье, в кругу друзей, за пиршественным или карточным столом – подмечали странную особенность поэта вдруг выпадать из окружающего, проваливаться в какую-то угрюмую бездну, куда не достигали голоса живых. И так сделалось с того царскосельского утра, с того вещего сна, когда кудрявый мальчик узнал, кто он и зачем явился.








