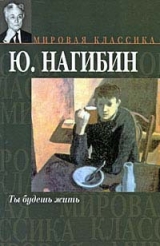
Текст книги "Ты будешь жить"
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Прекрасная лошадь
Я видел ее несколько раз, тем безотчетным, не посылающим в мозг четкого сигнала взглядом, каким мы чаще всего обходимся в повседневной жизни, защищая невыносливое сознание от жгучего обилия впечатлений. Нечто находилось в пространстве вокруг дома отдыха, не входя в положенный реестр; оно не было ни деревом, ни кустом, ни машиной, ни отдыхающим, ни землемером с теодолитом небольшая, компактная масса, проступавшая сквозь утреннюю туманную изморось и наливавшаяся сгустком тьмы в ранних ноябрьских сумерках. Для рассеянного сознания это вот «неположенное» сперва «находилось» на территории дома отдыха, затем потребовало для себя иных глаголов, признающих динамизм явления: оно «появлялось» и «исчезало», и наконец великим глаголом «жить» было возведено в ранг одушевленного существа: в нашем просторе, то рождаясь из света, то пропадая во тьме, жила лошадь.
Впрочем, тут у меня сдвиг, пропуск лошадь – это позже, поначалу же был призрак лошади. Да, мы узнали, что вокруг громадного корпуса дома отдыха, по необъятной и почти девственной территории, как-то ненадежно и неуверенно отобранной у леса, реки и поля, бродит призрак лошади.
Во всяком другом месте подобное открытие возбудило бы тревогу, брожение умов, но только не в этой подмосковной здравнице, самом странном заведении из всех виданных мною за долгую жизнь.
Двусмысленность была в самой основе «дома отдыха санаторного типа», ибо никто не ведал, в чем призвание громозда, выросшего не так давно с краю старой барской усадьбы: созидать или разрушать здоровье своих обитателей. Одни являлись сюда с простой путевкой и откровенным желанием «пожуировать жизнью», другие – с курортной картой и робкой надеждой, что тут им обновят тела и душу. А в храме здоровья неумолчно гремел праздник, звучала вакхическая песнь, и густые, подступающие к окнам дома леса служили прибежищем озорной любви.
Из леса являлись разные таинственные существа. Однажды поутру тонкий чистый снег, выпавший за ночь, оказался испещренным бесчисленными маленькими следами, которые невозможно было приписать обычным обитателям Подмосковья: лисицам, зайцам, кабанам, ласкам. Разгадку подсказало художественное чутье одной отдыхающей дамы. Томимая бессонницей, она поднялась на рассвете, отдернула занавеску, и ей почудилось, что по земле расстелена царская мантия. Образ подсказал отгадку, к дому приходили горностаи – белые с черными хвостиками, их шкурками некогда отделывали парадное царево платье.
Другой раз по залитой луной опушке леса металась тень гигантского рогача. Наверное, то был лось, но самого зверя никто не углядел, лишь стремительная тень промелькивала по лунной бледности земли и хвойника.
Старинная усадьба вносила свою мистическую лепту в здешнее бытие. Там был глухой парк, темные липовые аллеи, желтый облупившийся дворец с белоколонным портиком, старое кладбище, розовая барочная действующая церковь Всех скорбящих с ампирной колокольней. На кладбище, среди металлических ажурных крестов, под которыми осыпались могилы елизаветинских фрейлин и екатерининских вельмож, мигали ночами синие огоньки. Молва утверждала, что неугомонившиеся души фрейлин развеселой императрицы, покинув тесные обиталища, любезничают с душами галантных кавалеров любвеобильнейшего из всех монарших дворов.
Готовность к чуду была разлита в непрочном воздухе поздней осени, то крепком, на ранье каленом от сухо-студеного утренника, а днем прогреваемого солнцем до летней благоуханности, то квёлом, сопливом, сочащимся скользкой влагой. И когда появился призрак лошади, он естественно вписался в пейзаж, дружественный подлунному буйству теней и миганию потусторонних огоньков.
Но сейчас я прихожу к выводу, что подлинность лошади отвергали не из мистической настроенности, а из приверженности к житейскому правопорядку. Наша здравница отличалась терпимостью к животным. Внутри было полно кошек, а снаружи – собак. Но кошки – маленькие существа, к тому же с четкой служебной функцией, нередко обитают в учреждениях на полулегальном положении и даже множат род четвероногих клошаров, бродячие собаки могут находиться у хлебных человечьих стойбищ, пока о них не вспомнят – обычно в пору буйных свадеб – и не отдадут на отстрел собачникам. Но чтобы жила ничейная, вольная лошадь, какой-то одинокий, независимый гуигнгнм, – это не укладывалось в правовом сознании еху. Вот почему ее проще было считать призраком, нежели тварью из плоти и крови. И все-таки настал день, когда силуэт загадочного коня обрел трехмерность, четкую живую окраску, суету мелких движений плоти, ежемгновенно приспосабливающейся к среде, и пришлось отбросить самообман – возле нас существовала лошадь, которая ходит сама по себе.
Я люблю лошадей с раннего детства, с большого московского двора, приютившего винные подвалы, куда гривастые битюги доставляли груженные бочками подводы, с ночного в рязанском поле на краю сухотинских яблоневых садов, с лихих московских извозчиков, гонявших по кривым улицам списанных с ипподрома рысаков. Но как же редко доводится мне теперь видеть лошадь! И вот она пришла, словно из дней детства, но что-то непонятное мешает мне приблизиться к ней.
Ее одиночество являлось преградой, которую я не осмеливался переступить. В почтительном отдалении я наблюдал, как неспешно и сосредоточенно обирает она осеннюю траву, где бурую, с редкими прожилками живой зелени, а где изумрудную, напоенную сладким соком; как замирает в дремоте или медленно бредет куда-то, отгоняя взмахами коротковатого хвоста прилипчивых осенних мух.
Порой на огнисто-черном закате или в утреннем, просквоженном алостью тумане простая рабочая скотинка превращалась в сказочного коня – громадного, скульптурно-совершенного, равно готового к неистовой ковыльной вольной скачке и к подчинению забранной в железа богатырской руке, правящей на врага, и к звездному полету с отважным Иванушкой на спине…
А потом началось мое приближение к лошади. Медленное, неравномерное, прерывистое, но неизменно наступал день, когда с поворотом прогулочной тропки я оказывался ближе к лошади, занятой терпеливым трудом насыщения и деликатно непричастной окружающей жизни.
А потом лошадь вышла из глубины пейзажа и стала пастись вдоль дорожки, ведущей к старинной усадьбе, церкви, кладбищу. И я оказался так близко от нее, что почувствовал слабый запах мокрой шерсти. Эта дикарка была на редкость ухоженной: хвост подрезан и расчесан, так же расчесаны густая грива и челка. Обрызганные утренней влагой копыта опрятны, не заскорузлы и освобождены от подков. Надраенный скребницей круп сыто блестит. Чист и промыт был глянувший на меня полный, сферический, темно-лиловый глаз, вобравший в свою прозрачную мглистую глубину весь окружающий простор с моей крошечной фигурой на переднем плане. Красив и значителен был мир, отраженный в ее большом, глубоком и добром зрачке, а вот другой глаз ничего не отражал – тусклый, затянутый голубоватым бельмом, он мертво пялился в пустоту. Лошадь редко и крепко моргала своим живым глазом, а мертвый глаз не мог себя защитить, даже когда к нему приставала травинка или муха начинала биться в моллюскоподобный сгусток под щеточкой ресниц с поседевшими кончиками.
Но, странное дело, бельмо не уродовало лошадь, а прибавляло ей достоинства. Природный ущерб не помешал ей выполнить свое жизненное назначение; крепко поработала старая на своем веку и награждена нынешним привольем.
Это была не простая деревенская лошадь. В ней чувствовалась порода, хотя не знаю, какие крови слились, чтобы создать такое милое существо. В ее предках несомненно значились тяжеловозы, от них – массивность груди и крупа, крепость ног с мохнатыми бабками, ширь непровалившейся спины. Но не бывает таких маленьких тяжеловозов. Нерослая и коротенькая, она казалась помесью битюга с пони. Впрочем, такое сочетание невозможно, как помесь сенбернара с болонкой. Мощь и миниатюрность на редкость гармонично уживались в ее стати, и красива была жаркая гнедая масть.
Тут ее заметила большая рыжая собака с темной мордой и решила выслужиться перед своими кормильцами. Ведь появление бродячей лошади возле торжественного входа в главный корпус – явный непорядок. Собака подбежала к лошади и деловито облаяла. Лошадь продолжала спокойно пощипывать траву. Тогда собака залаяла громче, злее, морща храп и скаля желтые клыки. Она разжигала себя, но лошадь, столько видевшая на долгом веку своим единственным оком, не придала значения этому деланному ожесточению. Ее невозмутимость озадачила собаку. Она перестала лаять и несколько раз крутнула хвостом, словно прося у кого-то прощения за несостоявшееся представление, и тут заметила, что за ней наблюдают. Шерсть на загривке стала дыбом, она зашлась визгливым лаем, забежала сзади и попыталась ухватить лошадь за ногу. Лошадь не видела ее, собака зашла со стороны ее мертвого глаза. Подумав, лошадь угадала ее местонахождение, повернулась и старательно, как и все, что она делала, кинула задними ногами. Попади она в собаку, той пришел бы конец. Но лошадь вовсе не хотела причинить ей ущерб. Собаке вздумалось поиграть в бдительную и самоотверженную службу, лошадь без охоты, но добросовестно подыгрывала ей. В промежутках между схватками лошадь продолжала щипать траву, тихо удаляясь от дома отдыха. Наконец собака посчитала свою миссию выполненной, тявкнула раз-другой и побежала гарцующей походкой к стае рассказать о своей победе.
Мое восхищение лошадью еще возросло. Она попала в глупую и докучную историю, но вышла из нее с замечательным достоинством…
Покинув свою таинственную даль, незнакомка стала обычной жующей, хрумкающей лошадью, но печать загадочности осталась. Чья она, почему гуляет одна, где хочет, без надзора и ограничений, положенных каждой приобщенной цивилизации особи, будь то животное или человек, куда уходит на ночь, откуда и когда возвращается?..
Некоторые отдыхающие попытались вступить с лошадью в более тесные отношения, но она не шла на сближение, не принимала ни сахара с ладони, ни черного хлеба, скромно довольствуясь осенней травой. Долгие годы возле людей научили ее мудрой осмотрительности. В отличие от глупых и доверчивых собак, она знала, что добровольцы порядка строго следят за распределением государственного продукта, учитывая каждый кусок, идущий по назначению. Лошадь не понимала другого, – что сама безнадзорность ее была вызовом правопорядку.
Звуковой фон нашего мирка был многообразен, он источал рокот голосов, скрип шагов, хлопанье дверей, плеск воды в бассейне, звон стаканов в баре, костяной стук бильярдных шаров и глухо-тугой – теннисного мяча, музыку, выстрелы с экрана телевизора, обвальный грохот из приоткрывшейся двери кинозала, мгновенно отсекаемый, но длящийся эхом обрывок песни, смех, зовы… Провал мгновенной тишины тоже был озвучен высоким чистым звоном, вновь принимавшим в себя рокот, скрипы, шорохи, шепоты, взрёвы… Из хаоса звуков слух выхватывал отдельные слова, фразы. Все чаще слышалось: лошадь… лошадь… лошадь… Приковалось к страннице бездельно-цепкое внимание отдыхающих Доброжелательное, с теплым удивлением, а мне тревожно стало. Из доброго хора нет-нет да и вырывалось:
– Не положено…
– А может, ее ищут?..
– А что, если больная?..
– …Ящур, сап, бешенство…
– Глаз у нее плохой…
– …Бельмо? А если трахома?..
– Ежели каждая старая кобыла…
– …Травы не хватит…
А потом я заметил, что исчез кошачий помет из верхнего, не обжитого отдыхающими громадного холла, который я пересекал по пути в столовую, и понял, что кошек ликвидировали… А вскоре тишина и пустота за входными дверями оповестили о другой пропаже: не стало милых вечно голодных бродячих псов, что сбегались сюда в обеденное время в надежде на подачку. Ловко их отловили, втихаря. Мне подумалось, что кто-то не вовсе злой выкупает этими подачками жизнь бездомной лошади. Та же мысль, как позже выяснилось, промелькнула во многих головах. А когда лошадь вдруг исчезла, все заговорили разом, что ее застрелили по наущению какой-то вездесуйной сволочи.
Но она вернулась – и не одна. С ней пришел лесник, сильно пожилой, крепкий, поджарый человек в зеленой лесной форме, фуражке с бляхой и болотных, подвернутых ниже коленей сапогах. Был он рыже-сед, веснушчат, с седыми желто-обкуренными усами. Его съежившиеся от чащобного охлеста прозрачно-зеленые глаза добро улыбались из глубоких глазниц. Прочный, надежный в каждой жилке, морщинке, движении, слове трудовой человек, что обратил опыт долгих лет в доброту, в уверенное приятие жизни, которую он, видать, умеет принуждать к справедливости.
– …Да что вы, ей-богу! – насмешливо говорил он (я попал на продолжение его разговора с отдыхающими). – Кто же позволит ее стре́лить? Да и кому Маруська мешает?
Заведя руку назад, он погладил лошадь по крутой, твердой скуле. Она стояла за ним, упираясь головой ему в спину и дыша родным запахом.
– Без малого двадцать годов мы с ней вкалывали. А сейчас пусть гуляет, заслужила бессрочный отпуск.
– А ничего, что она., так вот… ходит? – спросил кто-то.
Лесник ответил не сразу, улыбка его стала чуть напряженной, он хотел сообразить, в чем смысл вопроса: в опасении за лошадь или в неодобрении Маруськиной вольности? Верх взяла вера в добрые намерения людей. Он сказал посмеиваясь:
– Да кто ее обидит? У кого подымется рука на старую заслуженную лошадь?.. Маруська умная и вежливая, она не полезет куда не надо, сроду не напачкает, от нее никакого вреда.
– Вы уж поберегите ее! – попросила круглолицая старушка с гвардейским значком на шерстяной кофте.
– А как же! У нас, окромя друг друга, никого нету. Разве что лоси да кабаны! – совсем развеселился лесник. – Пошли, – сказал он Маруське. – Людям отдыхать надо.
– Вы все-таки отпускайте ее к нам, – попросила гвардейская старушка.
– Есть отпускать! – засмеялся лесник, прикоснулся пальцами к околышу фуражки и пошел в свой лес, а Маруська поплелась следом.
Обрадовал всех разговор с лесничим, никто и внимания не обратил, что старая Маруська прикрыта от судьбы лишь худым плащом лесниковой доброты, а не Законом. Нет охраняющего закона для старых прекрасных лошадей… И никто не обратил внимания на полуторку, проехавшую в лес мимо главного корпуса дня через два после умилительного собеседования. В кабине рядом с водителем сидел милиционер, а в кузове два парня с широкими скучными лицами. Никто не придал значения и слабому выстрелу, ватно щелкнувшему в сыроватом просторе. Но, когда полуторка катила назад, многие заметили, что торчащие из кузова четыре толстые коричневые палки были не палки – ноги убитой лошади.
И тут забили набатно давно снятые колокола церкви Всех скорбящих. Чугунными языками оповестили миру о совершенном зле. И никто не поверил Всезнайке, утверждающему, что это отзвончивый гуд набравшей силу электрички. За логом и верно находилась молочная ферма, но почему ее не было слышно в другие дни?..
Как бессильно добро и как действенно зло! Добрый старый лесник не смог защитить свою прекрасную лошадь. Добрые, растроганные люди из дома отдыха спасовали перед ядовитым ничтожеством, «запятой» – такое было название у Лескова для невидимых и губительных, как бациллы заразных болезней, носителей зла.
А стоит ли подымать шум из-за старой, полуслепой, бесполезной лошади? – скажет какой-нибудь здравомыслящий человек. Но это была прекрасная лошадь… И потом, меня беспокоит будущее. Помните, у Рея Брэдбери, чем обернулось в расцвете цивилизации поврежденное в доисторические времена крылышко бабочки? А тут не мотыльковое крылышко, а Лошадь, Прекрасная Лошадь, погубленная не случайно, а сознательно. Что, если через миллион лет из-за этого расколется земной шар? Земной шар, населенный лучшими, чем мы, людьми?
Ну, никто так далеко не заглядывает.
А надо бы…
Страдания ценсора Красовского
Ценсор Красовский, фигура печально приметная в русской литературной администрации первой половины прошлого века, вел дневник. Быть может, самый загадочный дневник в мире, ибо при наиуглубленнейшем размышлении невозможно понять, зачем он это делал. Во всяком случае, не для того, чтобы закрепить в собственной памяти или в назидание потомству события своей усердной службы и однообразной жизни. А ведь он встречался с особами царского дома, выдающимися военачальниками, сановниками, видными деятелями дней Александра и Николая, а также со знаменитыми писателями, о чем даже не упоминает. Тщетно искать в его дневнике значительных примет времени, описаний лиц и событий, внимание литературного Цербера сосредоточено лишь на приснившихся ему снах и состоянии желудка. Не будем голословны. Вот несколько наудачу взятых записей за 1848 год, когда Красовскому было шестьдесят семь лет и он собирался отметить пятидесятилетие своей ревностной службы по удушению литературы. Впрочем, сам ценсор в существо своей службы не вникал, применяя к ней лишь мерки исполнительности, усердия и долголетия.
«1848,
Благослови, Господи, Творче веков, наступивший 1848 год и не отними от меня Твоей помощи. Продолжи милость Твою, Долготерпение!
Благодарение Создателю и Промыслителю, сон был хорош от 1-го до 5-го часа. Во сне видел протоиерея Михайловского дворца Семена Александровича, желавшего дослужить некоторое время с отставки, и еще что-то. Отправление желудка было обыкновенное в 10 ч. Ужинал в 9 ч. и на ночь лег спать в 12 ч.
Благодарение жизнодавцу Христу, нас ради крестившемуся от Иоанна в водах Иорданских. Сон был хорош от 11-го до 3-го и потом до 6-го ч. (во сне виделось что-то в дороге, на каком-то постоялом дворе, и после завтрака из молочного кушанья увидел Неву и впадающую в нее речку; потом Е. И. Ильмер, уходившую от меня, потом остановившуюся с какой-то старушкой). Отправление желудка было порядочное в 11 ч.
Помяни, Господи, кроткую душу рабы Твоей княгини Татьяны; даруй ей покой чистых сердцем в Твоем лицезрении! Благодарение Богу, сон был хорош от 2-го до 4-го и потом до 7-го и не прерывался (во сне виделись цензурные дела и В. Д. Комовский) и проч.».
Эта ничем не примечательная запись потом вспомнится Красовскому, когда он станет отыскивать причину надвинувшейся на него невзгоды, омрачившей безмятежные, исполненные радужных надежд дни в канун приближающегося юбилея: семнадцатилетним юношей вступил он в государеву службу при несчастливом монархе Павле Петровиче, царствие ему небесное!..
«Благодарение Господу, сон был хорош от 1-го до 4-го или до 5-го ч. (Во сне виделся город Ревель и в нем небольшое возвышение, с которого я опускался в воду и искал башмаков или обуви, чтобы перейти по воде на другую сторону; мне дал какой-то мужик, с красным наростом на носу, башмаки деревянные, большие, с соломой, и за них требовал 2 к. серебром.) Отправление желудка было в 10 ч. обыкновенное.
Благодарение Долготерпеливому, сон был крепкий от 12-го до 6-го ч. (Во сне виделся Зимний дворец, в котором я надел на себя одежду с орлами ливрейными, ожидал фельдмаршала князя П. Ф. Варшавского, бывшего внизу у своей супруги. Еще видел верхний этаж дома графа Строганова, деревянный, круглый; еще какие-то слова духовного содержания, писанные мною на стене.) Отправление желудка было в 11 ч. порядочное».
А вот где обнаружились первые симптомы неблагополучия:
«Помяни, Господи, душу раба Твоего митрополита Серафима. Благодарение Спасителю и его святому Антонию великому, сон был хорош от половины первого до четвертого и пятого ч. (Во сне виделось, что я на Каменном острове, в мундире и ленте; потом собираюсь в Новую или Старую деревню на похороны, снимаю мундир и ленту, надеваю черный фрак и, не зная, где взять круглую шляпу, просыпаюсь.) Отправление желудка было порядочное и обыкновенное в 10 ч.; в 12 часов ночи необыкновенное(разрядка моя. —Ю.Н .).
Помяни, Господи, душу раба Твоего благочестивейшего, государя императора Петра 1-го, преставившегося в вечность в сей день 1725 г. Даруй ему покой от земных трудов в Твоем бесконечном царствовании с праведными царями. Еще благодарю Тебя, Господи, за явленные мне Тобою милости от сего дня 1832-го доныне. Благодарение Богу, сон был хорош. (Во сне виделись: чей-то гроб с телом, уже попортившимся и закрытым; еще какой-то огород, еще кто-то в платье сером, и темный сюртук, и еще что-то.) Отправление желудка было в 5 и 10 ч. не так порядочно и в 11 и в 12 вечера хуже, может быть, оттого, что утром принимал магнезию».
Красовский обманывает себя: что значит магнезия для луженого бурсацкого желудка, в котором и долото сгниет? Пищеварительный тракт реагировал на смятение духа.
«Благодарение Господу, сон был хорош от 12-го до 7-го ч. (Во сне виделись преосвященные Илиодор и Иннокентий, последний подающий мне книгу в переплете, и митрополит Антоний, отказывающий мне дать для целования крест, чем я был смущен.) Отправление желудка было поздно, в 4 ч. пополудни, несколько трудное и в малом количестве. После обеда уснул от слабости часа три…
Помяни и упокой, Господи, души рабов Твоих, родителей моих, братьев, сестер, сродников, друзей, благодетелей и всех православных христиан, отошедших от сей временной жизни к вечной, и даруй им вечное блаженство! Благодарение Богу, сон был хорош от 12-го до 3-го и потом до 7-го ч. (Во сне виделись: князь Александр Николаевич Голицын и его книги и ландкарты, ценсурованием которых я должен был заняться; еще Иван Иванович Ястребцов; еще Василий Иванович Копылов, говорящий о дешевизне в Сибири и проч.) Отправления желудка почти не было(разрядка моя. —Ю.Н .), в 7 вечера малое».
И грянуло самое страшное:
«Благодарение Подающему, сон был хорош от 1-го до 6-го и 7-го ч. (Во сне виделись Варшава, княгиня Варшавская и несколько приветливых поляков.) Отправлений желудка не было(разрядка моя. —Ю.Н .)…»
Сколько в этих разреженных буквах скрытого страдания мужественной натуры, не привыкшей жаловаться да и не имеющей кому пожаловаться. Был ценсор Красовский холост, а некоторые вдовы и одна кума, которых он изредка навещал, сохраняя и в преклонные годы значительную телесную крепость – дар чистой, воздержанной, чуждой каким-либо излишествам жизни, – едва ли годились для такого рода признаний. Жена, как говаривал Пушкин, свой брат, ей все можно сказать, она не смутится, не скривится, все поймет, озаботится пуще, чем собственным недомоганием, и поможет. А с этими только о приличном да красивом говори.
Нам (впервые с горделивым чувством применяет автор это множественное число для обозначения своей личности, хотя немало писано им о днях минувших, но в сугубо беллетристическом роде, в этом же небольшом произведении он выступает не только как повествователь, но и как историк-исследователь), так вот, нам довелось проделать громадную работу, чтобы по крупицам реставрировать картину болезни и выздоровления ценсора Красовского. В смысле течения недомогания дневники его дают достаточный материал, не ограничиваясь пищеварением, они подробно излагают, как омрачались, перепутывались, превращались в кошмар его чистые, стройные сны о святителях православной церкви, императорской фамилии, достославном князе Варшавском, министрах и сенаторах. А дальше пошло еще хуже: ему стали сниться отхожие места, которые он отыскивал в незнакомых домах через лакеев, Вольтер и Семилетняя война. Перепуг больных сновидений оплел и священную фигуру императора: «Во сне виделся государь, говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием головы на мой низкий поклон. Еще снилось приготовление какими-то двумя аптекарскими учениками при дворе порошков и хождение мое по доскам строящегося здания в верхнем этаже, с которых я чуть не упал».
Тема падения-беды повторяется: «…виделась какая-то женщина, которую, по желанию, бросали вверх и которая, сделав круг, обращалась на дно какого-то судна, невредима; еще иглы с большими ушами, в которыя мне доставалось вдевать проволочную нитку…»В ночных видениях ценсора Красовского проглядывает Кафка.
В одном долгом сне, прерванном желудочными страданиями, ему снился сперва «…покойный Ив. Андр. Крылов», которого он «потчевал в своей столовой, у комода, нижней сладкой корочкой белого хлеба», потом «…какие-то молодые люди, говорившие о наградах орденами и не заслужившие знаков отличия беспорочной службы на 15 лет…».
Даже какая-то непочтительность появилась в его верноподданнических снах: «…виделась нечаянная встреча с лишившимся престола французским королем, которого я хотел угостить в трактире за свой счет и представил ему моего батюшку, как протоиерея и члена Русской Академии…»
Картина смятенного духа и смятенной плоти вырисовывается весьма отчетливо, и в этом смысле для историка нет никаких затруднений, но о причине охватившего его беспокойства, перешедшего в мучительную тревогу, разрушившую его пищеварение, Красовский не говорит ничего. Путем сложнейшего и тончайшего анализа, для чего понадобилось на годы зарыться в архивы и спецхранилища крупнейших библиотек, нам удалось раскрутить эту историю. Более того, мы убедились, что Красовский и сам понимал, что хворь шла от головы, сообщалась желудку, претворялась в дурные сны, а расстроенное пищеварение и ералаш бредовых, а порой прозрачно грозных снов усугубляли страдания ума и души.
Нить нам дал сам ценсор вполне невинным вроде бы упоминанием имени чиновника Министерства народного просвещения Комовского. Этот сухонький, легкий на ногу преуспевающий чиновник-втируша был лицейским другом Пушкина. Вернее, считался таковым за давностью лет, ибо настоящей дружбы между двумя мальчиками, схожими лишь вертлявостью и живостью движений, никогда не было. Пустой, хитренький, склонный к подслушиванию и ябедам, Комовский, прозванный Лисичкой, не вызывал у Пушкина ни симпатии, ни интереса. И странно, что Комовский оказался верным и постоянным участником всех лицейских встреч. Но ведь и такой чинуша (переросший в сановника), как Модест Корф, верноподданный до мозга костей, напрочь чуждый лицейскому духу, тоже усердно хаживал на юбилейные сборища лицеистов. Конечно, главным магнитом этих встреч был Пушкин, хотя мало кто признавался себе в этом, но, видимо, каждому человеку в тайниках души хочется приобщиться вечности.
Эта преданность юной памяти сблизила воспитанников Энгельгардта сильнее, чем годы безмятежного расцвета в царскосельских садах. Ну, а для публики, начитавшейся лицейских од Пушкина, не было сомнений, что лицеисты первого выпуска наипреданнейшие друзья. В исходе же сороковых на всех, кто как-то прикасался к Пушкину, лежал его отсвет. И Красовский, знавший лицейский расклад лучше многих, тоже считал Лисичку близким другом Пушкина.
Служа по разным ведомствам, чиновники сталкивались не часто, и хотя Комовский вел себя лояльно, Красовский ему не доверял, всегда ждал каверзы, каждую встречу с ним воспринимал как дурную примету, хуже попа нос к носу, пустых ведер и косого через дорогу. А дело опять же в Пушкине, которого Красовский ненавидел всей своей угрюмой, темной и вялой душой, вроде бы неспособной к сильным чувствам. Пушкин преследовал его злыми остротами, эпиграммами – раз «дураком» назвал, другой «подлецом-поповичем», не упускал случая унизить в глазах света.
Ничего примечательного во встрече с Комовским не было: раскланялись, перекинулись двумя-тремя словами о поправках к ценсурному уставу, о дурном характере Уварова – об этом, правда, один Комовский болтал, провоцировал, да не на таковского напал, что еще?.. Да ничего вроде. Комовскому было под пятьдесят, он сохранил сухощавую легкость, хотя Лисичкой уже не назовешь, нет былой гибкости, верткости в членах, подагра не обошла любителя шипучих вин, но хитролисье в нем осталось, даже сильнее проступило в заострившихся чертах тонкого лица с длинным хрящеватым носом. Но как он ни хитер, ни пронырлив, а большой карьеры покамест не сделал, думал Красовский, хотя этим молодым все проще дается, да ведь и не с нуля начинал, уже из лицея с чином вышел.
Нет, что-то еще сказано было: о каких-то чиновниках, обойденных повышением (после в тяжелом сне отыгралось), о его близящемся юбилее. «Андреевскую ленту ждете?» – хихикнул Комовский, а чего тут смешного? Над такими вещами подшучивать вообще дурной тон. Андреевской ленты он не ждал, не такая у него должность, но разве не заслужил он высокой награды за полвека беспорочной службы? Конечно, заслужил. Да ведь кто заслужил и ждет, тому ничего не выпадает. А кто не заслужил и ничего не ждет… Таких не бывает: каждый считает себя достойным самых высоких отличий; кто помельче лелеет мысль о чине невздорном, а какой статский не видит себя генералом?
Тон Комовского не понравился. Лисичка что-то вынюхал, конечно, дурное, и за доброжелательными расспросами скрывалось злое торжество завистника, проведавшего о твоем провале. Вспомнились Красовскому и участившиеся за последнее время подковырки от графа Уварова, и вообще-то не больно к нему благоволившего. Стал бы этот царедворец уязвлять человека, которому значительная от государя награда предстоит? Навряд ли. Уваров – жесткий, злой, мстительный, но Красовский ему ни в чем не помеха, а даром ожесточать человека, пользующегося благосклонностью государя, тоже не в его правилах. Он знает, кого язвить, одергивать, ставить на место, а с кем и поостеречься. Но если тебя обошли, нечего с тобой церемониться. Нет ли связи между ухмылочками Комовского и придирками графа? Все может быть!..
Но за что же с ним так?.. Уж он ли не… А кого этим разжалобишь? Недавно он запретил богохульные сочинения Вольтера, а кто-то напомнил императору, что его бабка, великая государыня Екатерина, состояла в переписке с фарнейским умником. Государь изволил обозвать ценсора болваном. И сразу – пиявки на уши, кислый стул, сердечное недомогание. А ведь император, поди, не раскрывал Вольтера, а раскрой – в ужас пришел бы. Вольтера, значит, нужно было разрешить, а как взгрели ценсурный комитет за допущение к продаже «крамольной» книги о подагре, выписанной из Берлина Смирдиным! Чем это медицинское сочинение угрожает видам и негоциям Российской империи?
Другим и не такие промахи прощают, а ему каждое лыко в строку ставят, любую оплошность муссируют, ибо с легкой руки Пушкина утвердилась за ним слава неуча и дурака.
Не было ничего удивительного, что, пытаясь разобраться в своей незадаче, Красовский пришел к Пушкину. Уже сосредоточившись на Комовском, он догадывался: дело не в старом лисе, а в его лицейском дружке, что непременно высунет ценсору лиловый негритянский язык. Языка Пушкина Красовский не видел, но был уверен, что африканской породе положен лиловый язык. Конечно, Пушкин лишь на одну восьмую эфиоп, но русская кровь примесей не любит, и если кто из предков не соблюл чистоты, то будешь ты уже не русский, а инородец.








