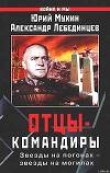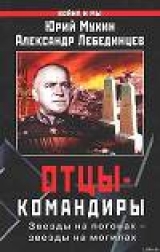
Текст книги "Отцы-командиры Часть I"
Автор книги: Юрий Мухин
Соавторы: Александр Лебединцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Глава 4.
Жизнь на фронте в наступлении
Формирование
В штабе дивизии взяли мое направление из армии и на ту же должность написали направление в 48-й стрелковый полк. По прибытии я представился начальнику штаба полка капитану Осипову. Прочитав направление, он объяснил мне, что штаб полка создается на базе штаба отдельного мотострелкового батальона бывшей бригады и первый помощник начальника штаба (ПНШ-1) автоматически перешел с ПНШ батальона. Это лейтенант Ламко Тихон Федорович. Осипов предложил мне две должности других помощников: или начальника разведки или помощника по тылу. Несмотря на имеющийся опыт по организации разведки, я, подумав, решил дать согласие на последнюю должность, так как с сорок первого года у меня вызывало дрожь извечное: «Разведчик, когда будет «язык»?» Эта фраза стояла у меня в ушах как проклятие. Я это так прямо и высказал начальнику, и он решил оставить меня ПНШ по тылу, оговорив сразу, что я буду помогать ПНШ-1. За этим дело не стало, и он сразу же поручил мне сделать план проведения ротных тактических учений с боевой стрельбой , так как Ламко совершенно об этом деле не имел понятия, ибо даже не заканчивал курсов младших лейтенантов.
Он был комсоргом отдельного батальона в сержантском звании и за боевое отличие был пожалован званием младшего лейтенанта. Поскольку он имел законченное среднее образование, его выдвинули на должность помощника начальника штаба отдельного батальона, в таком качестве он автоматически и остался при переформировании батальона в полк. Из меня тоже методист был не ахти какой, но я хотя бы знал воинские термины по Боевому уставу и порядок проведения занятий, хотя и не с боевой стрельбой, которых в программе училища просто не было.
За сутки я разработал план проведения занятий, сделал расчет боеприпасов и мишеней. Фанеры для мишеней было не найти в то трудное время. Искали на свалках ржавые жестянки, дощечки и делали подобие мишеней. Патронов, снарядов и мин уже не жалели, лишь бы ликвидировать у солдат боязнь близких разрывов. Командир полка ничего решительно не смыслил в этом деле, получил замечания и разнос в моем присутствии от командира дивизии, а всю злобу потом вылил на меня. Командиры батальонов тоже ничего не знали о проведении ротных учений, тем более с боевой стрельбой. Но делать это было нужно, ибо на 50–60% наше пополнение вообще не стреляло из винтовки, так как в запасных полках этому не успевали учить, а кадровую службу многие не служили из-за незнания русского языка. Своим прямым обязанностям я не уделял внимания совсем, да оно и не требовалось, так как начальники служб тыла и делопроизводитель хозчасти знали свое дело. Помощник командира полка по снабжению капитан Коротких не особенно нуждался в моей помощи.
Через несколько дней капитана Осипова на должности начальника штаба полка сменил прибывший с курсов майор Ершов Василий Васильевич. Порядка представления в то время никакого не существовало.
Один пришел, другой ушел – и только. Кем он был раньше, что окончил – ничего мы о нем не знали, да и он о нас тоже.
Чтобы дальше вести рассказ о штабе, я должен подробнее остановиться на его организации. Командир полка имел штатного заместителя по общим вопросам и заместителя по политической части, ему же подчинялся и штаб во главе с начальником. Замы имели служебную категорию подполковника и оклад 1300 рублей. Начальник штаба тоже считался заместителем командира полка и, более того, только одному ему предоставлялось право отдавать письменные приказания от имени командира за своей подписью. В штабе полка имелись шесть помощников начальника штаба, сокращенно именовавшихся по номерам от первого до шестого.
Первый помощник (ПНШ-1) – по оперативной работе. В его обязанности входило вес и подсчеты боевой численности подразделений и на этой основе делать предложения об их боевом использовании. Вести запись боевых задач подразделениям при отдаче командиром устного боевого приказа. Составлять боевые донесения в штаб дивизии. Письменно оформлять все боевые распоряжения штаба от имени командира полка. Вести рабочую карту и журнал боевых действий полка. Вести учет и снабжение топографическими картами. Замещать начальника штаба в его отсутствие. Организовать службу оперативных дежурных и руководить ею. Это далеко не полный перечень его обязанностей, который сохранился у меня в памяти.
Второй помощник (ПНШ-2) являлся начальником разведки. Он планировал и осуществлял разведку противника путем наблюдения, захватом и допросом контрольных пленных, изучением боевых и личных вражеских документов. Он занимался укомплектованием и боевой подготовкой подчиненных ему взводов пешей и конной разведки. Он должен был всегда вести карту с данными о противнике и информировать начальника разведки дивизии.
Третьим помощником (ПНШ-3) считался начальник связи полка. Он имел в своем подчинении роту связи, состоявшую из штабного взвода, радиовзвода и телефонного взвода и обеспечивавшую проводной и радиосвязью батальоны и артиллерию. Он же руководил и работой батальонных взводов связи.
Четвертый помощник (ПНШ-4) имел в своем подчинении двоих делопроизводителей и нескольких писарей по учету личного и конного составов. Они вели книги учета, отдельно офицерского и личного состава, штатно-должностные книги, книги безвозвратных потерь, выписывали «похоронки», оформляли документацию к присвоению воинских званий, к награждению орденами и медалями, выписывали временные удостоверения и вели учет выданных знаков отличия. Они же вели всю отчетность по укомплектованию, по потерям в боевом составе.
Пятый помощник (ПНШ-5) должен был ведать вопросами тылового обеспечения и снабжения, но, по иронии судьбы, это был тот ПНШ, который занимался всем чем угодно, только не вопросами снабжения, так как начальники служб снабжения подчинялись непосредственно помощнику командира полка по снабжению. Все службы тыла находились во втором эшелоне полка, а ПНШ-5 в первом. Он использовался в зависимости от своей компетентности для выполнения поручений начальника штаба и его заместителя. Чаще всего он бывал оперативным дежурным и на посылках в подразделения.
И последний – ПНШ-6 – считался помощником начальника штаба по специальной связи. В его распоряжении находились кодовые таблицы для кодирования текста при передаче его по телефону и радио. Он же владел ключами для кодирования топографических карт, которые часто менялись. Он тоже был в штабе «на подхвате», так как посылать его в подразделения было опасно из-за наличия при нем таблиц кодирования.
Всем ПНШ, кроме ПНШ-6, полагались звания капитана с окладом 800 рублей, и только ПНШ-6 звание старшего лейтенанта с окладом на 50 рублей меньше. Кажется, в ноябре 1943 года до полков дошло изменение штатного расписания штаба, по которому статус ПНШ-1 повышался до майорского чина и оклад его увеличивался до 850 рублей. Он уже официально начал именоваться заместителем начальника штаба полка. Начальнику штаба подчинялся еще комендантский взвод, имевший 7 человек отделения охраны, хозяйственное отделение, поваров с двумя походными кухнями для штаба и подразделение боевого обеспечения.
Наиболее частыми гостями штаба полка были полковой инженер и начальник химической службы, подчинявшиеся непосредственно командиру полка, но постоянно работавшие в контакте с нами. Они имели в своем подчинении саперный взводи взвод химической защиты. Часто бывали в штабе старший врач полка и начальник артиллерии. Начальник артиллерийского вооружения полка, начальники продовольственной, вещевой, военно-технической служб, начальник финансового довольствия и полковой ветеринарный врач почти постоянно составляли второй эшелон полка, но нередко бывали непосредственно в штабе. Чаще всего и ПНШ-4 находился с ними во втором эшелоне вместе с Боевым Знаменем полка. Пишу об этом без ссылок на руководство, исключительно по опыту нашего полка.
Как я уже сказал выше, ПНШ-1 был лейтенант Ламко Т. Ф.; ПНШ-2-лейтенант Гусев Н. А.; ПНШ-3-капитан Лукянов П. С; ПНШ-4 – старший лейтенант Бирюлин С. И.; ПНШ-5 – я и ПНШ-6 – старший лейтенант Зернюк В. С. Полковым инженером был лейтенант Чирва, начальником химической службы старший лейтенант Расторгуев А. Д. Из всех вышеперечисленных только начальник связи и ПНШ-6 соответствовали своим должностям в воинском звании, а все остальные на одну-две ступени были ниже. В послевоенные годы категории всех вышеперечисленных ПНШ и начальников служб были подняты до майорского звания, за исключением ПНШ-5 и ПНШ-6, которые были просто упразднены за ненадобностью.
Соответствовали ли мы своим должностям? Скорее всего, нет, кроме чистых специалистов (связист, химик, сапер). Дело в том, что ни операторов, ни разведчиков, ни укомплектовальщиков нигде не готовили. Если на ПНШ-4 мог пойти гражданский кадровик, то оператором с кругозором полкового масштаба мог быть только человек с академическим образованием или окончивший курсы усовершенствования в полковом масштабе. Я выяснил, что Академию имени М. В. Фрунзе закончили только два из пяти наших командиров дивизий. А полками командовали лица, не имевшие полного курса пехотного училища, что же говорить о ПНШ?
Дни проходили за днями в спешке учений, занятий, донесений и отчетов. Кормили относительно нормально по фронтовой норме. Начала поступать на довольствие американская тушенка и яичный порошок. В качестве тяги в артиллерийский полк поступали из США грузовики и тягачи «студебеккеры». Появилось и вещевое довольствие из британского бостона, правда не для всех. Жили мы в лесу в шалашах и землянках, а в летнюю пору в лесу донимают людей днем слепни, а ночью комары, но для нас сущим бедствием оказались прожорливые гусеницы, съевшие все листья на деревьях. Никто тогда так и не раскрыл тайны их нашествия. Трава стояла зеленой, а деревья голыми, хотя именно они должны были служить нам защитой от воздушной разведки противника. Гусеницы ползали по шее, по лицу, падали нам в еду и везде переносились ветром на паутине. Только спустя пятьдесят лет я понял причину их нашествия. Бывали они, пожалуй, ежегодно, но их поедали лесные птицы. А мы разместились так компактно, что птицам даже гнезда вить было негде и птахи улетели в другие регионы, оставив нас на съедение гусеницам. Но, на наше счастье, вражеские самолеты не появлялись.
Самым страшным бедствием для штаба оказалась писчая бумага, вернее, ее отсутствие, так как бумаги не было ни в полках, ни в дивизии, а тем более не было книг для учета офицеров и личного состава. Даже строевую записку и донесение в штаб дивизии написать было не на чем. Начальник штаба отпустил меня в Россошь в штаб армии, где я у офицеров и машинисток смог выпросить около сотни листов порезанных топокарт старых изданий. На их обратной стороне можно было писать деловые документы. Для поиска бумаги предоставляли отпуск и командировки писарям в Краснодар и другие города. Возвращались они с вещмешками любой бумаги: обрывками обоев, архивными документами столетней давности казачьей управы, если обратная сторона оказывалась чистой, везли любые бланки бухгалтерского учета с чистой обратной стороной. Та оберточная бумага, что мы унесли с бумажной фабрики под Матвеевом курганом, была бы сущим кладом для штабов и подразделений. Совершенно не на чем было написать письмо родным с фронта, и они писались даже на книжных листах между строками. Так и уехали мы без книг учета воевать. К чему это привело, разговор будет ниже. Ведь «похоронку» послать и то был нужен адрес погибшего, а его не имелось из-за отсутствия учета.
Хорошо ли, плохо ли, но мы укомплектовались личным составом, вооружились, провели учения. Люди нам поступали в основном из среднеазиатских республик. Вот как это выглядело в цифрах. Из 7975 человек в дивизии русских – 4114 (51,5%), украинцев – 663 (8,3%), белорусов – 86, армян – 164, грузин – 174, азербайджанцев – 338 (4,2%), узбеков – 726 (9,1%), таджиков – 820 (10,2%), казахов – 198(2,4%), остальные представители других мелких национальностей. В число русских вошли и бывшие воры-рецидивисты, которым заключение было заменено отправкой на фронт в действующие части на переднем крае. Солдаты нерусской национальности были из числа старших возрастных групп, которые пользовались отсрочками от призыва из-за того, что прежде не служили в армии и из-за незнания русского языка, да и у нас командиру дивизии на его приветствия в строю отвечали только русские офицеры и сержанты.
Я уже имел богатый опыт с ними на Миусе и на Кавказе. Знакомясь позже с донесениями моего родного 1135-го полка, прочитал в архиве запись такого содержания:
«Вчера при переходе полка в районе лепрозория два бойца нерусской национальности не стали подниматься после привала и следовать дальше по маршруту. Командир полка приказал расстрелять их за отказ от выполнения приказа в боевой обстановке, что и было сделано перед строем всего полка, без следствия и суда».
Да, было и такое.
13 мая командиром 23-го стрелкового корпуса генерал-майором Чуваковым Н. Е. были вручены ордена и медали за боевые действия бригады под Туапсе, а 28 мая частям и дивизии были вручены Боевые Знамена нового образца. Если подразделения и части проводили учения и боевое сколачивание, то с офицерами частей и дивизии никаких штабных и командно-штабных учений совершенно не проводилось. Мне кажется, что в то самое время никто даже не представлял, как это делать. Даже терминов этих мы не знали.
В наступлении
С 28 июля по 4 августа мы совершали марш к линии боевого соприкосновения и вышли в район села Зацарное Сумской области. С этого рубежа немцы нанесли 5-го июля удар на южном фасе Курской дуги с целью отсечения и окружения наших войск в этом выступе. Продвинувшись до 35 км, они понесли поражение в танковом сражении у Прохоровки, где с обеих сторон участвовало до 1200 танков. Теперь они отошли на исходные позиции и мы должны были прорывать их заранее подготовленную оборону.
Части дивизии в составе 38-й армии вышли в Сумскую область Украины в район села Зацарное, здесь 1-м и 2-м батальонами сменили 1-ю и 2-ю стрелковые роты 797-го стрелкового полка. Началась подготовка к прорыву вражеской позиционной обороны. Наш 3-й батальон был выведен в резерв командира 50-го корпуса, а 29-й полк полностью – в резерв командующего 38-й армией. Ночью саперы разминировали минные поля перед своим и вражеским передним краем.
Меня все же назначают начальником разведки 48 сп, и наша 38-я дивизия утром 5 августа начинает тупо и бездумно пытаться прорвать немецкую оборону. Об этом я пишу в главе «Об уме и тупости». После потери почти всех стрелков атаковавших частей и подразделений я, командуя группой в 35 человек, удачно захватываю у немцев село Васильевку на окраине города Сумы, о чем в главе «О смелости и нерешительности».
25-го августа дивизию перебрасывают на южное направление. Проходим ночью город Лебедин и к 7 часам сосредотачиваемся севернее села Мигулин, где и занимаем оборону. Командный пункт в селе Пашкино. На следующий день слева доносятся раскаты боя. Противник сделал до ста самолетовылетов «Ю-87». Наш единственный в полку 3-й батальон обороняет Шадурку. Рота автоматчиков к исходу дня овладела селом Педоричков. Справа от нас наступает 29-й полк, слева 71-я танковая бригада. Полк, да и дивизия впервые взаимодействуют с танками, хотя танков в этой бригаде почти не осталось.
В один из дней я сидел на бруствере щели и на коленях писал боевое донесение в штаб дивизии. В небе все время шли воздушные бои, немецкие бомбардировщики наносили удары по танковым частям. Ниже нашего штаба полка располагался штаб одной из танковых бригад, видимо, это и была 71 тбр. Мимо меня проходил старший лейтенант-танкист. Он посмотрел на меня и замедлил шаги. Мне он тоже показался знакомым, я поднялся ему навстречу, и когда мы пожали друг другу руки, то оба и вспомнили, что учились и закончили семилетку в одном классе в 1937 году. Прошло всего шесть лет, а столько перемен в жизни! Да, это был он, тот самый Саша Носарев, который приехал в Исправную из Ростова и имел металлические коньки, пионерский галстук и горн. В классе его звали Сашей, а меня Саней. Он был командиром танковой роты, которая вела здесь бои и потеряла все танки. Живых танкистов комбриг решил использовать в обороне как пехоту. Уже на пенсии я узнал от землячки, что Саша остался жив и проходил службу в танковых войсках до выхода на пенсию в звании подполковника. Жаль, что не представилось встретиться после войны. Завершал он свою службу на Украине.
25 августа была освобождена Ахтырка, но на нашем Гадячском направлении шли упорные кровопролитные бои под населенными пунктами Московский Бобрик, Веприк, Педоричков. Эти села часто переходили из рук в руки. Только за 1-е и 2-е сентября полк потерял 43 человека убитыми и 113 человек ранеными. Все поступавшее пополнение тут же «перемалывалось» в боях на погибших и раненых.
1 сентября в полк прибыл из военного училища лейтенант Зайцев Алексей Николаевич. Комполка майор Кузминов, сменивший снятого Бунтина, назначил его как стажера и послал в разведку вместе с командиром взвода лейтенантом Марковым, с которым мы брали Васильевку. Командир хотел последнего выдвинуть начальником разведки полка, чтобы командиром взвода остался Зайцев. Разведгруппа ночью ворвалась во вражескую траншею, учинила там бой, перебила много спящих немцев, но и сама потеряла командира лейтенанта Маркова и старшину Бугаева. Зайцев так и остался командиром взвода разведки до самого Днепра и много раз проявил себя находчивым и храбрым офицером. В послевоенные годы он стал генерал-полковником.
Одной из причин ухода Ламко из штаба полка на должность комбата была та, что начальник штаба Ершов не имел навыков в руководстве штабом, да еще имел пристрастие к выпивке, поэтому у них случались частые скандалы. Чтобы показать деятельность и работу штаба, наш начальник штаба, к примеру, часто посылал нас в боевые порядки подразделений с целью поднять ту или иную роту в атаку.
Батальоны почти никогда не представляли боевых донесений в полк, а мне нужно было всегда достоверно знать положение рот и расположение всех средств поддержки и усиления. С этой целью я и так ежедневно посещал передовую линию. Помню, как однажды Ершов послал меня по срочному делу и дал своего коня. Всадник – цель более заметная, чем пеший, и по мне противник «рыгнул» из шестиствольного миномета. Шесть разрывов легли вокруг. Я видел рикошетирование осколков вокруг, но ни меня, ни лошадь не задел ни один из шести разрывов, и только лошадь испугалась так, что я ее еле остановил за одним из сараев. С уходом Ламко я стал исполнять обязанности ПНШ-1.
Наконец 8 сентября полк с соседом овладели Бобриком и Веприком. На следующий день мы переправились через реку Псел. Начались напряженнейшие бои на всех участках. Наконец сломили сопротивление немцев и, форсировав реку Грунь вместе с другими частями в ночь с 11 на 12 сентября, ворвались в город Гадяч. Начальник штаба полка был лично вызван в штаб дивизии за получением боевого приказа на дальнейшие боевые действия, а я повел колонну штаба и подразделений обеспечения в горящий город. Недалеко от центра мы обнаружили в одном из дворов свежевыкрашенный дом и забор. Это было жилье немецкого коменданта города. Здесь я и развернул командный пункт. Направил связистов в батальон и на КНП командира полка, который сообщил, что находится на кирпичном заводе. С рассветом один из посыльных принес кипу каких-то бланков из немецкой комендатуры, на чистых обратных сторонах которых можно было писать боевые донесения, и писари бросились растаскивать этот клад для штаба.
Утром наш батальон перешел в наступление, а немцы, не выдержав удара, начали снова отходить в юго-западном направлении. В населенном пункте Петривка удалось захватить две пишущих машинки с русским шрифтом – извечная мечта каждого штабного офицера. Проходили одно село, улица которого сильно поросла бурьяном, а у ворот одного из дворов стояла семья из трех человек. В центре этакая Гарпына Дармыдонтовна, справа муж лет 40 с бородой, а слева великовозрастный отрок лет 22-х. Увидев наших радисток, которые несли за спиной на вьюках свою пудовую радиоаппаратуру, «патриотка» им крикнула: «Идить, мои деточки, и мою доню вызволять из Неметчины, забрав ее герман в нэволю». Обычно я в присутствии женщин не ругаюсь матом, а тут не стерпел, обложил ее отборной руганью, присовокупив: почему же она мужа и сына не послала вызволять свою доню и сестру? Мужиков как ветром сдуло в заросли крапивы. Вся рота связи, несмотря на усталость и зной, одобрительно засмеялась.
Проходим Майоровщину, Сенча, Исковчы, Хитцы, на, ночь сосредоточились в Чудовцах. Вечером принесли почту, и я получил два письма, в которых меня поздравляли с днем рождения. Только тут на исходе дня я вспомнил, что сегодня мне стукнул двадцать один год. Я задумчиво смотрел на строки письма от родных и не мог поднять уставшую голову. Второй день рождения на войне! Не много ли? Друзья спросили: «Что, Захарович, дурные вести от родных?» – и я открыл тайну. Все бросились поздравлять и таскать за уши. Даже радистки Рая и Мария чмокнули меня в щеку. Комендант штаба, старшина, принес бутылку самогона, и мы чокнулись в полночь этим не очень благородным напитком под названием «Коньяктри буряка». Утром продолжаем преследование немцев, проходим Хитцы, Вильшанку и в середине дня вступаем без боя в город Лубны. Обычный районный городишко, но в нем функционировал довоенный спиртзавод. Немцы тоже нуждались в этом продукте, поэтому он работал и при них. Каким сырьем пользовались для перегонки браги на спирт, я уже не помню, похоже, отходами сахарного производства – патокой.
Впервые с начала боев под Сумами жители встречали нас цветами – астрами и гвоздиками. Подносили кружки с молоком и радушно махали руками, видимо радуясь, что обошлось без стрельбы, крови и разрушений. У завода суета военных – все мечутся в поисках посуды, так как на спиртзаводе обнаружена цистерна со спиртом и там наполняют всякие емкости, какие только можно найти. Это ныне мы имеем огромное количество типов банок, бутылок и пакетов от молока, даже непромокаемых сумок, а в ту пору, кроме чугунка, горшка и кувшина ничего не было. А у солдата фляга да котелок, да и то не у каждого.
Какая тут началась паника! Ездовые набирали в брезентовые ведра для пойки лошадей, повара переворачивали свои кухни, чтобы слить борщ и освободить емкость котла под спирт, а потом разливать его во все, что попадется под руку. Чтобы он не воспламенился, заливали водой огонь в топках. Штабной повозочный рядовой Пискун бросил мне вожжи, а сам убежал с двумя брезентовыми ведрами. Почти каждый солдат имел свой «кран», прострелив в цистерне дырочку бронебойной пулей. Наполняли, пока не спустили весь запас, часть которого ушла в грунт. Всего на сутки мой день рождения упредил такой благоприятный случай поживиться хмельным, чтобы отметить юбилей старшего лейтенанта. На очередной ночевке друзья решили еще раз поздравить меня, и я впервые в жизни пил неразведенный спирт, запивая его холодной водой из колодца.
Командование очень тревожилось, что немцы оставили спирт преднамеренно, чтобы мы перепились и нас можно было сонных застать врасплох. Такое бывало, и у нас это имело место в 29-м полку, где немцами было совершено неожиданное для отступающих нападение, но в полевом карауле со «станкачем» находился старшина Шмаровоз Г. С. Подпустив вражеский взвод на сто метров, он почти весь его перебил очередью в 250 патронов, за что был награжден командиром дивизии медалью «За отвагу». На Днепре за форсирование он был пожалован высшей степенью боевого отличия – званием Героя Советского Союза, а ту медаль по «забывчивости» штабов получил только к 30-летию Победы.
Далее мы продвигались, встречая случайное сопротивление тех немцев, кто замешкался. Впереди шли взводы разведки. Пеший взвод как дозорные, а конники как связные. Потом дали разведчикам двух телефонистов с аппаратом. На шесте они сделали крючки с проводом вниз к аппарату и через каждые полчаса включались в сеть, передавая нам по постоянным линиям связи донесения о прохождении населенных пунктов. В штабе были такие же крючки, и мы вели не особенно секретные переговоры о своем продвижении.
Разведку возглавлял лейтенант Зайцев А. Н., а с ним ехал верхом на лошади и начальник продовольственного снабжения полка. Разведчики первыми восстанавливали советскую власть, сами назначали кого-то из стариков, бывших членов совета, председателем, и тут же с его помощью выявляли дома, в которых проживали староста и полицаи. Те обычно бежали с немцами, оставив свои зажиточные семьи с запасами продовольствия. Начпрод изымал излишки и приступал к приготовлению пищи и выпечке хлеба к прибытию полка с марша, ибо не всегда на ходу была возможность готовить в походных кухнях. Да и подвоз продовольствия со складов не всегда бывал регулярным при длительных маршах. Изымались иногда и животные для забоя на мясное довольствие.
Пользовались мы и колхозными кладовыми, так как в большинстве случаев колхозы немцы не распускали, так было легче изымать продовольствие для вермахта и Германии. В этом случае начпрод выдавал оправдательные документы об изъятии. На одном из переходов после обеда Зайцев внес в хату штаба ведро сотового меда и булку совсем теплого хлеба. Нарезав ломтями, он предложил офицерам отведать этот деликатес. Все помощники и начальники служб полка сели вокруг стола и принялись угощаться. Я спросил Зайцева: «Откуда дровишки?» Он ответил, что с пасеки начальника полиции. Вынули по одной рамке с каждого улья. Места за столом не хватило двоим: пропагандисту полка Музыке и старшему оперативному уполномоченному «Смерш», фамилии которого в архиве полка не сохранилось. Они от невнимания к их особам закурили и стали поносить разведчика такими эпитетами, как «мародеры, грабители, крохоборы...» Сколько можно съесть сотового меда? Ну пару кусочков. Осталось еще полведра, и я пригласил «ворчунов» к столу. И представьте себе, они тут же запели совсем другую песню: «Не разведчики, а орлы – из-под земли достанут. Правильно поступили, реквизировав у гитлеровских прислужников». И это говорили главный в полку идеолог и человек, призванный ловить шпионов, обличать самострелов, предотвращать перебежчиков и следить за недопущением грабежей и насилия...
В своей книге «На острие красных стрел» генерал-полковник Зайцев Алексей Николаевич назвал меня своим первым наставником по разведке. Ученик превзошел своего учителя в мирные годы натри генеральских звезды, но дружба наша не только не увяла за полстолетия, но крепла с каждым днем после неожиданной нашей встречи в Алма-Ате в 1970 году. Он участвовал во многих боевых делах нашей дивизии, пройдя до конца войны должности: командира взвода пешей разведки и командира роты автоматчиков в нашем полку, командира дивизионной разведроты и начальника разведки 29-го стрелкового полка. Только он один в дивизии с сентября 1943 по 30 декабря 1944 года был шесть раз награжден боевыми орденами (три ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны и орден Красной Звезды). За форсирование реки Днепр он был первым, кого представили к высшей степени боевого отличия – Звезде Героя, но награда была незаслуженно снижена до ордена Красного Знамени. Об этой несправедливости я расскажу подробнее в главе «О наградах и наказаниях».
Молодой лейтенант в то время не только снабжал штаб информацией о противнике и приводил «языков» из вражеского тыла, но не забывал прихватить трофейной бумаги, копирки, карандаши и другие канцелярские принадлежности, без чего не мог существовать штаб как орган управления. Зайцев был любимцем всей дивизии и отвечал ей взаимностью.
Мы вышли к Днепру и первыми в армии форсировали его в месте, которое впоследствии станет известным, как легендарный Букринский плацдарм. Но об этих боях я рассказываю в главе «О храбрости и трусости».