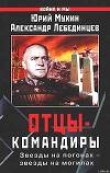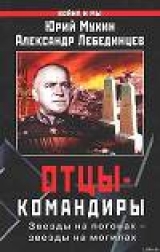
Текст книги "Отцы-командиры Часть I"
Автор книги: Юрий Мухин
Соавторы: Александр Лебединцев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Старшина тут же дал мне ложку и предложил участвовать в их трапезе. Оказалось, что шли уже вторые сутки, как был сдан Ростов. Оставив оборону на реке Миус, войска 56-й армии бежали, чтобы не оказаться в котле после выхода немцев к Азовскому морю и захвата донской столицы.
В той панической неразберихе в ночное время комбат с начальником штаба батальона потеряли управление ротами и далеко уклонились от маршрута отхода основных сил дивизии. Они оторвались так далеко, что их могли признать дезертирами, чего они и боялись в то время. Видимо, батальоном командовал в это время заместитель командира батальона капитан Ищенко Е. П.
Расспрашивать дальше было бесполезно. Я услышал команду: «Приготовиться к движению» и, поблагодарив за обед, побежал снимать с веток одежду. Надевать пришлось еще влажную. Подбежавший старшина вручил мне в вещевом мешке пару килограммов сухарей и банку тушенки. На прощание он сказал:» С вами мы бы не заблудились...» В походном строю я рассказал своим однополчанам о встрече с бывшими сослуживцами, и мы представили огромный размах той катастрофы, которая произошла в разгар лета сорок второго года на юге советско-германского фронта. Немцы устремились к Сталинграду и на Кавказ к нашим нефтяным источникам.
Так как я был небольшого роста, то всегда безошибочно занимал место в последней шеренге, куда и пристроился в ходе марша. Рядом позвякивал «малиновым» звоном своих шпор старший лейтенант с синими петлицами и эмблемами кавалериста (скрещенные шашки на фоне подковы) на них. Сосед был коммуникабельным, он представился, назвав себя Епьниковым Афанасием Ивановичем. Родом он оказался из села Надежда, что под самым Ставрополем. Я тоже назвался, и он обрадовался, что мы земляки из одного края. Протянув руку, он сказал: «Будем дружить». Далее он предупредил, чтобы я держался ближе к нему. Полезность этого я вскоре понял из его практических действий. Колонна курсов вступала в большое село Белая Глина. Мой новый друг успел захватить под жилье приличную хату с молодой хозяйкой и поручил мне охранять их от посягательств других охотников, а сам отлучился на минутку, после чего принес бутылку самогонки. Так началась наша дружба. Он всегда являлся добытчиком, а я всего лишь хранителем. С такими людьми было удобно дружить, полагаясь на их контактность с местным населением. Таким был сапер Николай Стрижов на Кубани, таким мне показался и Афанасий с первых часов знакомства.
Наутро за завтраком из полевой кухни: нам приказали оставаться в помещении школы, где должна быть прочитана лекция. Но это была не лекция, а указания начальника курсов о том, что нам предстоит длительный марш до города Прохладного. Понятно, что это слишком далеко, и он рекомендовал добираться самостоятельно любым видом транспорта. Тогда он еще не знал о вышедшем приказе Верховного. Мой друг сразу принял решение непременно навестить мать в селе и сестер в Ставрополе, а потом заехать и к моей матери в Черкесской автономии.
Покинув Белую Глину, мы прямо в поле сумели сесть на ступеньки железнодорожных цистерн и доехали до Тихорецка, потом до Кропоткина, откуда на пригородном поезде приехали в Ставрополь и оказались у замужних сестер моего друга. Несмотря на тяжелое время, встреча была с выпивкой, со слезами радости и горя одновременно. Вечером мы были в селе, в родной хате друга, где были проводы его младшего брата в армию. Затем мы, простившись с его родными, поездами снова выехали до Кропоткина, а далее на юг через Армавир к ближайшей станции Невинномысской.
Ехали мы на тендере паровоза. Перед нашим приездом эту станцию впервые бомбили немецкие самолеты. На перроне вокзала лежали неубранные трупы эвакуированных, в их вещах уже «шуровали» железнодорожники. Здесь мы встретили еще двоих наших попутчиков с курсов. Пошли искать продпункт, так как мой друг еще не успел сдать свой продовольственный аттестат на курсах и надеялся получить сухой паек. Рядом оказалась вокзальная столовая. В ней уже были выбиты окна, хотя дверь была на замке. Один из наших проник в окно и передал нам булку хлеба и с десяток подгоревших котлет прямо со сковородки на плите. С этой добычей мы удалились подальше от станции. Одна из казачек предложила покормить нас свежим борщом, и мы пообедали первый раз за этот день. Обстановка оказалась настолько сложной, что я даже не стал напоминать другу о поездке к моей матери, так как очень опасался отрыва от главной железнодорожной магистрали. В предгорьях вполне можно было оказаться прижатым к горам со всеми вытекающими последствиями.
Снова товарными вагонами мы прибыли на следующее утро на крупную узловую станцию Минеральные Воды. Ее тоже перед нашим приездом впервые отбомбили немецкие самолеты.
Почти все железнодорожные пути были забиты эшелонами с эвакуированным оборудованием, грузами и скотом. Стоял состав с погруженными свиньями какого-то совхоза, которых уже никто ничем не кормил. Наши попутчики ушли на продпункт, так как мы слышали, что там военным раздают хлеб, а мы с другом решили упросить свинарок дать поросенка для забоя на питание. Но они ни под каким предлогом не решались на это, хотя свиньям было в пору поедать самих себя в вагонах без корма и воды. Друг выбросил одного прямо на пути и, взяв мой револьвер, подстрелил, избавив от голодных мучений.
Встретились с попутчиками и вышли на восточную окраину города. Здесь в одном из дворов мы обнаружили свежую солому, на костре из которой можно было осмолить поросенка. Нас впустили во двор, и я быстро справился с разделкой тушки, а три девушки-хозяйки уже приготовили котел для варки мяса с молодым картофелем, который предложили нам прямо с грядки. Приготовленная пища из свежего мяса утолила наш голод, но вовсе не улучшила настроения, особенно нас двоих, покидавших свои родные места. Девицы прямо сказали: «Куда же вам дальше отходить? Оставайтесь, здесь найдется, кому вас приголубить». Только одна из них была замужем и имела ребенка. Афанасий начал уточнять, кому он может стать утехой, но я положил руку на кобуру револьвера, и он все обратил в шутку.
Я все время чувствовал себя виноватым перед родительницей, сестрами и братишкой, что не смог отойти от железной дороги на 30 километров и увидеться с ними хоть один час. Позже я понял, что поступил тогда правильно, иначе оказался бы припертым к перевалам Кавказского хребта и в лучшем случае попал бы в плен.
Мы снова вышли на большак, ведущий к нашему пункту назначения. Колонны автомобилей и гужевого транспорта пылили на грунтовых дорогах. Вечер застал нас у одного хутора недалеко от Георгиевска, там мы и остановились на ночлег. Старушка, приютившая нас, намекнула на то, что ее сосед припрятал под кукурузными стеблями колхозный тарантас, на котором возил председателя, и пару коней. Афанасий вскрыл утайку гужевого транспорта и конфисковал в пользу армии. На следующий день ехали мы на своей линейке. Преимуществ перед пешим маршем было больше, чем недостатков. Во второй половине дня мы увидели справа от дороги строения какой-то фермы, откуда военные несли забитых кур. Мы тоже свернули и получили десяток тушек. Вечером мы были в городе Прохладном, где уже дымила полевая кухня, и привезенные нами куры были весьма кстати.
И снова новая задача на переход, теперь уже до узловой станции Беслан, куда мы добирались на своем транспорте. С этой станции ехали поездом до города Орджоникидзе. Это был город моего военного училища. Разместили нас во втором пехотном училище, которое полностью было выведено на фронт. Нам была прочитана лекция на тему: «Особенности совершения маршей в горно-лесистой местности». Я не запомнил ни одного из правил той убогой лекции, построенной на положениях боевых уставов.
Утром в конце августа курсы походной колонной выступили с двумя повозками и походной кухней по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал. На выходе из города я окинул взглядом до боли знакомую мне проходную и корпуса своего училища. На территории никого не было видно, видимо, и оно уже сражалось на подступах к Сталинграду. Военно-Грузинская дорога была мне знакома на протяжении десяти километров. По ней мы ходили на стрельбище, по ней совершали марш-броски и в составе караула ходили на охрану водонасосной станции, питавшей весь город водой. Сейчас уже трудно вспомнить, сколько дней продолжался наш марш в 202 км от училища до Тбилиси. Но до грузинской столицы мы не дошли. Нас погрузили на открытые платформы в городе Мцхета и повезли по железной дороге до Сухуми, где и выгрузили, разместив в лесу недалеко от моря.
Еще пару слов об Афанасии Ельникове. Как-то возвращались мы из города в свой лесной табор через железнодорожную станцию, где имелся продовольственный пункт для проезжавших воинских команд и отдельных военнослужащих. Здесь можно было получить продовольствие в виде сухого пайка или горячую пищу в столовой по продовольственному аттестату, выдававшемуся всем командированным. В то время бланков аттестатов не имелось, и писались они от руки на любом листике бумаги с прикладыванием печати. Об этом и вспомнил мой друг Афоня. Такой аттестат на свое имя он получил на два человека, когда командировался из своего кавалерийского полка на курсы, Прибыв в наш «колледж», он не успел сдать его в хозяйственную часть. Сейчас он вспомнил о нем и тщательно рассматривал этот документ, размышляя, как из него извлечь наибольшую выгоду. В аттестате было написано, что старший лейтенант Ельников А. И. и с ним один человек по такое-то число удовлетворены продовольственным пайком. После этого прошел уже месяц. За прожитое время на продовольственных пунктах пайки не выдавали и можно было получить только наперед на трое суток. Не смущаясь, он в почтовом отделении дописывает к слову «один» «надцать» и получает сухим пайком на трое суток тридцать шесть сутодач. Это составило несколько буханок хлеба, пакет сухарей, несколько банок тушенки и рыбных консервов, была и местная брынза из овечьего молока. За буханку хлеба кладовщик дал нам пару мешков, и все это продовольствие мы унесли со склада. Напрасно я переживал и волновался. Все обошлось без последствий. Оставив булку хлеба, немного сухарей, брынзу и консервы, Афоня тут же обменял хлеб и сухари на «чачу» – грузинский виноградный самогон, – и мы удалились в наш лагерь.
Через пару дней нам объявили о распределении всех бывших слушателей курсов по армиям Закавказского фронта. Мне предстояло убыть под Новороссийск в 47-ю армию, а Афанасию в 18-ю армию. Мы переживали, что пути наши расходятся. Курсы расформировывались, так как на этом фронте таковые были свои.
Мы прибыли в отдел кадров фронта, где мой друг сумел провернуть еще одну операцию. За время отступления и длительных маршей наша обувь пришла в полную негодность, да и гимнастерки с шароварами прохудились на локтях и коленях. Афанасий разведал, что здесь есть вещевой склад, и за бутылку чачи договорился о замене нашего поношенного обмундирования. Вернулся он со склада в новом обмундировании и потребовал, чтобы я следовал за ним на склад. Заведующий предложил нам подобрать одежду по росту и взамен оставить свою поношенную. Мой друг успел надеть на меня два комплекта. Выйдя со склада, я разоблачился, и он тут же поменял второй комплект снова на чачу и грецкие орехи. Каково было наше разочарование, когда мы убедились, что наши брюки и сорочки оказались из обыкновенной сатиновой ткани и даже не цвета хаки, а серого. Но тогда об этом не задумывались. Еще хуже было, когда вместо наших разбитых «кирзачей» нам выдали английские ботинки из свиной кожи, сильно походившие на футбольные бутсы. Афанасий оставил свои старые сапоги со шпорами, а я в придачу получил к ботинкам пятиметровые «голенища», как именовали тогда обмотки. В этой одежонке пришлось встретить и провести на перевалах зиму, получив к холодам телогрейку тоже из сатиновой ткани и башлык из серой байковой фланели, так как тогда даже солдатских ушанок не было.
В один из дней я был назначен сопровождающим на автомобиль, на котором наши офицеры отправлялись в 18-ю армию. По единственной приморской дороге движение автотранспорта было весьма интенсивным. Часто возникали пробки. У одной из них, где заглохла полуторка, мы остановились. Вдруг появилась кавалькада легковых автомобилей. Из второй машины вышел знакомый всем по своим усам маршал Буденный С.М. и подошел к кабине полуторки, в которой спал техник-интендант первого ранга. Шофер маршала окликнул его, и тот предстал перед очами командующего войсками фронта. Семен Михайлович отвесил ему зуботычину, а у шофера мигом спихнули машину на обочину, освободив проезд.
Расставание с моим другом было теплым. Он беспокоился, что я со своим характером сгину без его опеки. Более чем месячная дружба на дорогах войны сблизила нас, как земляков. Жалко, что мы не обменялись домашними адресами, хотя я прекрасно помнил его хутор Надежда в шести километрах от Ставрополя. Несколько раз писал туда в послевоенное время, просил узнать однополчан-ставропольчан, но так ничего не смог выяснить о его судьбе.
Северокавказский фронт
Через пару дней получил и я направление под Новороссийск. В Фальшивом Геленджике размещался штаб Черноморской группы войск. Командующим ею был генерал Петров И. Е., а Членом Военного Совета у него был Л.М. Каганович, народный комиссар путей сообщения и член Политбюро ЦК ВКП(б). Все отделы полевого управления 47-й армии размещались в окрестностях Геленджикской бухты, и в составе одной из групп я прибыл в отдел кадров этой армии. Вскоре на армейские курсы младших лейтенантов из наших офицеров отобрали нескольких человек в качестве командиров учебных взводов, в число которых попал и я. Подбор производился по принципу наличия фронтового опыта и методических навыков. Курсы находились в греческом селе Пшада, где-то между Геленджиком и Туапсе.
Армия держала оборону на широком фронте на левом фланге Черноморской группы войск, входившей в Закавказский фронт. В ее состав входили 318, 337, 383, 216,176 и 339-я стрелковые, 242-я горнострелковая дивизии и три отдельных стрелковых бригады. Передний край фронта простирался от станицы Азовской на правом фланге до Цемесской бухты у самого Новороссийска по северному подножию гор Главного Кавказского хребта.
Итак, из не состоявшегося слушателя фронтовых курсов я превратился в командира учебного взвода и преподавателя почти всех военных дисциплин трехмесячных армейских курсов младших лейтенантов. Нам вменялось в обязанность обучать курсантов тактике пехотных подразделений, огневому делу, материальной части всего стрелкового оружия, строевой подготовке, физкультуре и рукопашному бою, инженерной подготовке, топографии и всем уставам. Из преподавателей-специалистов был только химик. Организационно курсы включали две стрелковые и одну пулеметную роты, в каждой по три учебных взвода. Возглавлял курсы подполковник, у которого в подчинении был и начальник учебной части и три командира учебных рот. В каждом учебном стрелковом взводе было по одному ручному пулемету и личное оружие курсантов, с которым они пришли из боевых частей, чаще всего это были карабины и реже автоматы ППШ. Никаких учебных пособий, естественно, не было, в том числе и уставов и наставлений, так как курсы создавались на пустом месте. Курсантами являлись рядовые и сержанты из стрелковых частей и подразделений. Образование курсантам требовалось иметь не ниже семи классов. Но были воины и с начальным образованием, которые проявили себя в бою на сержантских должностях. Пулеметчиками были матросы в основном из бригад морской пехоты, которые комплектовались экипажами затонувших кораблей и матросами из всех береговых тыловых служб. Моряков можно было узнать только по морской экипировке да блатным одесским песням.
За три дня мы пополнились и организационно оформились. Мой первый взвод первой роты разместили в помещении поселкового детского сада, состоявшего из двух комнаток. Нам выдали матрасные чехлы, которые курсанты наполнили опавшими листьями, и мы спали прямо на полу, укрываясь шинелями. Командиром роты был назначен старший лейтенант, имевший парадно-выходное обмундирование с довоенными знаками различия. По всему было видно, что он еще не нюхал пороха. Он совершенно не вникал ни в организационный, ни в учебный процессы взводов. Скорее всего, у него была «лохматая рука» в верхах, о чем нам было неведомо, так как он даже взводным не представился, как, впрочем, и всей роте.
Расписание занятий было составлено на все взводы одно, и мы приступили к работе. Два дня я нажимал на тактические занятия, отрабатывая те приемы, которым нас учили год тому назад, хотя и с учетом только что вышедшего Боевого устава пехоты, часть 1-я (БУП-42). По основным положениям нового устава начальник курсов сделал для командиров обобщенное сообщение, и мы его приняли к руководству. Речь в основном шла об изменении боевых порядков: о введении пехотной цепи в наступлении и сплошной линии траншейной обороны до батальонного уровня, а также о месте командира в бою. Эти положения получили свое дальнейшее развитие в 1943 и 1944 годах в специальных наставлениях по прорыву позиционной обороны противника и по организации огня в нашей позиционной обороне, которое основывалось на полученном опыте боев.
Видимо, на третий день занятий в конце сентября после завтрака я вывел курсантов на занятия по строевой подготовке в прилегавший колхозный сад, уже сбросивший листву. Я показал, какие необходимо отрабатывать приемы и приказал командирам отделений приступить к занятиям самостоятельно. Один из курсантов сообщил мне, что в расположение взвода проследовал начальник курсов с начальником учебной части. Я бегом бросился им докладывать и уже в помещении вдруг услышал визг бомб и два разрыва на месте, где проходили занятия. Мы упали на пол, потом я вскочил и бросился к местам разрывов, откуда слышались стоны раненых. Все начальство сбежало, и я остался с убитым сержантом и шестью ранеными без всякой медицинской помощи. Начальник курсов слышал стоны, но не направил к раненым даже санитарного инструктора курсов.
Перевязав им раны разорванным бельем и полотенцами, я помог раненым выйти на улочку, где проезжала колхозная повозка, на которой я и отвез их на медицинский пункт для проходящих раненых, расположенный в крайней хате на западной окраине села. Меня приняли врач с медицинской сестрой и санитаркой. Врач сообщила о том, что никаких обезболивающих средств не имеет, а располагает только скальпелем и стираными бинтами. Для обработки ран солдатам просила выделить пятерых крепких человек, которые смогли бы держать каждого раненого за руку или ногу и за голову. Первым положили помощника командира взвода, у которого была проникающая рана в грудь. Сделав перевязку, его тут же на проходящей машине отправили с сопровождающим сержантом за 20 километров в Туапсинский госпиталь. Остальные бойцы были ранены в конечности.
Видимо, самым страшным для меня моментом в жизни явились те несколько часов, что я провел у изголовий своих курсантов, удерживая головы этих страдальцев. Четыре курсанта удерживали конечности, как на распятье, а врач извлекала из ран осколки, не имея ни пинцета, ни зажимов, ни резиновых перчаток, орудуя только скальпелем и перевязывая раны стираными бинтами, смоченными раствором марганцовки или фурацилина. Два курсанта постоянно делали самокрутки, прикуривали их и давали затягиваться: одну – страдальцу, а вторую – нашей исцелительнице. Благо недостатка в хорошем табаке в этом селе не было, так как именно здесь он выращивался и сушился.
В сквозные раны врач протаскивала смоченный бинт и протягивала его как сквозь ткань нитку с иголкой. Часа за три все было окончено. И за все это время ни один человек не прибыл от командования и не поинтересовался исходом обработки раненых, в том числе и командир роты. Только на следующий день на моем рапорте о случившемся в учебном взводе начальник курсов наложил резолюцию о выделении из каждого учебного стрелкового взвода по одному курсанту на покрытие некомплекта моего взвода. Узнав, что не отправлена даже «похоронка» на погибшего сержанта, я написал письмо родным с указанием причин гибели и месте похорон.
Возвращаясь на следующий день строем с полевых занятий, мы проходили мимо медицинского пункта. На порожке стояли три женщины в белых халатах. Я подал команду: «Взвод, смирно, равнение на ...лево!» Женщины подтянулись и с улыбкой проводили строй. И хоть это не было предусмотрено Строевым уставом, я считал, что поступил правильно. Но я не подал такой команды, повстречав командира роты, о чем потом были разговоры.
Еще через день меня вызвал начальник курсов и лично поставил задачу на проведение разведки по нашему ущелью вплоть до перевальной точки Главного Кавказского хребта. Мне вручили карту-километровку, выдали сухой паек на день, и я, выслав головной дозор, повел взвод к намеченному пункту. Видимо, командующего армией интересовал вопрос, не проникли ли германские горные егеря на перевалы. Этот поход все время в гору не очень изнурял моих курсантов. Все мы были молоды. Осень навевала грусть в связи с близостью наступления зимы, но горные склоны утопали в золотистом бархате листвы. Курсанты на привалах барахтались в листьях как дети на мягкой подстилке.
Прошли развалины Черного Аула, обозначенные на карте, и вскоре оказались на перевальной точке. Какой восторг вызвала панорама протекавшей на равнине Кубани и вид предгорных станиц: Северская, Азовская, Ильский, Холмск, Абииск. По железной дороге шли поезда, по шоссейным дорогам двигались автомашины. В тишине иногда доносились разрывы снарядов или мин. Я послал дозорных вправо и влево, но они никого не обнаружили. Здесь, на самых перевальных точках, я впервые понял всю тяжесть боев, которые предстоят нашим войскам, отрезанным от баз снабжения этими высокими горами и бездорожьем. Как мы только смогли выстоять и удержать перевалы и горы? Даже сейчас трудно ответить на этот вопрос, хотя мне самому пришлось их отстаивать вместе с моими курсантами, которым так и не довелось по-настоящему учиться на курсах.
Через некоторое время поступила команда курсам начать поход через горные перевалы на северные скаты Главного Кавказского хребта. Произошло это несколько дней спустя после очередной годовщины нашей державы. В этот праздничный день немцы решили «прощупать» оборону 1137-го полка моей родной 339-й дивизии и нанесли удар по станице Азовской, которую обороняли 2-я и 3-я роты этого полка. Роты бежали, оставив Азовскую, к следующей станице – Абинск. Для дивизии и всей армии это было огромное «ЧП», особенно после приказа Верховного «Ни шагу назад». Командующий 47-й армией генерал-майор Гречко А. А., вступивший в командование ею 19 октября 1942 года, приказывает во что бы то ни стало вернуть населенный пункт, но в ротах полка 55 и 58 человек. И тогда он принимает глубокомысленное решение: бросить свой последний оперативный резерв – армейские курсы младших лейтенантов, имевшие ровно столько же курсантов, сколько было в тех двух отошедших ротах полка. Это в те годы было весьма модным – посылать десятками на верную гибель военные училища под Ростовом, под Подольском и Сталинградом. И погибали завтрашние лейтенанты в качестве рядовых без всякой поддержки своих атак не только танками, но и артиллерией. Приоритет принадлежал не Гречко, а генералу армии Жукову Г. К. и другим высшим военачальникам, требовавшим «любой ценой» и «мы за ценой не постоим». А потом ковали на трехмесячных курсах младших лейтенантов с четырьмя классами общего образования. Впрочем, я не берусь судить строго за те действия. Взгляды меняются часто. Наша военная история еще не все оценила и не сказала настоящей правды. А тогда, выступая в поход, мы даже не знали, кто командует армией, ибо командующих на ней с сентября 42-го по март 43-го сменилось пять человек. Все неудачи на фронте решались снятием, перемещением, отстранением, переводом военачальников, а не надлежащим обеспечением вооружением, боеприпасами и умением организовать и провести операцию и бой. Ниже я об этом непременно расскажу подробнее.
Двигались мы по горной дороге, по обочинам которой стояли повозки, застрявшие в грязи. Рядом лежали павшие от бескормицы и истощения лошади. Навстречу попадались караваны вьючных лошадей, на которых за Кавказский хребет доставляли боеприпасы, а обратно вывозили раненых. Но и вьючные лошади уже уступали дорогу ишакам, которых срочно изъяли у местных жителей. Они тоже везли за перевал по два ящика патронов, а обратно раненых. Наконец, нас обгоняли вереницы девушек из Геленджика и Кабардинки, которые несли на своих плечах на перевязи, как на коромысле, по два орудийных выстрела калибра 76 мм и в узелке харчишек с собой на двое-трое суток, и шли почти всегда под дождем и снегом на перевальных точках. Сколько же нужно было таких подносчиц, чтобы провести артиллерийскую подготовку, если на организацию прорыва на равнине требовались десятки железнодорожных эшелонов снарядов? Кто это нынче подсчитает на компьютерах и нужно ли это делать, чтобы еще больше растревожить ноющие память и раны ветерана? Ведь прижатые к горам наши войска оказались в таком же положении, как немцы в Сталинградском «котле». И все-таки ценой огромных жертв и лишений народ выстоял.
Задень мы смогли выйти только на перевальную точку хребта, где уже основательно лег снег и мела метель. Здесь решено было провести ночь. Курсанты начали делать настил из хвойных веток, но уснуть на них не пришлось от холода, так как зима застала нас в летней форме. У меня была только хлопчатобумажная телогрейка на вате, хлопчатобумажные шаровары, гимнастерка и летняя пилотка. На ногах английские ботинки и советские пятиметровые «голенища». В придачу к пилотке полагался абхазский башлык, принадлежность казаков и горцев. У нас тогда только пилотка да обмотки соответствовали армейскому артикулу, все остальное было из серой хлопчатобумажной ткани, а башлык из серой байки, какая выдавалась зимой на портянки. Подкрепить фотографией, к сожалению, не имею возможности из-за отсутствия таковой. Спать нам, повторю, не пришлось. Мы собирали в темноте сушняк и жгли костры для обогрева, хотя вполне могли получить сверху бомбу, но обошлось из-за плохой видимости.
Мы спустились в предгорья, и тут, думаю, к месту будет рассказать об известной каждому фронтовику особенности фронтового быта. Мои курсанты захватили пустующую баню, имевшую крышу и двери, и тут же начали топить в ней печь. Вскоре вернулись курсанты Пшен и Ваня и принесли два вещмешка мяса убитых лошадок, которые верно послужили армии на фронтовых дорогах и, оказавшись убитыми, поддерживали нам жизнь в качестве пропитания. Долго варилось то мясо и осталось жестким, но молодые зубы сделали нужное дело, и мы уснули в тепле сытыми. Утром я вышел «до ветра» в крапиву и поинтересовался, что меня так сильно беспокоит в области растительности на лобковой части. Боже мой! Там обильно поселились лобковые вши, о которых я слышал не раз, но до этого не имел с ними дела. Я тут же пошел в штаб и нашел там военврача 2-го ранга, прикомандированного к нам на время боевых действий. Он сразу спросил: «На ком ты их прихватил?» Я ответил, что, кроме бани и сменных кальсон в Адербиевке, других источников не было. Он сказал, что нужна мазь под названием «полетань», но ее у него нет. Порекомендовал сбрить всю растительность и смазать керосином. Я захватил в крапиву кружку теплой воды, мыло, отцовскую бритву, керосиновую лампу из бани и в глуши зарослей оскоблил всю волосистую часть, потом фитилем смазал это место. Жжение было ужасным. Я листом лопуха дол го махал, как веером, уверяя себя в избавлении от этой напасти, как будто нам мало было самых обычных вшей, сопутствовавших нам всю войну. Но преждевременным было мое ликование. С отрастанием волос снова появлялись эти фронтовые спутники вплоть до июня 1943 года.
Здесь, в предгорьях Кавказа, наши курсы вступили в бои, которые характеризовались полным отсутствием управления боями со стороны всего командования курсов, включая и моего командира роты. Все начальники сидели в тылу, не видя и не зная, что делают и как воюют взводы, не обеспечивая их даже едой. Мне со своим взводом удалось удачно атаковать румын, причем в качестве трофея нам досталась и румынская полевая кухня с мамалыгой, которая нам, голодным, оказалась очень кстати. Но об этом в главе «О смелости и нерешительности».
Вернулись мы вечером с пустой кухней и парой волов. Я обо всем доложил подполковнику и показал новое место 2-й учебной роты, о которой в штабе курсов три дня ничего не было известно. Через несколько дней обстановка стабилизировалась окончательно, хотя наши войска и не отбили Азовскую. Мы передали свои позиции 2-й и 3-й ротам 1137-го полка примерно в одном километре южнее Азовской и тихо, по старому маршруту, были выведены обратно в Адербиевку, а потом и в Пшаду. И так незаметно прошли почти три месяца, как мы с 18 сентября приступили к занятиям. И далее, не проучившись и одной учебной недели, получили приказ выпустить курсантов младшими лейтенантами, а сержантов лейтенантами. С таким же успехом те же чины можно было им присвоить 18 сентября в первый день формирования курсов. Мне могут возразить, что курсанты получили боевую практику. Но они ее имели и до прибытия на курсы. А то, что увидели в бою в составе курсов, то это надо было непременно забыть, как факт того, как не надо воевать. Но тем не менее мы узнали, что приказом командования начальник курсов был награжден орденом Красного Знамени, а начальник учебной части – Красной Звезды.
По этому поводу состоялось торжественное партийное собрание, но я на нем высказал критику командования за управление в бою и за фактическое отсутствие занятий с курсантами, а в ответ подвергся нападкам с их стороны. В мою защиту выступил политрук нашей роты. Тогда все переключились на него с требованием наказать вплоть до вынесения решения о его исключении из партии, за что и проголосовала вся верхушка. А нам, двоим взводным, единственным из всех принявших участие в атаках и имевшим боевые потери, объявили по выговору. Мы все трое тут же написали рапорта об откомандировании нас с курсов в боевые части и в тот же день получили предписания в отдел кадров армии. Политработники числились в отделе кадров политотдела.
На следующий день я встретил нашего политрука и он сообщил, что решение парторганизации курсов не утверждено и не будет занесено в наши кандидатские карточки. Ну в самом деле – как же он мог быть дальше беспартийным политруком? А другого он ничего в армии не умел делать. Не знаю, продолжали ли дальше функционировать эти курсы или их расформировали. Через пару месяцев мне довелось встретить лейтенантом своего помкомвзвода, теперь лейтенанта Дортгольца. А много-много лет спустя я узнал, что он погиб в боях под Абинском в должности заместителя командира роты. А за все послевоенные годы довелось встретить в Баку в 1962 году одного из бывших курсантов Пашковского, теперь уже майора. Выпустился он младшим лейтенантом, в последующих боях получил ранение, лечился в бакинском госпитале, потом длительное время служил в одном из райвоенкоматов города. Встреча была очень теплой и радостной для нас обоих.