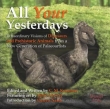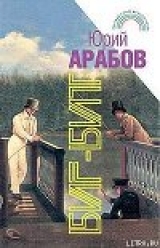
Текст книги "Биг-бит"
Автор книги: Юрий Арабов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
– А скажи мне, Полли, только искренно! Сколько тактов из Стравинского или Равеля ты запомнил при первом прослушивании?
Маккартни хмыкнул и решил не врать.
– То-то и оно. Здесь и зарыта бабушка, как говорил один внучок. Я не могу их слушать. Скучно! Музыка для критиков. И нужно быть величайшим мотом, чтобы в угоду консерваторским придуркам сделать из рок-н-ролла песок!
– Да не собираюсь я делать никакого песка! – начал оправдываться Маккартни.
– Да, рок – дебилен и прост, как математическая формула. Но в этой формуле – весь современный мир.
– У тебя по математике, кстати, всегда был «неуд»… – напомнил Пол.
Но Леннон уже не мог остановиться.
– И не нагружай ты рок излишней сложностью! Музыка не выдержит. Лопнет, как мыльный пузырь! Пифагоровы штаны не могут вместить e=mc2! Мы останемся без работы, а фанаты начнут слушать итальянских теноров!
– Не начнут, – сказал Маккартни, – покуда ты орешь своего бульдоляга!
Он неуверенно обнял Леннона за плечи. Стесняясь, погладил по голой руке, торчавшей из короткого рукава майки.
Джон, больше всего в жизни не переносивший сантиментов, отдернул руку, будто его укусила пчела.
– Все. Заметано, Буга?
– Заметано и похоронено, – подтвердил Пол, точно зная, что эта тема возникнет еще не раз.
– Тогда работай. Ставь песню на ноги. А то ночь на исходе…
– Какую из двух? – спросил Пол, испытывая партнера на прочность.
– Твою, – ответил Леннон, подумав. – А лягобульда оставим на потом.
– Позовите из коридора этих пижонов! – приказал Пол ассистенту.
Тот покорно исчез из стеклянной рубки.
Через минуту в студии появились Харрисон и Рич. Оба были навеселе. Чувствовалось, что отпущенный им перерыв они не протратили впустую.
– Это вы так курили? – спросил Леннон незлобиво.
– И курили тоже, – нагло подтвердил Харрисон. – Что делаем?..
– Спрашивай у хозяина, – и Леннон указал на Пола. – Я тут ни при чем.
Но Маккартни молчал, устремившись вдаль влажным взором.
– Значит, разъезжаемся по домам, – вывел Джордж.
– Мне нужна медь, – сказал вдруг Маккартни.
– У тебя есть медь, Ричи? – спросил ударника Харрисон.
– Есть, – Ричард полез в карманы джинсов. – А серебро его не устроит? – поинтересовался он у Харрисона.
– Не знаю. Сам спроси.
Ричард положил перед Полом серебряную монетку.
– Это все, что есть.
Но Маккартни по-прежнему молчал.
Джон хмыкнул и на акустической гитаре начал перебирать неприличный блатной мотивчик, что-то о прошмандовке Мэгги, которая умела вовремя смыться… По-видимому, он лабал обещанный ранее «городской фольклор».
– Они уже начали? – спросил у ассистента звукорежиссер, появляясь в рубке.
Был он подтянут и коротко острижен. Свежевыстиранная рубашка, пахнущая утюгом и крахмалом, довершала сходство с правительственным чиновником.
– Они давно начали, но ни к чему не пришли, – прошептал ассистент.
– Добрый вечер, господа! – сказал в микрофон звукорежиссер, садясь за пульт. – Вернее, доброй ночи!
– Привет! – вяло откликнулись Рич с Харрисоном, а Леннон только головой кивнул, да и то лениво.
– Медь, – сказал Маккартни, сфокусировав взгляд на рубке. – Мы можем пригласить сейчас медную секцию?
– Нет, – жестко отрубил звукорежиссер. – Заявку на сессионных музыкантов я должен подавать хотя бы за сутки.
– Да вот тебе медь, Буга! – заорал вдруг Леннон. – Вот тебе медь!
Он глумливо приставил ко рту свернутую трубой ладонь и задудел в нее, изображая тромбон.
– Ду! Ду! Ду!
Харрисон поддержал его и тут же издал звук повыше, имитируя флейту.
– Фи! Фи! Фи!
Пол удовлетворенно кивнул и сел за фортепьяно.
– Чепуха какая-то! – прошептал звукорежиссер. – Но, на всякий случай, запишем! Пленка выставлена?
– Еще с вечера, – удовлетворенно сказал ассистент, очевидно гордясь своей предусмотрительностью.
Когда лучи рассвета коснулись темных крыш низких домов, Джордж Харрисон вышел из студии, шатаясь. Под его глазами были круги, а в самих глазах мелькали и прыгали букашки. За несколько часов сессии было сделано больше двадцати дублей песни Пола и почти столько же прикидок ленноновского бульдоляга.
Ни с кем не прощаясь, потому что не было сил, Джордж плюхнулся в кресло припаркованного неподалеку «Астона Мартина» и нажал на газ.
Выезжая на улицу, он заметил у входа в студию одинокую фигуру мальчишки, мокнущего под унылым лондонским дождем, который изображал февральский снег. Случайно обрызгав мальчишку водой из лужи, Харрисон укатил домой.
Глава пятая. Человек с деревянной ногой
Фет просился в свою квартиру при помощи условленного звонка, и этому условленному звонку было, по крайней мере, две причины. Во-первых, мама, сомневаясь в умственных способностях сына, не доверяла тому ключи от двери. И во-вторых, вместе с ними жила соседка Ксения Васильевна, обильно душившаяся «Красной Москвой» и курившая папиросы «Беломор», мундштуки которых она набивала ватой. К Ксении звонили один раз, к отчиму и маме два. А Фет болтался между противоборствующими сторонами, не решаясь примкнуть ни к одной из них.
Угрюмая борьба между мамой и Ксенией Васильевной была вызвана не совсем понятными обстоятельствами. Когда Фет спрашивал о причинах нелюбви к соседке, мама обычно ссылалась на «Красную Москву». Запах действительно был сладковато-резкий, с ярко выраженным потенциальным удушьем. В его букете угадывался пыльный абажур, булькающий медный самовар, раскаленный, как печь, и страстно-грубые лобзания до утра с покусами и синяками на грязноватой шее. Никто не знал в те далекие годы, что заскорузлая «Красная Москва», пылившаяся в любом парфюмерном отделе, была слямзена с «Шанели № 5» и являлась советским ответом на французский вызов. «Шанель» была понежнее, зато «Москва» обладала стойкостью, превышавшей заморский оригинал, – запах держался неделю, а если кто-то ежедневно мазал «Москвой» одно и то же место, то у нюхающих это место наступало бешенство и немотивированная половая агрессия.
Фет и сам испытал нечто подобное. Однажды Ксения Васильевна стояла у окна в довольно коротком халатике, высматривая что-то на улице и пуская в форточку дым от своего непременного «Беломора». Фет тайком принюхался к ее сутуловатой спине. Было ему лет десять, и его нестойкие ноги московского мальчика подкосились. Но подкосились в выгодную для Фета сторону. Он неожиданно прижался ширинкой к ягодицам соседки, остро почувствовав на секунду все ее пятидесятилетнее тело, – спина сухая, горячая и подвижная, бедра надутые и прохладные, запах – терпкий, перемешанный с тяжелым куревом… Его прошиб пот. Ксения Васильевна, выскользнув из-под мальчика, пристально посмотрела ему в глаза. Ничего не сказав, ушла в свою комнату. С тех пор у них начались доверительно-странные отношения.
Она была не замужем, личная жизнь не сложилась. Зато у Ксении имелись целых три сестры, один племянник и множество воспоминаний. Она знала Крупскую и Марию Ильиничну Ульянову, бывала в их московской квартире в 30-х годах. Квартира, по словам соседки, поражала своей пустотой и холодом. Имущества не было никакого, прислуги не полагалось, и Мария Ильинична мыла дощатый пол сама. Обе ругали генсека Джугашвили, и последний отплатил им тем, что прислал на день рождения Крупской большой вкусный торт. Надежда Константиновна, попробовав его, тут же слегла и больше не вставала…
Но эти воспоминания не играли для Фета никакой роли. Решающим обстоятельством для него был короткий халатик Ксении Васильевны, оголявший ее сухощавые крепкие ляжки, когда она разговаривала по черному телефону, сидя на большом кованом сундуке. Соседка работала монтажером и клеила пленки киносказок, снятые режиссером Артурычем, – так, во всяком случае, называла вся студия этого толстого и веселого жизнелюба, певшего под гитару тенором и рассказывавшего сальные анекдоты из жизни опереточных актеров. Его любили за добродушие и аполитичность, да и Фет питал к нему пассивный интерес.
За дверью слышался шум праздника. Из железных ведер с надписью «Пищевые отходы» несло кислой картошкой. Они стояли у дверей последний год, указывая на то, что время околомосковских колхозов и совхозов уходит навсегда. Новые районы сделают пищевые отходы горожан ненужными, скотину, которая питалась ими, перебьют, а в остатках городской еды, сбрасываемой в мусоропровод, начнут через тридцать лет рыться крысы и нищие.
…Фет все звонил и звонил, покуда дверь не открыла надушенная двойной дозой «Красной Москвы» Ксения Васильевна.
– Бедный мальчик, – сказала она басом, выпустив в его лицо облако дыма. – Держат ребенка на холоде, изверги!
– А кто там? – спросил Фет, заходя в прихожую.
– Дядя Стасик пришел, – сказала соседка и ахнула: – Да ты весь грязный! Где это тебя угораздило? В лужу упал?
– Да нет… Машина обрызгала.
Соседка сочувственно помяла губами и ушла в свою комнату.
Фет снял с себя перепачканное пальто на ватине, соображая, стоит ли ему идти к гостю или лучше посидеть тихонько на кухне, не привлекая к своей персоне повышенного внимания.
Дядя Стасик, как и Артурыч, проживая в их доме, был кинорежиссером, но, в отличие от сказочника, снимал бытовые фильмы и ходил на деревянной ноге. Ногу он оставил где-то в окопах последней войны и, придя после фронта в киноинститут на деревяшке, застал там еще Эйзенштейна, озабоченного тем, что делать со второй серией «Ивана Грозного» и как протащить царя-убивца через эшелонированную оборону советской цензуры.
Первым фильмом дяди Стасика была эпопея из жизни советской деревни. Фет смотрел ее по телевизору и ничего не понял. Ему понравился только один кусок – электронные трактора, управляемые роботом на расстоянии, рыхлили землю на гладких и мертвых полях. Рукотворное солнце бросало свои электрические лучи на железные бока механизмов, людей не было, зверей и птиц тоже, они, по-видимому, вымерли вследствие какого-то исторического катаклизма. Фету показалось, что в куске этом угадано недалекое будущее всего мира.
С этого дебюта дядя Стасик стал своим на студии. Отчим, правда, критиковал его недавний фильм, где какая-то девушка находилась в одном окопе с солдатами и даже раздевалась в их присутствии. Критиковал в том смысле, что, если бы девушка вела себя так на настоящей войне, то от ее девичества не осталось бы и следа. Но это отчим говорил, скорее, о себе и о своих паскудных инстинктах, тем более, говорил только дома, а перед дядей Стасиком стлался персидским ковром. Оба они были фронтовики, но участвовали, похоже, в разных войнах.
Как ни странно, в заражении их по-своему элитного дома навозными жучками был виноват именно человек с деревянной ногой. В 64-м году он съездил в Лондон в составе советской киноделегации, а потом поделился своими зарубежными впечатлениями в курилке студии имени Горького. Впечатления эти были вполне благоприятны для загнивающей заграницы. Фет узнал их из пересказа того же отчима, они касались, в частности, фильма о Джеймсе Бонде, который дядя Стасик похвалил, назвав чрезвычайно забавным. Для коммуниста-режиссера подобное мнение было вызывающей дерзостью, поскольку о Бонде советская пресса писала как о хладнокровном убийце тех же коммунистов. Но это было еще не все. В той же беседе человек с деревянной ногой рассказал что-то о музыке, которой был увлечен приплясывающий Лондон. И Фет понял, что у отчима имелась на этот счет важная информация.
– Наверное, он говорил о навозных жучках? – спросил с кровати подслушивавший Фет.
– Ну говорил, говорил! – разъярился отчим. – Говорил, бардзо, что это, как хор Пятницкого. Когда крутят по радио, все выключают!
Судя по тону, отчим слегка подвирал, выдавая желаемое за действительное. Позднее выяснилось следующее – дядя Стасик привез из поездки пластинку-гигант под названием «Ночь трудного дня», привез для своего сына-подростка, который, прослушав ее, отпустил волосы до воротника школьной рубашки. «Ночь», таким образом, оказалась не только темной, но и заразительной. Она начала кочевать по дому, передаваясь из рук в руки, и в конце концов попала к Фету уже в захватанном состоянии, с помятыми углами и шипящим от бесконечного прослушивания звуком. Но все эти дефекты были пустяками по сравнению с главным, – благодаря конверту Фет наконец-то узнал, как выглядят навозные жучки и как нужно выглядеть теперь настоящему человеку, желавшему превратиться в насекомое.
Самым странным в этой истории было то, что сразу после подвига режиссера-коммуниста в московских парикмахерских появилась новая стрижка под названием «скобочка». Стоила она, правда, дорого – девяносто копеек, и ее происхождение мастера с жужжащими машинками усиленно скрывали. Теперь волосы не выбривались с затылка, а проводилась на шее пограничная полоса, которая удлинялась вместе с прической – хоть на сантиметр, хоть на два… О большем в тот роковой год никто не помышлял. Сам же Фет проникся уверенностью, что пластинка дяди Стасика попала каким-то образом в одну из парикмахерских, и ушлые проницательные мастера сделали из нее далеко идущие выводы. Когда Фет пришел со «скобочкой» в свой третий класс, то его кривая оценок резко поползла вниз, а авторитет среди сверстников, наоборот, начал пухнуть, как на дрожжах. И что бы впоследствии ни снимал в качестве режиссера человек с деревянной ногой, какие бы заявления ни делал и как бы ни приспосабливался к быстротекущему времени, для Фета он навсегда остался пророком. Но пророком, правда, с контрабандистским уклоном.
Однако, несмотря на столь теплые чувства, Фет не хотел идти сейчас к дяде Стасику. Он знал, что тот, скорее всего, явился в их дом за своей пластинкой. «Ночь» действительно находилась у Фета уже года полтора и лежала в ящике комода под радиолой «Урал» вместе с пластинками Аркадия Райкина, Эдиты Пьехи и квартета «Аккорд». Отчим время от времени вынимал жучков из комода и смачно плевал в их рыльца, а потом, вспоминая, что пластинка принадлежит не ему, оттирал слюну с глянцевого конверта и клал «Ночь» обратно в комод. Фет не желал отдавать пластинку владельцу, справедливо считая, что режиссер себе еще купит, а у Фета, скорее всего, такой возможности не будет никогда.
Поэтому он проскользнул тихонько на кухню и сел на самодельную табуретку около мусоропровода, чутко прислушиваясь к звукам родного жилья.
За темными окнами падал крупный тихий снег. Из квартиры неслось нездоровое возбуждение, перемешанное с теплым запахом печеного теста. Причем веселье слышалось и в комнате Ксении Васильевны. А это значит, что и туда нагрянули гости, Фету некуда податься, разве что залезть в мусоропровод и сидеть там подобно мыши. Когда они только переехали в этот кирпичный дом в конце 59-го года, то Фет сделал несколько попыток путешествия по мусоропроводу в поисках клада, даже однажды засунул в трубу голову, и ее довольно долго оттуда выковыривали веником и разводным ключом. Потом Андрюха Крылов зажег мусоропровод изнутри, бросив туда факел на солярке, квартиры окутались едким дымом, дети радовались как никогда, а взрослые вызвали пожарную машину. Став взрослее, Фет понял, что мусоропровод может служить ему вторым телефоном. Сейчас он приложил к железному ковшу ухо и услыхал, что из глубокой дыры несется бравурная гитарная музыка.
– Это ты, что ли, Андрюха? – спросил Фет, открывая ковш.
В лицо ему пахнула кислая сырость и тайна.
– Ну я, – глухо ответил из подземелья Андрюха.
– Ты чего это там крутишь?
– Новая запись. С трудом достал.
– Жучки, что ли? – ахнул Фет.
– А кто ж его разберет. Может, и жучки, – сказал Андрюха.
Сверху что-то спустили, и мимо Фета пролетел сверток с гадостью.
– Я зайду к тебе! – пообещал Фет, переждав грохот от падения свертка.
– Сейчас нельзя. Предки дома.
– А когда можно?
– Завтра заходи, – ответил Андрюха. – Конец связи.
В мусоропроводе что-то ухнуло. Музыка прервалась. Из трубы раздался возбужденный голос отца Андрюхи. По-видимому, он ругал сына за неуспеваемость.
Фет закрыл ковш, гадая, кто именно играл в мусоропроводе и кого поимел Андрюха на своих пленках. Больше на кухне делать было нечего, и Фет решил размяться.
Осторожно, словно Зоя Космодемьянская перед тем, как поджечь крестьянский амбар, он вышел в коридор. Дверь в комнату Ксении Васильевны была приоткрыта. Из нее Фет услыхал возбужденные мужские голоса и грудной смех соседки. Медовый свет обжитого дома брызнул ему в лицо. Фет увидал режиссера Артурыча. Румяное круглое лицо здоровяка-балагура, жирный след от пота на обоях, к которым он только что прислонялся своей лысой головой.
– …и был после этого осужден за жопничество! – сказал великий сказочник, довершая какую-то историю.
Ксения захохотала во всю свою женскую мощь. Фет отметил про себя новое слово и запомнил его на всю оставшуюся жизнь. Глаза его скользнули влево от сказочника. Рядом с ним он увидал другого легендарного персонажа с подслеповатыми, как у крота, глазами.
Маленький, сухонький, с лицом летучей мыши, в вечно обтертом пиджачке и с тонким сипатым голосом, был ли он вообще человеком? Фет считал, что нет, человеком он не был, но от этого любил дядю Жорика еще больше.
Последний, как и Артурыч, был помешан на жопничестве и на всем, что связано с этим непростым социальным явлением, но помешан немного иначе, по-другому. Артурыч только рассказывал анекдоты и пил водку. Дядя Жорик же преуспел больше. Он заходил в многочисленные и грязноватые уборные Выставки Достижений Народного Хозяйства, запирался в одной из кабинок и говорил оттуда вздорным мультяшечным голосом в самый неподходящий момент:
– М-да, м-да! Событие это экстраординарное! Необыкновенное, надо сказать, событие!
Представьте себе ситуацию, явились вы в туалет по малой или большой нужде, и в момент катарсиса, в момент облегчения и освобождения тела от излишней ноши, вы слышите голос попугая или ученого ворона, говорящего человеческим языком… Было отчего прийти в ужас. Многие не выдерживали и вызывали милицию. Покуда постовой высаживал дверь запертой кабинки, дядя Жорик продолжал оттуда вещать с нездешними тембрами и интонациями:
– М-да, м-да! Что же делать, батенька, если жизнь устроена подобным экстраординарным манером?
Его брали и вели в отделение, толкая в спину. В отделении выяснялось, что взят с поличным популярный артист кино, переигравший за свою долгую жизнь всевозможную нежить и делавший чудищ, которых он воплощал симпатичными и с теплинкой. Его спрашивали, отчего он говорил в уборной столь неподобающим, скверным образом. Дядя Жорик отвечал для протокола все тем же звуком ученой птицы:
– Что же делать, батенька? Что же делать? Жизнь удивительна и экстраординарна одновременно!
Его отпускали, написав на студию Горького докладную. Директор же студии, высокий и здоровенный мужик, похожий на металлурга, даже не вызывал дядю Жорика на ковер. Что возьмешь с человека, любимой ролью которого была Баба-яга, а любимой одеждой – заношенная грязная юбка? Правительство не давало ему званий и премий, в партии он не состоял, да и какая ему партия подошла бы? Разве что лесная, болотная, с высокой осокой и вырывающимся из-под земли тяжелым газом. Партком и фабком были бессильны, освод бездействовал, а омона тогда не существовало. Один раз дядя Жорик прокололся по-крупному, пристав в уборной к какому-то мальчишке и соблазняя его пауком, которого он тут же соорудил из своего сухого гибкого тела. Вышел большой скандал. Дело дошло до суда, но потом как-то заглохло, дядю Жорика отбили, но пару лет он после этого не снимался.
– …экстраординарно, батенька! Распотешили основательно! Мерси! услышал Фет через дверь знакомый голос с неповторимыми модуляциями.
– А-а!.. Вот ты где прячешься? Пойдем!
Запястье Фета попало в железную клетку руки фронтового радиста.
Отчим втолкнул его в комнату и заорал:
– Да вот он, наш лабух! Наш дорогой Паганини! Отвечай, куда подевал пластинку с жучками?
Был он раззадорен и навеселе.
Дядя Стасик сидел за столом, выставив свою деревянную ногу, как пушку из окопа. Розовое лицо его с рано поседевшими волосами слегка лоснилось. Чувствовалось, что он не хотел идти в их дом, а пришел только по необходимости.
– Да где им быть? Лежат в комоде, где всегда! – мрачно отозвался Фет и, как полагается бирюку, без улыбки, вытащил на свет примятую «Ночь трудного дня», положив ее перед гостем.
– А то меня сын совершенно замучил: «Где, где?». Пришлось учинить небольшое следствие, – сказал дядя Стасик, оправдываясь. – По трем квартирам прошел…
«Андрюха навел!» – подумал Фет и отвел глаза в сторону.
– И что ты думаешь об этом, Стас? – спросил отчим, ткнув в пластинку толстым, как сосиска, указательным пальцем.
Мать находилась не в своей тарелке, и для ее смущения были причины. Отчим разговаривал с гостем на «ты», хотя с дядей Стасиком их ничего не связывало, более того, они трудились на разных ступенях социальной лестницы, никогда не встречались ни на одной картине и даже не пили вместе по субботам после того, как покупали в киоске газету «Неделя». Эта аполитичная, по сравнению с «Правдой», газетка была обычно в дефиците, и для ее поимки договаривались с киоскером, – он оставлял «Неделю» для своих, а свои, развернув большие листы и увидев на них новый рассказ начинающего писателя Шукшина, сдабривали удачное приобретение коньяком или водкой.
Но таковы были нравы того времени – все, кто встречался в одном коридоре, звали друг друга на «ты». Даже если подобное обращение казалось совершенно неуместным.
Отчим задал свой роковой вопрос о жучках, ожидая, наверное, что человек с деревянной ногой их безоговорочно осудит и пригвоздит иголкой к картону школьного гербария.
– Да ничего. Забавно, – сказал вдруг дядя Стасик.
Кровь бросилась в лицо Фету. Такой ответ от взрослых он слышал впервые.
– Вот видишь, Алеша! – вскричала мама, торжествуя. – Значит, не все так плохо!
– Ты это серьезно, Стасюля? – у отчима от возмущения отвисла нижняя челюсть.
– Глупо, конечно. Но молодежи-то нравится, – пробормотал режиссер, оправдываясь. – Это, конечно, пройдет. Переболеют. Вспомни, как мы бегали в кинотеатры на концерты Эдди Рознера!
– Но Эдди Рознер-то гений, – напомнил отчим. – Его джаз был интересней фильмов, перед которыми он играл! А эти что? Приходские мальчики! Побираются по электричкам, сволочи!
Он скрипнул челюстями, будто уже пережевывал попавшегося ему в электричке приходского мальчика.
– Да Бог с ними! – отмахнулся человек с деревянной ногой. – Важно, что у нас такой музыки никогда не будет. Не привьется.
– Уже есть, – вдруг выдохнул из себя Фет. – Есть такая музыка!
Наступила томительная пауза. В горле у отчима что-то булькнуло.
– Рок-н-ролл есть? – не понял дядя Стасик.
– Не надо, сынуля! – в ужасе пробормотала мама, но было поздно.
Фет нырнул в коридор, вытащил из кармана записанную в клубе кассету и поставил ее на магнитофон «Комета».
Неизвестно, что на него нашло. Какая-то гордыня, перемешанная с отчаянием.
Нажал на кнопку. В комнату ворвался искаженный нечленораздельный шум.
– Это что такое? – не понял человек с деревянной ногой.
– А ну выключи сейчас же, бардзо! – прикрикнул отчим и попытался нажать на «стоп».
– Пусть играет, – пробормотал дядя Стасик. – Это, в конце концов, забавно!..
…Елфимов в магнитофоне последний раз долбанул по пионерскому барабану. Бизча взял фальшивый минорный аккорд. Что-то звякнуло, брякнуло, и запись прервалась.
– М-да, – сказал дядя Стасик после паузы. – А Шопен откуда?
– Шопен – это случайно. Радионаводка, – признался Фет.
– Сильно, – вывел дядя Стасик, не находя точных слов. – И как все это называется?
– «Русские жучки». Вот как это называется! – Фет тяжело дышал, словно после длительного бега.
– Название неудачное, – сказал гость. – Жучки только одни!
– Ну, это я к слову. Мы хотели назваться «Вечный двигатель».
– «Перпетуум мобиле»? – и человек с деревянной ногой помял губами, будто пробовал название на вкус. – А что, звучит! «Перпетуум мобиле»! И перевода не требует.
– Ты это серьезно, Стас?! – взвился отчим. – Не ожидал от тебя, бардзо! Отбойный молоток шумит громче! Сумбур это! Сумбур вместо музыки! Они же играть не умеют, тюти!
Откуда, из какой дыры подсознания выскочили «тюти», Фет не понял, поскольку слышал от отчима это слово впервые. Оно, по-видимому, характеризовало крайнюю степень возмущения.
– Ну, играть научатся. Со временем. Разрешите мне откланяться!
Дядя Стасик отодвинул от себя недопитую чашку чая и поднялся со стула. Из ноги его раздался кожаный скрип.
– Ну мы же не договорили, Стас! Давай проясним! Ты что, действительно считаешь жучков чем-то?! – красный отчим стоял в открытой боевой стойке.
Он, как и чемпион Польши Дан Поздняк, решил выяснить отношения, не понимая, что его уложат на ринг со второго удара.
– Да не считаю я, – отмахнулся гость, не желая ничего прояснять. Просто… молодежь так считает. Вот и все.
Он скользнул взглядом по лицу торжествующего Фета. И вдруг спросил:
– А можно, я перепишу твою пленку?
И это был тот самый второй удар. Дан Поздняк свернулся раковиной не оттого, что удар был сильный, а оттого, что его нанес инвалид.
– Зачем? – не понял Фет.
– Ну все-таки… Первый советский рок-н-ролл. Использую в каком-нибудь фильме.
– Не надо ничего переписывать. Возьмите кассету, – и Фет лихорадочно начал перематывать пленку на начало. – А мы еще запишем!
– Жалко, – сказал дядя Стасик.
– Что «жалко»? – попыталась уточнить мама.
Всю эту сцену она наблюдала с открытым ртом, не понимая, гордиться ли ей сыном или ложиться на ринг рядом с Поздняком.
– Жалко, что у нас нет профессионалов, работающих в этом жанре. Помогли бы ребятам, направили, – дядя Стасик положил подаренную ему кассету на пластинку. – Битлы, кстати, собираются создать свою фирму. На социалистических началах. Чтобы бескорыстно записывать зеленую молодежь…
– А ты откуда знаешь? – простонал Дан Поздняк, выплевывая на пол выбитые зубы.
– Меня сын просвещает. Покупаю «Юманите» или «Морнинг стар», а он оттуда переводит.
Дядя Стасик направился к двери, неся под мышкой подаренную ему запись.
– Когда мы увидим вас еще, Станислав Львович? – пробормотала мама с необыкновенной нежностью в голосе.
– Не знаю. Скоро выбор натуры, потом поездка в Париж. Увидимся как-нибудь.
– Привет семье, – мрачно пробормотал отчим.
Гость еще раз взглянул на окрыленного Фета.
– Рок-н-ролл давай! – сказал он заговорщицки и подмигнул.
– Будет, – пообещал Фет. – Будет вам большой рок-н-ролл!
Родители проводили гостя в коридор.
Когда вернулись в комнату, мама не выдержала…
– Я же тебе говорила, что он талантлив! – и указала дрожащей рукой на сына.
Отчим хмыкнул. Серые глаза его налились невиданным доселе отвращением.
– Нет, бардзо, шалишь, – сказал он глухо. – Не будет тебе рок-н-ролла. А будет буги-вуги с леткой-енкой впридачу!
– Летку-енку мы не играем! – холодно обрубил его Фет.
И был прав. Потому что этот финский танец в то время играли одни чуваки.