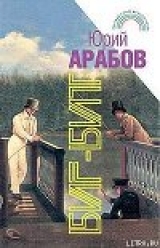
Текст книги "Биг-бит"
Автор книги: Юрий Арабов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Врет, – вывел Дерек. – Разве русский скажет, что он русский?
– Я бы сказал, – предположил Рич. – А британцем бы себя не назвал. Да еще в приличном обществе.
– А кто ты, если не британец? – спросил пресс-агент.
– Я – Рич, – ответил ударник.
– Ладно, – согласился с ним Тэйлор. – Обыкновенный наркот-попрошайка, которого вы приняли за русского. Тащи его сюда!
Энтони пожал плечами и исчез.
– От наркоты житья нет, – пожаловался Дерек. – Ко мне вообще недавно… влетел здоровенный шмель, – почему-то добавил он вне связи с предыдущей темой. – Сел на жену и укусил.
– Он что, тоже был наркотом? – поинтересовался Рич, пытаясь уразуметь связь между пареньком и женой Дерека, которую укусило какое-то насекомое.
– Он был шмелем, – уточнил пресс-секретарь.
– Тогда разводись, – посоветовал ему ударник.
Возвратился Энтони. Рядом с ним шел мальчишка с мокрыми темными волосами, немного смуглой кожей, в ковбойке и тренировочных штанах, которых в Лондоне не знали.
– Какой же это русский? – не поверил Рич. – Русские же… это татары, ведь так?
Мальчишка, увидев ударника и, очевидно, его узнав, глупо заулыбался и затоптался в смущении на месте.
– Меня зовут Дерек Тэйлор! Спроси, что ему нужно! – обратился к переводчику пресс-секретарь.
Переводчик, запинаясь и неуверенно, сказал что-то на незнакомом языке.
На это мальчишка полез в нагрудный карман рубашки и вынул оттуда смятый листок.
– Мы влипли, – пробормотал Дерек, развернув послание.
– А что там? – не понял Рич. – Черная метка?
Из всех возможных книг он помнил лишь «Остров сокровищ», который ему вслух читала мама, когда он болел в детстве простудой.
– Приглашение от лица фирмы, – и пресс-секретарь механически добавил: – Проезд и проживание в гостинице – за счет приглашенной стороны…
– Так что ты огорчаешься? – спросил ударник. – Проживание – ведь за его счет, а не за твой!
В это время по лестнице в прихожую спустились хозяева Титтерхерста. Джон был неопознаваем, во всем черном, как священник неизвестного культа, и велюровой шляпе, надвинутой на лоб. Из-под нее торчала рыжая борода и блестели круглые стекла очков. Йоко же, наоборот, колола глаза своей белизной, – белая блузка, белое мини, белые, выше колен, сапоги.
– Вы чего это? – растерялся от их вида Рич.
– А вы чего? – спросил Джон.
– Мы – ничего, – сказал ударник. – Стоим, никого не трогаем.
– Сочетание белого и черного обозначает полярность природных сил, объяснила тоненьким голоском Йоко. – Добра и зла, мужского и женского, – и по привычке приказала Ричарду: – Дыши!
– Не буду! – наотрез отказался ударник.
– Мы сильно влипли, – обратился к Джону пресс-секретарь. – Этот парень явился из России по нашему приглашению.
– Какому приглашению? – не понял Джон.
– Год назад я посылал в Россию письмо от твоего имени…
– Я что, – поразился Леннон, – хотел эмигрировать?
Это первое, что пришло ему в голову.
– Ты хотел выпустить пластинку с русскими голосами! – напомнил ему Дерек Тэйлор.
Джон в смущении посмотрел на Йоко, ища у нее поддержки.
– Забудь! – посоветовала жена.
– Мака здесь? – спросил вдруг Джон тревожно.
– Мистер Маккартни сидит во дворе.
Джон покачал головой, осмотрел мальчишку с ног до головы, как будто что-то припоминая.
Не говоря ни слова, двинулся на улицу. Йоко повисла у него на руке, сдерживая его шаг и предостерегая от необдуманных действий.
На лужайке перед домом сидел мрачный Пол. Леннон отметил, что он напялил для съемки дешевый темно-серый костюм с расклешенными брюками, так оделся бы мелкий служащий из Сити, если бы хотел выглядеть богачом. Фотограф уже установил камеру и смотрел в нее, выбирая ракурс.
Джон бухнулся на землю рядом с Бугой и пробормотал:
– Тут такое дело… Гость из России. Мы его позвали на прослушивание год назад.
– Ты позвал, – заявил Буга, который помнил все.
Йоко тем временем села перед ними на землю, заслонив собою Пола.
– Снимай! – обратилась она к фотографу.
– Сейчас! Одну минутку! – замялся тот, понимая, что участие в съемке Йоко ранее не планировалось.
– Ну и что теперь делать? – спросил Джон у Пола, как мальчик, который набедокурил и теперь винился за все.
– Прослушивай, если тебе нужно.
– А ты?
Маккартни зло хмыкнул.
– Разве ты раньше спрашивал меня? Когда приглашал своего менеджера? Когда приводил в студию эту…? – он имел в виду Йоко, но не смог произнести ее имени.
– Он хочет меня, Джон! – сказала вдруг японка, оборачиваясь. – Я чувствую спиной его самость!
– Да пошли вы к чертовой бабушке! – неожиданно взревел Буга, вскакивая с газона. Чувствовалось, что за время сидения на траве он окончательно вскипел.
Но оборвал себя. К лужайке спешил Джордж Харрисон, пряча в карман джинсов ключи зажигания.
– Пробка, – пробормотал он, оправдываясь за опоздание.
– Крышка! – крикнул ему Маккартни.
И Рич меланхолически добавил:
– Затычка. Конец всему.
– Господа, пожалуйста, сгруппируйтесь вокруг миссис Леннон, – закричал фотограф, подозревая, что все сейчас переругаются и исчезнут, как дым. – Мы ее вырежем при печати, – шепнул он Дереку.
Буга хотел что-то возразить, но, пересилив себя, плюхнулся на траву рядом с Джоном, который онемел от возмущения и никак пока не прокомментировал истерику своего бывшего партнера. Джордж и Ричард встали по бокам. Фотограф несколько раз щелкнул затвором камеры.
– Ну, я пошел, – сказал Пол, вставая. – Адье.
– Я еще хотел сфотографировать вас на фоне парадной двери! – взмолился фотограф.
– Это – дверь в преисподнюю! – и Мака твердым шагом направился к воротам, отделявшим парк от шоссе.
– Пусть идет, – пробормотал наконец Джон. – С таким подонком сидеть на одной земле нельзя!
– И дышать одним воздухом нельзя! – вставила Йоко.
– И носить штаны одного фасона нельзя, – добавил Джордж.
– Молчите, сволочи! – душевно сказал им Леннон.
– А играть в одной группе можно, – прошептал ударник.
– Господа! Но что делать с русским? – взмолился Дерек Тэйлор.
– Я пригласил его, мне и расхлебывать, – ответил Джон, демонстрируя неожиданную ответственность.
Поднялся с травы и направился к дому. Йоко тем временем стало дурно, она оперлась на руку пресс-агента и, побледнев, опустила голову вниз. Но для Дерека это было не в новость, он поднес к ее носу медицинскую склянку, Йоко вздрогнула и, кажется, пришла в себя.
Джон решительно ворвался в прихожую особняка и бросил ожидавшим его переводчику и гостю:
– Пошли за мной!
Они спустились в подвал, переоборудованный под студию звукозаписи. На полу стояли несколько гитар, прислоненных к усилителям, и в углу блестела медью ударная установка. Джон плюхнулся в кресло, пробормотал, закуривая:
– Давай!
Паренек закрутил головой, не понимая.
– Ты же на прослушивание приехал? Играй!
И Леннон сунул ему в руку акустическую гитару.
Гость не очень уверенно взгромоздил ее на грудь. Наконец, решившись, взял простейший минорный аккорд.
– Не настроена! – перевел клерк его слова.
– И не надо! – поделился Джон своим кредо.
– А у нас другие гитары, – пробормотал вдруг мальчик, поглаживая струны. – Завода имени Луначарского.
– Чего? – не понял Джон.
– Ленинградского совнархоза, – уточнил переводчик.
– Они лучше, что ли?
– Во всяком случае, не хуже, – патриотично заметил гость.
– Что ж, вы – коммунисты, и у вас все должно быть лучше, – согласился Леннон. – Мог бы привезти ее в подарок.
– В следующий раз привезу. Так мне начинать?
– А как же! – и Джон глубоко затянулся горьковатым дымом.
В это время в студию тихонько спустились Рич и Харрисон. Встали у дверей, с любопытством наблюдая за происходящим.
– Будь проще! – сказал между тем гость и оттянул на гитаре басовую струну.
Клерк перевел его слова в точности.
– Это ты мне? – не понял Джон. – Я и так прост. Дальше некуда.
– Это – название песни, – уточнил мальчик.
– Название неплохое. Вроде лозунга, – одобрил Леннон. – Ну, давай же!
Парень изо всех сил ударил по струнам негнущейся ладонью. Заорал что-то истошным визгливым голосом, так что на ударной установке звякнула тарелка. Рич тихонько пробрался к ней и зажал тарелку пальцами, чтобы она не дребезжала.
Харрисон, сев рядом с Джоном, подавился беззвучным смехом. А парнишка тем временем орал и орал, бил по струнам и рубил непослушные аккорды, так что дека на гитаре норовила треснуть.
Он окончил изящным «фа диез мажором» и наклонил гриф к полу, будто хотел воткнуть его в землю.
– Да… – произнес Леннон после паузы. – Да… Тебя как зовут-то?
– Фет, – ответил гость.
– Чего-то не шибко, – сознался Джон.
– А мне понравилось, – сказал добрый Ричард. – Ритм заводной. Под нее стучать – одно удовольствие!
Он рубанул палочками по барабанам и продемонстрировал ударный кульбит, на который был способен.
– Можно работать, – довершил он свое выступление.
– Здорово! – пробормотал Фет восхищенно. – Елфимов так не может!
– Кто? – не понял Рич.
– Елфимов. Ударник один.
– А я думал, – Кит Мун, – назвал Ричард имя ударника, которому втайне завидовал.
– Средняя часть у тебя – полное барахло, – заметил Харрисон гостю. Она не должна быть длиннее главной. Иначе слушатель теряет ключ к восприятию. Если ты, конечно, пишешь европейский шлягер, – уточнил он.
– Это я просто сбился и сыграл ее два раза, – объяснил Фет парадокс средней части.
– Тогда понятно, – вздохнул Джордж.
– А откуда ты взялся? Как сюда проник? – и Леннон закурил по-новой.
– В газетах прочел, что вы сюда переехали. Мы в Лондоне снимали несколько дней… Дядя Стасик снимал. А я прочел и рванул к вам… Вот.
– Ну и как тебе Лондон? – поинтересовался Джон.
– Я сплю, – неуверенно объяснил парень свои чувства.
– Послушать бы, как ты звучишь в группе, – тактично ушел от оценки Леннон. – Ты ведь – не сольный исполнитель. Даже если меня послушать а капелла, получится полная чушь.
– Так давайте сыграем! – предложил Фет, понимая, что отступать некуда. – Все вместе!
– А ты знаешь наш репертуар?
– Наизусть!
– Ну чего, мужики, тряхнем стариной? – поинтересовался Джон. – Лабанем что-нибудь антивоенное? «Дайте миру шанс», например?
– Лучше совсем старенькое! – сказал Ричард. – Веселое! Чтоб стены рухнули!
– «Бетховен, отвали!» потянешь? – спросил с недоверием Джон у гостя.
Фет радостно кивнул.
– Возьмешь бас или ритм?
– Буду на басу, – решил Фет проблему. – На нем легче. Там всего четыре струны!
Леннон бросил гостю гитару.
– Ну что, Джордж, трави! Раз, два, три… Начали!
Харрисон тряхнул кудрями до плеч, старась почувствовать себя молодым. Резко щипнул самую высокую струну. Она фальшиво и нагло зарыдала, как кошка при течке. Ричард синхронно с гитарой Леннона вдарил по барабанам, и Фет заглушил все тяжелым, как гиря, басом, будто гром упал с неба…
– Отвали! Катись на фиг, Бетховен! Проваливай!! – заорал Джордж в микрофон, стараясь перекрыть первобытный шум ненастроенных инструментов.
…Фет видел, что переводчик, Дерек и висевшая на его руке Йоко Оно стоят на пороге студии как вкопанные, завороженные первобытным звуком.
– Класс! – прокричал Леннон, заводясь, и истошно поддержал Харрисона в микрофон. – Пошел на фиг! Отвали! Проваливай!!
– Что они делают?! Я сейчас вызову «скорую помощь»! – пролепетала в ужасе Йоко.
Но было поздно. Группу остановило бы только стихийное бедствие, но это было маловероятно, потому что источником такого бедствия оказались сами музыканты.
– К черту! К черту! Отвали!! – сорванным голосом проорал Леннон и обрушил коду, как горный оползень.
В наступившей тишине все участники этого действа ощутили, как болят барабанные перепонки.
– Невероятно! – пролепетал вспотевший Рич.
У всех остальных не было слов.
На пороге студии возник Буга-Мака. По-видимому, дикий шум был слышен даже в саду, и именно он сбил Пола с осуществления намеченного плана, Маккартни отказался уходить.
Сжав скулы и набычившись, он прошел к музыкантам и вырвал из рук Фета бас.
– Это моя гитара, – сказал Пол. – Отвали!
Фет, хоть был и не Бетховен, но с покорностью отвалил. Отказать маэстро в инструменте он не имел силы.
– Вы чего лабаете?! – прокричал Маккартни.
Мастера немного сдрейфили и не нашлись что ответить.
– Разве я не говорил вам, что перед игрой нужно хотя бы подтянуть струны?!
– И штаны, – заметил Рич.
– Но он-то не подтягивает! – и Джон указал пальцем на Фета. – И ничего. Играет!
– Он – русский, – напомнил Маккартни. – И ему можно не подтягивать. А нам, англичанам, нужно подтягивать. Всегда и везде!!
– Ладно. Чего ты хочешь? – взмолился Леннон.
– Работы, – сказал Буга. – Больше ничего.
– Ишь ты, – надулся Джон. – Работы… А кто ж ее не хочет? Ну чего, ребята, будем играть с этим чистюлей?
– Нужно, – сказал Фет. – Нужно играть. Он неплохо знает свои партии.
– Можно попробовать, – нехотя произнес Харрисон. – В последний раз.
– Тогда, хотя бы, настроим инструменты, – предложил педантичный Маккартни.
– А ты бери маракасы, – приказал Джон Фету, подстраивая свою гитару под звуки, которые исторгал Пол. – Тут большого ума не надо. Держи ритм и все. Что будем играть?
– Есть одна вещица, – предложил Фет, поверив в свои силы, – «Королева красоты» называется.
– Народная? – спросил Харрисон, подтягивая колки.
– Хорошая, – объяснил Фет. – Вам понравится.
– Запевай! – скомандовал Джон. – А мы на ходу подхватим!
Дерек Тэйлор вместе с переводчиком поднялся по каменной лестнице на поверхность земли. Недра ее разрывались от тяжелых звуков рок-н-ролла, который грозил землетрясением и мог, при желании, повернуть вращение планеты вспять или, наоборот, убыстрить его.
– Нужно дать сообщение для печати, – пробормотал Дерек, – что битлы снова вместе.
Солнце садилось за деревья старинного парка, оставляя на земле длинные тени.
– Вы думаете, это надолго? – спросил переводчик.
– Думаю, навсегда, – сказал пресс-секретарь.
Глава четырнадцатая. Зеленая самооборона
Федор Фетисов вырулил на своем бежевом «уазике» со двора дачного поселка «Орджоникидзе 3» и поехал куда глаза глядят.
Поселок располагался вокруг металлургического завода, построенного во времена сталинских наркомов и до сих пор сохранявшего остатки теплившейся жизни, как в погасшей печи еще стреляют и искрят обуглившиеся щепки. Директор-сталевар полтора года назад заключил выгодный контракт с Дели на чеканку рупий, взял под это дело солидный аванс у индийской стороны и на полученные средства стал жить как человек – то есть, построил на берегу лесного озера коттеджи для своей многочисленной родни, обзавелся яхт-клубом и другими приятными мелочами, необходимыми для того, чтобы директор чувствовал себя директором, а не просто каким-нибудь почетным металлургом, топящим тоску-кручину на дне граненого стакана. Расторопный чеканщик рупий раньше был коммунистом, его заместитель симпатизировал Союзу правых сил, а главбух вообще гордился своей беспартийностью и пил водку «Графиня Уварова» муромского ликеро-водочного завода. Но, несмотря на политические разногласия, все трое знали свое дело туго, – отпущенный им по контракту металл они продали покупателю из Прибалтики, а приехавших с инспекцией индусов провели по пустым цехам завода и показали им доменную печь.
Раз в месяц в заводской вышине гудела траурная форсунка, и Федор Фетисов просыпался в своем дачном домике в ожидании Страшного Суда. Но форсунка значила не Апокалипсис, а то, что очередной родственник директора убит бандитской пулей и через два дня его схоронят всем городом, – таксисты будут гудеть, седые матери рыдать, а деды в медалях говорить о происках американского империализма и таможенных барьерах, мешающих нашему металлу завоевывать мировой рынок. В городе обитало пятьдесят тысяч человек, и все пятьдесят тысяч сочувствовали заводскому руководству не потому, что оно держало рабочих впроголодь, и не потому, что индийские рупии превратились в более твердую и более конвертируемую валюту в руководящих карманах, а потому, что директор был свой – владимирский, не какой-нибудь погорелый чеченец или пархатый жид. Благодаря провалившемуся и работающему в четверть силы заводу в городе теплилась хоть какая-то инфраструктура – дома отапливались, автобусы ходили, и дачные участки обильно орошались водой из местного водохранилища. В тридцати километрах отсюда находился аграрный городок-неудачник, основанный в одно время с Москвой Юрием Долгоруким и имеющий в своем распоряжении церковь XII века, купеческие лабазы да мужской монастырь, но не имеющий металлургического завода и патриотичного руководства. Оттого зимою городок-неудачник вымирал, старинная церковь не могла согреть жилые дома, и люди, сидя на кухне в зимних шапках, смотрели по телевизору «Поле чудес» и радовались за очередной выигранный музыкальный центр.
Фетисов выгнал свой «уазик» на Юрьевское шоссе, пришпорил его педалью газа и поскакал в сторону поселка Сима, именно поскакал, а не поехал, этим славилась марка его машины, и любители конных прогулок ценили ее как раз за это. Форсунка сегодня молчала, и Федор Николаевич подумал, что если бы не бандиты, то директор завода чувствовал бы свою полную невинность и краснел бы, как девушка при упоминании разврата. А тут хотя бы братишки-убивцы заставляли его думать о Боге и о том, что за голодных и преданных рабочих спросит его не толерантная областная прокуратура, не подкупленные местные налоговики, а канцелярия более тщательная и дотошная до отвращения.
Федор любил поселок Сима, любил гнать туда машину, когда находился не в духе, и, проезжая его насквозь, до сих пор не встретил там ни одного человека. Брошенная в полях техника была, разрушенные церкви краснели обкусанным старым камнем, скрывая от посторонних глаз могилу Багратиона, одноэтажные деревянные домики, все как один с наличниками, молча смотрели вслед. Только людей Федор не видел и задавал себе привычный вопрос, какая мельница прошла по его стране, перемолов все и оставив после себя пустыню?
Раньше с пустыней все было ясно, – секретариат ЦК КПСС отвечал на подобные вопросы тайным киванием, которое означало для посвященных, что пустыня устроена именно им, секретариатом ЦК, в свободное от орошения пахотных земель и созывов пленумов время. Однако оказалось, что пустыня пустыне рознь, и то, что надвинулось на страну в последние годы, конечно же, не определялось безобидным, в сущности, словом. Фетисов все более ощущал себя прикованным к старинной барщине, не ожидая, что ее ярем кто-то заменит теперь на легкий оброк. Хотя наступивший феодализм спроектировали с капиталистическим фасадом, и в этом, возможно, было какое-то продвижение вперед, но этот фасад чувствовался лишь на Тверской, в поселке же Сима была все та же мерзость запустения, дававшая классикам горькое вдохновение еще во время оно. Но Фет не был классиком и вдохновляться подобным решительно не желал. Как музила, развлекавший по ресторанам угрюмую и не очень щедрую публику, Фетисов зарабатывал столько, что мог содержать неработающую жену и ребенка Ивана, которого они звали в семейном кругу Ленноном и мечтали, что к нему когда-нибудь прибавится прагматично-талантливый Павел. Но парадокс заключался в том, что и в прошлое советское время Федор Николаевич стал бы тем же самым, только к его лихому заработку прибавился бы еще самиздат, бесплатное образование для потомства, гарантированная пенсия и серое прогнозируемое завтра. Сейчас же, несмотря на кабацкие деньги, он чувствовал себя совершенно беззащитным перед государственными институтами, которые сплошь занимались предпринимательской деятельностью и являлись вследствие этого крайне опасной для обывателя стихией. Даже у людей, рубивших ныне непомерные, непредставимые бабки, Федор видел то же самое остервенение внутри против власти, которую они сами устроили, и понимал, что наличие подобного чувства, конечно же, разрушает благоприятные прогнозы на завтра. Один поддатый олигарх, качавший земные недра себе в карман и недовольный именно природной рентой, за счет которой и жил, сказал Федору: «Тем, кто идет в банковское дело, я бы давал априори десять лет лагерей!». Про себя он не обмолвился ни словом, и это значило, что, по-видимому, поддатый олигарх давно расстрелян, и с Федором Николаевичем разговаривает его загробная тень.
С давним остервенением против государственных институтов нужно было что-то делать, и в перестройку Федор решил покончить с ним раз и навсегда. Путь был один – соединиться с новой властью в братском поцелуе, желательно, взасос, желательно, обхватив друг друга руками и оставляя на губах синие закусы. Однако любимые Федором Толстой и Солженицын предупреждали, – не надо бы взасос, не надо бы обхватывая друг друга руками. От засоса передается инфекция, а от братских рук остаются синяки. Но Федор Николаевич решил, что классики базарят, что они сильно отстали от нынешних времен, и стал ходить на демонстрации, протестовать, обличать, подписывать, тем более что за это уже не сажали. На митинге в Лужниках он увидал старенького Сахарова, которого вел под ручку ладный и по-народному красивый будущий первый президент свободной России. Сахаров говорил в микрофон вяло, еле-еле и заикаясь, но он знал, что говорить. Будущий президент, наоборот, поражал напором в речах, но что говорить, он абсолютно не знал, и это смущало. Федор, глядя на новых героев, над которыми еле заметно светился ореол избранности, спросил себя: «А мог бы я с ними договориться, мог бы сотрудничать? Сыграть с ними в одной группе, пропеть вместе хотя бы несколько тактов?». Толстой тут же отрезал с облака: «Нет! Никогда!». А Солженицын с земли добавил: «У тебя что, шнырь, своего голоса не имеется?». Но Федор Николаевич опять не внял их брюзжанию и проголосовал, согласился, одобрил.
В то же лето он услышал в одной ярославской деревне пьяный бабский голос, который, вопреки его возвышенным чувствам, выводил на дворе непотребную и пошлую частушку:
Перестройка, перестройка!
Я уже пристроилась!
У соседа хрен побольше,
я и перестроилась!
Федор подумал: «И народ за классиками туда же! А что же я? Неужели прокалываюсь? Неужели даю слабину?». Он понимал, что орущая ревмя баба была, скорее всего, алкоголиком и дочкой алкоголиков, и те, в свою очередь, были славными потомками в стельку пьяных русских людей, и род их терялся во глубине тяжело-смрадных времен… Все говорило за то, что прав именно трезвый Федор, а баба, что с нее взять? Пусть орет свою похабную песню…
В августе 91-го года Фетисов сыграл на гитаре защитникам Белого дома, которые дожидались танковой атаки и переживали от этого самые радостные минуты в своей жизни. В 93-м году, когда по этому же Белому дому стреляли орудия президентской стороны, Федор Николаевич тоже сыграл несколько аккордов, но уже у себя дома. С тех пор ему довольно часто вспоминалась нелепая частушка про соседа. И выходило, что права перегарная баба, она каким-то образом ухватила суть происходящего, а он, трезвый Федор, неправ. Суть, конечно же, состояла в пристраивании, это народ понял сразу, но драма его, народа, заключалась в том, что он не постиг, куда именно надо было пристраиваться и с кем вместе, пристраиваясь, что-нибудь перестраивать. Мимо прошли акционирование и приватизация, потому что прыгнувшие до этого цены вытрясли у той же нетрезвой бабы последние деньги, включая те, которые были отложены на собственную смерть. Абсолютная логика сделанного указывала на определенный план: чиновник устал оттого, что санатории, сауны и дачные резиденции принадлежат безликому государству, а не ему, партийно-государственному чиновнику, и за свое право собственности решил бороться до конца. С детьми же и внуками алкоголиков, которых сначала называли народом, а потом презрительно окрестили населением, обошлись по-свойски: ему, как ребенку, указали на какие-то невнятные государственные бумаги, а потом со смехом спросили: «А что ты хочешь от ваучеров? Ты что, шуток не понимаешь?!». Население сильно смутилось и устыдилось самого себя, в частности за то, что оно, с такими-то доверчивыми мозгами, еще что-то населяет, подобно мухам. Многие после этого вообще отказались что-нибудь населять, и убыль людей сравнялась с военным временем.
Федор вспомнил, как в 1992 году стоял у прилавка своего продовольственного магазина, рассчитывая в голове, покупать ли ему банку килек в томате на свой день рождения или нет, хватит ли денег, а если ее купить, то на что покупать все остальное? Это воспоминание запало в душу и сделало его жадным. Взаймы он не давал, сам не брал, а слабых до музыки клиентов раздевал до нитки, внутренне содрогаясь и ругая самого себя последними словами. Ему все время казалось, что денег не хватает, что надо устраиваться в еще один кабак и снова терзать струны с вечера до утра, наигрывая Шуфутинского, Круга или какую-нибудь «Мурку», которая была предпочтительней, потому что освящалась традицией и была продвинута в сознание Фета его первым менеджером – отцом. Федор Николаевич утешал себя, что это все временно, что нужно просто набить бабок и жить за городом, поскольку улицы Москвы активно готовились к погромам, проверяя твердеющие мускулы то на азерах с окраинных рынков, то на броских витринах центра, когда какой-нибудь небедный форвард не забил положенный ему по штату футбольный гол. Гопота была, в общем-то, права: город, обзаводясь бутиками и казино, нагло вытеснял из себя бедных, а их в России всегда имелось в избытке, бедные ждали лишь того человека, кто объединит их и даст простую, как камень, цель. Этого Фет боялся, боялся именно из-за весомой вероятности, и, скопив немного кабацких денег, вывез жену и ребенка в сопредельную с Подмосковьем область, поскольку окрестности столицы оказались уже скуплены немногочисленным новым классом людей, которые только и дожидались лихого посвиста, чтобы отвалить навсегда из свободной России и забыть ее, как кошмарный сон. Федор Николаевич верил в посвист, но к отъезду за кордон был не готов ни экономически, ни морально. Ведь Толстой, как известно, никуда не уезжал, а Солженицын, наоборот, вернулся. Следовательно, и ему, Федору, нужно было годить. Годить, уповая на христианского Бога, которого он временами чувствовал и говорил с ним, как со старым, но немного эксцентричным и непредсказуемым знакомым.
Подъезжая к Симе, Федор подумал, что мистическая роль России состоит в компрометации социальных систем. Сначала она зачеркнула социализм, сейчас она делает то же самое с капитализмом. Какая система годится для нее самой, неведомо. И если же гопота с улицы установит в ней подобие фашизма, то можно сказать с уверенностью, что фашизм этот будет безнадежно скомпрометирован и опошлен до абсурда. И вообще, откуда в русских бытовой национализм? Разве они не видят, что вслед за великим еврейским рассеянием уже наступило второе, русское. И в недалеком будущем два народа-побратима, предавших своих мало похожих Богов, пожмут друг другу руки в какой-нибудь безлюдной галактике, а потом, возможно, и подерутся, как всегда бывает с избранными. Что в этой ситуации делать заурядным грекам, куда примкнуть? «А примкнем мы к лесу, – подумал Федор, – ярославскому или владимирскому. Какой в те скорбные дни останется».
Придя к такому утешительному выводу, Федор Николаевич спросил себя, куда он едет на своем «уазике» и, главное, зачем едет? А едет он, чтоб избавиться от раздражения на жену и ребенка. Откуда это раздражение взялось? А взялось оно из газеты, которой он растапливал печку.
Газетка была мрачной, прошлогодней, и в ней, как на грех, Федору попался какой-то рейтинг самых великих композиторов ХХ столетия. Возглавлял его Игорь Крутой, песни которого Федор Николаевич запомнить, при всем желании, не мог и никогда не старался. Леннон с Маккартни тянулись где-то в хвосте, а уж о каком-нибудь Прокофьеве или Шостаковиче речи вообще не шло, таких уже не знали, а тот, кто знал, на всякий случай молчал и таился. Чувствуя, что сейчас сблевнет, сблевнет прямо в печку на без того медленные дрова, Федор подался на улицу с ключом зажигания и завел своего механического скакуна со второй попытки. «Не переживай, Федя! – крикнула ему в спину жена. – Это же все проплачено! Как ты не понимаешь?!» Но Федор Николаевич не удостоил ее словом. Так уж повелось в их небольшой семье, что за все общественные невзгоды, в том числе и за гениальность Игоря Крутого, ответственность несла жена, а муж отвечал за все остальное – за плохую погоду, за страшные тени на потолке, за комаров, которые мешали спать по ночам. В общем, жили они весело.
Федор решил гнать скакуна на Симу, гнать до тех пор, пока не откажет четвертая скорость, а потом уже на третьей возвращаться на свои шесть соток земли. Месяц назад даровитый мужик из близлежащей деревни подкрутил ему ржавыми плоскогубцами фиксатор в коробке скоростей, отказавшая ранее четвертая скорость стала включаться и функционировать, но Федор Николаевич не доверял до конца народному гению и ждал, что в любой момент в передачах может возникнуть неприятная пауза, вследствие которой машину нужно будет брать за бока и толкать вниз с горки.
«Проплаченная серость!» – повторил он про себя, газуя. Он понял, что его расстроила, на самом деле, определенная объективность газетки, – дела с рейтингами обстояли именно так, как писалось, и проплачивали подобные рейтинги клиенты Федора Николаевича – угрюмый, на все обиженный олигарх, футбольный тренер популярной команды, который просил сыграть «Ты жива еще, моя старушка?», дорогая проститутка, ходившая в морозы с голым пупком, и создатель музыкальных клипов. Это был их выбор и их страна. Страну же Фетисова приходилось нынче искать с фонарем в поселке Сима.
Федор Николаевич обрел подобие патриотизма через год после окончания средней школы. Сердобольная мама, видя, что сын немного поврежден в уме, решила не пускать его на работу, и, просидев дома год, Федор от скуки взялся за книги. Сначала это была древнеиндийская философия, потом Гегель, но, правда, Гегель из «Философских тетрадей» Владимира Ильича. Окончательно доконала «Война и мир». Федор Николаевич понял, что лучше уже не напишешь, и даже проглоченные тут же «Братья Карамазовы» не могли затмить туманное солнце Аустерлица. Потом сосед по дому, Иосиф Давыдович Гордон, переводчик с французского, просидевший за это 19 лет в сталинских лагерях, принес в их квартиру запрещенного Солженицына. От смиренного внешне «Ивана Денисовича» шел настолько сильный импульс противостояния, что Федор ощутил себя вдруг абсолютно свободным. И большей опьяненности свободой, чем в 1972 году, когда он читал все подряд и сидел дома, Федор Николаевич не испытывал никогда. «Ага, вот почему вреден рейтинг газетки! – он снова царапнул ссадину. – Отформатированные мозги… Они мозги форматируют, сволочи!»








