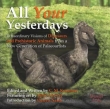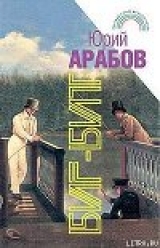
Текст книги "Биг-бит"
Автор книги: Юрий Арабов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
– Какие жучки? Ты чего плетешь? – спросил недовольно сонный Андрюха.
Фет, не объясняя, сунул ему под нос газету.
Крылов быстро просмотрел заметку.
– Во-первых, не «Катись к черту, Бетховен!», а «Бетховен, отвали!», рассудительно сказал он, зная, по-видимому, более точный перевод оригинального названия.
– В каком смысле, отвали? – не понял Фет.
– В том смысле, что, если он по-хорошему не отвалит, то ему хуже будет, – пояснил Андрюха. – Его просят как человека: «Отвали!». А он не отваливает!
– Ну да, – согласился Фет. – Стоит как вкопанный!
– А во-вторых, не думаю, чтобы это пели навозные жучки… Что-то не похоже!
– А если это все-таки они?
– Тогда нам хана, – произнес Андрюха мрачно. – За Бетховена ответим. Посадят!..
– Посадят… – как эхо, откликнулся Фет и сильно струхнул, решая про себя, стоит ли игра свеч и не стереть ли опасные пленки к чертовой бабушке.
Возвратившись от Андрюхи, он напялил на голову наушники, в которых тогда летали пилоты гражданской авиации, и, как ему показалось, в последний раз поставил на магнитофон опасных и к тому же запрещенных насекомых.
Раздался резкий гитарный аккорд. Пронзительный голос неопределенного пола прокричал что-то печальное и энергичное, какую-то хулу на мироздание и, терзаемый чувством своей же вины, затих. Фет понял, – это не насекомое. Это, по всей вероятности, хищная птица, умеющая петь. Он не знал тогда про Сирина и Алконоста, но твердо решил эти пленки не размагничивать ни под каким видом.
…Он вошел в высокий подъезд своего восьмиэтажного дома и вызвал лифт. Его драповое пальто на ватине было заляпано грязью, голова болела от бессмысленной репетиции.
В те уже далекие времена подъезды московских домов только начинали исписываться мелом. Первым этапом на этом славном пути были невинные изречения типа: «Маша+Петя=любовь» или «Васька – дурак, курит табак». Любимое народом слово с иксом и игреком появлялось нечасто и в основном на заборах. Дворники и лифтеры бдительно следили за тем, чтобы алгебраические знаки не находили себе места внутри советских домов, и стирали мел тряпкой.
В конце 60-х, с возникновением шариковых ручек, ситуация изменилась в корне. Надписи сделались длиннее, может быть, оттого, что шариковой ручкой удобнее писать, чем мелом. Похабщины поприбавилось, и лифтеры уже не могли смахнуть ее тряпкой. Появились длинные обращения-исповеди типа: «Снимаю трусики здесь по вечерам» и списки телефонных номеров желающих предложить к снятым трусикам соответствующую приправу. До изысканных граффити с латиницей, выполненных дорогим аэрозолем, оставалось пятнадцать лет. Дворники и лифтеры постепенно вымерли. На их место пришла реорганизация коммунального хозяйства, и вместе с заменой ЖЭКа на РЭУ исчезли последние надежды на чистоту и опрятность. Впереди виднелась эпоха великих реформ.
Внутри подъезда стоял большой каменный шар, напоминавший шары в барских усадьбах, только без льва и без его победительной лапы. Невинная надпись мелом «Маша+Петя» была подтерта тряпкой. Лифт спускался медленно, величаво и был похож на в меру дорогую карету. Сделанный из дерева, с большим зеркалом на левой стене, он, конечно, недотягивал до сталинских лифтов, которых Фет не застал, но и утилитарной коробкой для частного вознесения в устроенный быт его не считали и не называли. Одна железная дверь и две створки деревянных, крутящиеся колеса и толстые канаты довершали сходство с фантастической языческой колесницей. Мама призывала в колеснице не ездить, ссылаясь на бандита Осипова, что жил на шестом этаже. Бандит Валерка очень любил приставлять в лифте остро заточенный ножик, особенно к дамам, отбирая у них мелочь на мороженое и водку. Его брат Сашка потом бил Валерку смертным боем, но выяснение отношений между братьями обычно происходило после двенадцати ночи, когда лифт отключался и электричество в подъезде гасло. Сейчас же Фет смело вошел в лифт и поднялся в свою коммунальную квартиру номер 70 на пятом этаже.
Подходя к толстой дубовой двери, он сразу же понял, что за нею есть кто-то посторонний. Еле слышимый смех и оживленный разговор мог спасти Фета от очередного выяснения отношений с отчимом. Поэтому он позвонил в квартиру двумя условленными звонками и стал ждать, покуда кто-нибудь из взрослых растворит перед ним тяжелую дверь.
Глава четвертая. Ночь трудного дня
Джордж Харрисон сидел в углу полутемной студии и разминал пальцы на гитаре тем, что брал простейшие септ-аккорды, прислушиваясь, не дребезжат ли струны его гитары, не подключенной к усилителю. Он пришел в студию первым, и сейчас наступало его любимое время, – еще никого нет, только за стеклом кабины со звукооператорским пультом возится ассистент, подготавливая аппаратуру к очередному сеансу звукозаписи, коммутирует каналы, вставляя штекера с проводами в гнезда электровходов, ставит на пульт бутылки минеральной и коки, необходимые звукорежиссеру для того, чтобы заглушить изжогу и запить горечь во рту от игры самых популярных музыкантов в мире.
Даже через стеклянную скорлупу Джордж чувствовал тепло, льющееся из души этого ничем не примечательного прыщавого юноши, имеющего, конечно, кое-какие перспективы по службе, раз работал, пусть и на подхвате, в студии номер 2 на бульваре Эбби-Роуд. Тепло это было сильнее, чем нежность, и более жгучим, чем обожание, хотя в нем не присутствовало никакого насилия, – наверное, такое же чувство наблюдает по отношению к себе Бог, когда появляется изредка на церковной службе. Но Джордж не хотел быть Богом, хотя понимал, что какая-то невнятная сила, чертовское везение, стечение обстоятельств или некий промысел, об Авторе которого можно только догадываться, занес его на такую высоту, с которой придется однажды быстро и мучительно больно упасть.
Каждое утро он просыпался с мыслью, что падение начнется сегодня. Оно уже приближается в лице других доморощенных музыкантов. Из-за океана доносится реактивный звук гитары Хендрикса, который должен, по идее, не оставить камня на камне от провинциальной Англии и уж тем более от такой дыры, как родной Ливерпуль. Даже Леннон, при всем своем цинизме и взбалмошности, обалдел от этого звука. Он пробрался к Хендриксу за кулисы, схватился за его черную руку и заорал так, как мог орать только выпивший боцман: «Да у тебя всего четыре пальца!.. А где же еще два?!». Джон, как обычно, соврал. Хендрикс был пятипалым левшой, но дергал за струны так, что хватило бы и на десятерых. Джордж слушал его игру живьем, когда Хендрикс лабал здесь же, в Лондоне, в одном из модных клубов. Что ж, поначалу эффектно, но на пятой минуте Харрисон разгадал его секрет. И секрет этот оказался элементарней кроссворда в журнале для домашних хозяек. Искаженный рев усилителя «Маршалл» покрывал технические погрешности игры. А они были, особенно тогда, когда Хендрикс забирался в самый конец грифа, почти на деку своего скабрезного инструмента, заставляя высокие переходить в ультразвук.
Мощь, конечно, присутствовала. Новизна была, но настоящей музыки, в понимании Харрисона, не наблюдалось. Допуская, что чего-то не понимает, он как-то спросил Леннона за бутылкой пива:
– А тебе действительно это нравится?
– Пиво? Перед гамбургским – мусор, – кратко ответил Джон.
– Да я не про то. Игра Хендрикса… Может, ты бы хотел, чтобы у нас тоже был подобный звук?
– Какого Хендрикса? – спросил Леннон, подмигивая кому-то в полутемном зале ночного клуба.
– Ну этого. Который играет с Луи Армстронгом, – решил съязвить Харрисон, зная, что Джона на серьезный разговор можно вытянуть, лишь валяя дурака вместе с ним.
– А-а… – сразу же понял Леннон. – Этого черножопого ниггера?
– Ну да.
– А ты, братец, расист, – сказал Леннон, очевидно, сразу же позабыв, что слова про ниггера принадлежат именно ему. – Фашист ты, братец. Опора апартеида. Эта черная горилла, эта востроносая задница с сизым отливом? Ты про нее говоришь?
– Про нее.
– Он – гений, – кратко резюмировал Джон. – Чума. Эпидемия.
Но видя, как Харрисон сразу же сник и стушевался, добавил:
– Только не перед тобой, Джорджио. Он – карлик, когда ты играешь «Бесамэ мучо».
Харрисон, сидя в полутемной студии, лениво перебрал пальцами этюд Гомеса. Этот этюд был хорош тем, что в первых тактах вообще не требовал никаких аккордов, правая рука свободно парила по шести струнам, а левой можно было взять с пюпитра полупотухшую сигарету и глубоко затянуться.
В электрическом свете, падающем из операторской рубки, кружилась золотая пыль. Эта пыль, казалось, должна была набить их карманы, но денег, тем не менее, не хватало. Они оседали в руках многочисленных посредников, которые скрывали истинные доходы. Даже о тиражах своих пластинок во всем мире группа имела весьма приблизительное представление, догадываясь, что те давно побили рекорды кумира их юности Элвиса. Да, тиражи были, но деньги превращались в пыль. То есть они имелись, и как бы в достатке, на них можно было слетать в Испанию или Грецию, провести презентацию какой-нибудь чуши, купить дом и очередной «Астон Мартин», но завтра оставалось таким же страшным и непредсказуемым, как в детстве: вот-вот явится наглый мальчик из сказки Андерсена и скажет: «А король-то голый!». И каждый день сулил вероятность чудовищного поражения. Вот, например, в соседнем павильоне играют «Холлиз» из Манчестера. Ребята, надо сказать, классные, хотя почти во всем подражают Джону и Полу. О рекламе не думают, и это им в минус. Музыку пишут трое, а значит, группа устойчива, у нее запас прочности даже больше, чем у «Роллингов» и «Бичей»… Что будет дальше? Если не развалятся и не расплюются, то следует ожидать конкуренции. Во всяком случае здесь, в Англии, которая всегда была неравнодушна к поединку между Манчестером и Ливерпулем. Хорошо, что Штатам глубоко плевать на все это. Самый крупный музыкальный рынок был увлечен только ими, единственными, неповторимыми. Пока увлечен. Пока…
Джордж понимал, что его шаткое благополучие провинциала с оттопыренными ушами, вынужденного разыгрывать гуру-полубога, всецело зависит от одного, вернее, от двух человек, которые являлись его ближайшими друзьями. Но один из них, Джон, в последнее время ленился и, теряя врожденную агрессивность под действием алкоголя и наркотиков, впадал в прострацию. А это значит, что лидерство в сочинении песен, на которые жили они вчетвером (плюс штат сотрудников, плюс музыкальный концерн и чертова поп-индустрия в целом), переходило к одному-единственному человеку, которому Джордж слегка завидовал и от которого не знал, чего в точности ожидать. Сейчас, например, этот человек предложил создать независимую фирму грамзаписи, призванную стать островком коммунизма и бескорыстия в океане буржуазной наживы. Но потянет ли одна лошадь перегруженный воз, выдюжит ли? Этот человек был скроен из особого, чуждого Джорджу теста, хотя они росли вместе и знали друг друга лет двадцать. Он мог, казалось, одинаково хорошо сочинять в любых музыкальных жанрах, жить при любых эпохах и приспосабливаться к любым обстоятельствам. Если бы сейчас не был моден рок-н-ролл, то этот человек написал бы какую-нибудь оперетку и стал бы таким же гением, любезным всем и обожаемым всеми, и потому, в сущности, чрезвычайно далеким от всех… В скорости изготовления музыкальных хитов, которые через день после их тиража начинала петь молодежь во всех уголках этой грешной планеты, ему не было равных.
Чувствуя в душе отвращение к оперетке и рок-н-роллу, Джордж услыхал, что дверь в студию открылась. К нему быстро вбежал, почти влетел, высокий молодой человек лет двадцати шести, чуть полноватый, со смазливо-капризным выражением лица, от которого по ночам корчились в эротических судорогах разного рода прыщавые уродки. Свитер без рукавов, под ним – довольно простая рубашка, вылезавшая на пояснице из чуть расклешенных брюк. «Легок на помине, – подумал Джордж. – А это значит, что фотографа сегодня не будет. Слишком просто оделся. Как хорошо жить без фотографа! В полумраке, при выключенном свете. Да и без музыки тоже».
– Ты чего это в темноте сидишь? – спросил возбужденно молодой человек и, не дожидаясь ответа, властно приказал: – Свет в студию!
Ассистент за стеклом, вздрогнув, тут же включил иллюминацию. У Джорджа защипало в глазах. Он затушил сигарету, сознавая, что при электрическом освещении таинственный полумрак безграничной вселенной превратился в тесную клетку.
– Есть работа, парень! – пробормотал молодой человек, открывая крышку «Блютнера» и подвигая к нему стул без спинки.
– Да ну? – удивился Джордж. – И что от меня требуется?
– Творчества, парень, творчества!
Пришедший не очень уверенной рукой взял на фортепьяно пару мажорных аккордов.
– Даровито, – сказал Харрисон.
– Ну да, – согласился молодой человек, снисходительно щурясь. Представь себе, старая пластинка, ты сидишь у патефона в своей семье… Ну, в общем, слушай!
Он бравурно заиграл рок-н-ролльный квадрат. Ассистент в рубке застыл как изваяние, стараясь не пропустить миг рождения волшебства от самого Пола Маккартни.
Ничего особенного. Джордж сразу же, без подготовки, взял в тон просчитанные им заранее аккорды, не заботясь о ритме, а просто подчеркивая гармонию, которую он угадал. Слова были чуть интереснее, что-то о матери-одиночке, которая то ли не может, то ли не хочет кормить своих многочисленных детей. Что ж, в меру социально и мило… Однако в средней части вдруг послышался надрыв и агрессия, которую Харрисон не смог заранее предположить. Будто сам Бетховен, заскучав от банального радиошлягера, решил взорвать его изнутри. «Полдень во вторник никогда не окончится, и газета в среду никогда не придет…» – эти слова врезались в память. И где-то в животе, на уровне солнечного сплетения, начинало ныть, будто жизнь прошла впустую и уже ничего изменить нельзя…
Маккартни кончил играть. Ассистент в рубке захлопал в ладоши, но тут же оборвал себя, поймав на неуместности выражения чувств.
Харрисон молча смотрел в круглые и черные глаза своего коллеги. Внешне самоуверенные, с романтической поволокой… Похожие на глаза кота. То ли красивые, то ли, наоборот, отвратительные. А на дне он прочел то же самое чувство, что преследовало всех четверых, – неужели я играю полную лажу?
– Что тебе нужно от гитары? – спросил Джордж, не высказывая мнения о новой песне.
Маккартни не ответил. Он спрятал взгляд, направив его на клавиши фортепьяно, стал перебирать их, напевая что-то под нос.
– Проигрыш ты планируешь?
Пол молчал.
– Хочешь, я продублирую клавишные в главной теме? – и Джордж в меру чисто сыграл на гитаре рок-н-ролльный квадрат, только что схваченный им из прослушанного творения.
– Не надо, – сказал Маккартни.
– Почему? Фоно синхронно с гитарой… Это может прозвучать не слишком банально.
– Нет. Разве что гитарный акцент на последних тактах средней части. После слов: «Гляди, как возятся эти дети!».
– Кстати, а чего это они у тебя все время возятся? – поинтересовался Харрисон. – Детишкам сколько лет?
– Меньше, чем тебе. А возятся они от голода в животах! – сварливо обрубил Пол. – А впрочем, я не знаю.
Он взял себя в руки, подавив раздражение. Из-под его пальцев вдруг вырвалось начало прелюдии Баха. Но, слегка сфальшивив, он остановился.
– Хорошо, да? Это я слушал вчера на пластинке Глена Гульда.
Пол начал прелюдию сначала, но опять сбился.
– Весьма, кстати, похоже на рок-н-ролл, – сказал Харрисон. – Если, например, взвинтить ритм.
– Да, Джордж, да! – вдруг страстно воскликнул Маккартни. – Это уже все было в мире, понимаешь? Только звучало в другом ритме и для других людей! Для всякого рода растленных старичков, которые прячут свой пенис под сутаной! А что сделали мы?
– А мы просто увеличили темп и вытащили член для всеобщего обозрения, – сказал Харрисон. – Ты забываешь, что эта музыка была посвящена Богу. А кому мы посвящаем свою? Ради чего вкалываем? Ради лишней тысячи фунтов? Да плевал я на эту тысячу! – Джордж внезапно возбудился, изо рта его брызнула слюна. – Ты вот, например, когда высыпался? Когда спал хотя бы восемь часов подряд? Вчера, позавчера, год назад?
– Я не помню… Но Джон точно спит восемь часов кряду.
– Правильно. Он вообще не встает с кровати.
– И что из этого следует? – терпеливо спросил Пол.
– А из этого следует, что нам нужно остановиться, – выдохнул Харрисон, как выдыхает из себя воздушный шар перед тем как сдуться. – Это все майя, суета… Демонов мы привлекаем, а не ангелов!
– Из этого следует, – сказал Маккартни, – что Гульда надо прокрутить в обратном направлении!
Щеки его порозовели, глаза еще больше наполнились влагой. Чувствовалось, что Пол осенен идеей.
– Мы можем сделать пробную запись? – прокричал он. – А потом прокрутить ее в обратную сторону?
– Лучше подождать господина Мартина, – неуверенно сказал ассистент через микрофон.
– Не буду я никого ждать! Или пишем сейчас, или я ухожу!
В голосе его послышалась холодная капризность, отпугивавшая людей и заставлявшая работать их с удесятеренной силой.
– Одну минуту. Я только выставлю пленку!
Парень, побледнев, начал щелкать ручками. Из рубки послышался звук генератора высокой частоты.
Харрисон снял с себя гитару и положил на стул рядом, решив не вмешиваться в творческий процесс гения.
– Готово. Можете начинать! Дубль номер один, поехали!
Маккартни сосредоточенно взял первый минорный аккорд прелюдии… Джордж закрыл глаза, сладко потянулся, пытаясь расслабиться. При чем здесь Глен Гульд, зачем Бах? Кого он хочет удивить? «Только не злиться, – сказал Харрисон сам себе. – Ночь длинная, но и она когда-нибудь кончится. Но если не запишем сегодня новую песню, то нам придется платить неустойку! Какую песню? Неужели его барахло про домашнюю хозяйку?»
Маккартни кончил играть, каким-то образом добравшись до конца классического сочинения.
– Теперь сделай реверс. И побыстрее! – приказал он ассистенту.
Тот нервно кивнул головой. Через несколько секунд в студию ворвались странные свистящие и атональные звуки. Как будто раскаленный пар вырывался из-под крышки кипящего чайника. Но в хаосе, тем не менее, чувствовалась странная нездешняя гармония. Маккартни с неопределенной усмешкой на губах слушал пленку с собственной игрой, пущенную задом наперед…
Харрисон открыл глаза и увидел, что на пороге студии стоит Джон Леннон. Собственной персоной. Мутные глаза под стеклами круглых очков, шея у подбородка порезана в нескольких местах, и видна запекшаяся кровь… Чувствовалось, что Джон брился перед самым выходом из дома и ослабевшей от кислотных путешествий рукой разукрасил себя как мог. «Даже волосы не вымыл, – подумал Харрисон. – Мы деградируем, увы!»
– Это что за чушь? – спросил Джон, заметно просветлев лицом, когда пленка кончилась.
– Да это так… Чтоб размяться, – уклончиво сказал Маккартни, очевидно, стыдясь своего детского эксперимента.
– Твое, что ли?
– Ну, не совсем.
– Это то, что надо, Буга! – выдохнул Леннон, плюхаясь в кресло. Поздравляю! Здоровый естественный дебилизм!
Кличка Буга, в которой угадывалось «буги-вуги», закрепилась за Маккартни еще с юношеских времен и не очень раздражала его.
– Ну, это не совсем мое. Это, в общем-то, Бах! – начал оправдываться Пол.
– Бах? А-а, – разочарованно протянул Леннон. – Этого урода больше не играй при мне. В двадцатку хит-парада он не войдет!
– А ты-то сам туда войдешь, Джонни? – тихо спросил Харрисон, беря гитару в руки.
– Я только что оттуда. Мне бы пожрать чего-нибудь! – неожиданно сказал Леннон. – Пока мы не начали записывать.
– А что мы будем записывать? – вкрадчиво спросил Маккартни.
– Что-нибудь. Старичка Баха уже записали. Наверное, и ты чего-нибудь наваял! Ведь наваял, да? По запаху чувствую!
– Ничего, – ответил Пол. – Ничего нет.
– Пишите! Пишите! У вас получается! – прокукарекал Леннон вздорным голосом хама, нарывающегося на неприятность. – Мне бы пожрать, пожрать чего-нибудь! – добавил он.
– Записывать нечего, – еще раз сказал Маккартни.
– А у тебя? – спросил Леннон у Джорджа.
– Есть кое-что… – стыдливо замялся Харрисон. – Но это не для бит-квартета. Называется «Внутренний свет».
– Что-нибудь эзотерическое? – дружелюбно спросил Леннон.
– Ну да. В меру.
– Не надо! – хором сказали Леннон с Маккартни.
– Лягушка по лужам прыг-прыг! Бульдог по лужам прыг-скок! А у бульдога-то лапа на перочинных ножах! А морда его кирпича просит! заголосил вдруг Джон, встал на четвереньки и, словно лягушка, запрыгал в глубину студии к дальнему усилителю. Добравшись до корпуса черного «Вокса», он рухнул перед ним на пол и, свернувшись в эмбриональной позе, затих.
Маккартни взял аккорд на «Блютнере».
– Лягушка по лужам прыг-прыг! – грубо пропел он, делая голос подчеркнуто хриплым, как у чернокожего блюз-певца. – Бульдог по лужам прыг-скок!
Здесь он изменил тональность, сделав ее выше…
– А у бульдога-то лапа на перочинных ножах… Как дальше, Джонни? спросил он.
Но Леннон молчал, словно умер.
– Морда его кирпича просит! – напомнил Харрисон и внезапно захохотал.
– …и морда просит кирпича! – допел Маккартни и пробормотал сам себе: – Ну, это мы изменим. Защитники животных обидятся… Например, «И морда у бульдога так себе!».
– Это у тебя морда так себе! – сказал Харрисон, продолжая смеяться.
Его тяжелое безысходное настроение неожиданно улетучилось. В лопатках и животе возникла легкость, будто в детстве, когда ты сбегаешь с горы на зеленый луг…
У Джона, лежащего возле усилителя, затряслись конечности. Послышался тихий и подозрительный звук льющейся воды.
Харрисон и Маккартни тревожно переглянулись.
– Проконтролируй! – коротко приказал Пол. – Нужно найти интродукцию к этой лягушке, – и он снова погрузился в мир рок-н-ролльных квадратов, перебирая аккорды и гармонии, словно мысли в голове.
Джордж тихонько подошел к лежащему в углу телу, наклонился над ним, принюхиваясь.
– Мистер Леннон опростался, – торжественно сообщил он.
– Чего? – удивился Маккартни и даже перестал играть.
– Джон Уинстон Леннон обмочил студию, – пояснил Харрисон.
Пол хлопнул фортепьянной крышкой, потеряв терпение. Решительно пошел, наклонив голову вперед, как молодой бычок.
– Ты что себе позволяешь? – сказал он глухо. – Это тебе ведь не писсуар, не ванная! Это храм искусства, черт побери! Мы здесь рубим колоссальные бабки! Если не можешь сдерживаться, то ходи с горшочком! В следующий раз…
Но Маккартни не докончил свою нотацию. Потому что в лицо его ударила струя той же жидкости. Леннон держал в руках маленькую клизму и обильно оросил из нее своего знаменитого партнера.
Джордж снова захохотал и попытался вырвать клизму из рук Леннона. Тот опрокинул Харрисона на спину. Сцепившись и награждая друг друга тумаками, они покатились по полу студии.
– Пошлый клоун! – сказал Пол, вытираясь носовым платком.
– Согласен, – ответил из угла Леннон, тяжело дыша.
– Я, кажется, нащупал в твоей поганой лягушке кое-что… Вот, послушай!
Маккартни присел к фортепьяно и наиграл пришедший в голову мотив.
В это время долго крепившийся в рубке ассистент вышел из своего стеклянного укрытия. В руке его виднелись бутерброды, завернутые в целлофан. Наверное, какая-нибудь заботливая мама сунула их в сумку перед уходом сына в ночную смену.
Леннон жадно схватил их и, развернув, смачно откусил.
– Бледнолицый брат! – страстно произнес он с набитым ртом. – Спасибо тебе, бледнолицый брат! Джон Большое Яйцо будет служить тебе верой и правдой!
Встал на колени и поцеловал ботинок ассистента. Тот, покраснев, как девица, попятился к своей кабине.
– Ты будешь работать или нет? – терпеливо спросил Маккартни.
– Через пять минут, – спокойно ответил Джон.
Он дожевал бутерброд, смахнул носовым платком крошки с подбородка и присел на стул рядом с Маккартни:
– Теперь я готов!
– Тогда слушай, что получилось!
И Пол быстро наиграл ему «лягушку».
– Текст – дерьмо, – кратко сообщил Леннон.
– Но ведь это твой текст, Джонни!
– Нет, Буга. Моего текста ты еще не видел!
Леннон схватил ручку и бумагу, заранее приготовленные в студии, начал быстро писать какие-то крючки, обозначавшие буквы…
– …лягушка и бульдог должны быть одним лицом, – процедил он сквозь зубы. – И называется он – бульдоляг. Бульдоляг, мокнущий под дождем… Эй, бульдоляг!
Ручка его быстро ставила неудобочитаемые знаки…
– Ножички на лапах оставь, – попросил Харрисон. – Хорошо ведь!
Джон кивнул.
– Какая рифма на бульдоляг?
– Приляг, – предположил Джордж.
– Дурак, – сказал Маккартни.
– Напряг… А! Не надо никаких рифм! Кто теперь пишет в рифму? отмахнулся от своих же мыслей Леннон, продолжая марать бумагу.
– И про что все это, Джоннио? – поинтересовался вдруг Пол с тоской.
– Про одиночество, Буга, про одиночество… Бульдолягу мне нечем помочь, и он мне ничем не поможет… Только облает сдуру.
– Годится, – бросил Маккартни. – Сыграем?
Джон положил нарисованный текст на пюпитр.
Схватил гитару и начал нервно настраивать ее, крутя и перетягивая колки. Пол на фортепьяно сыграл ему «соль», потом «ми»… И Джордж продублировал звуки на своей гитаре.
– Ну, с Богом, – сказал Джон. – Неужели получится?
Маккартни тряхнул своими черными, чисто вымытыми волосами, борясь с волнением. В самом деле, неужели получится? Опять? Из ничего? Из дури?..
Он бравурно заиграл интродукцию на фоно, как если б нырял в ледяную воду. Харрисон тут же продублировал ее на соло-гитаре. Включенный неотрегулированный усилитель его инструмента загудел, как реактивный самолет. Но это только подбавило масла в огонь. Леннон фальцетом заорал так, будто перед крещендо не было, да и не могло быть априори никаких дольче и модерато…
Бульдоляг, ты мокнешь один под ливнем,
а я отмокаю себе под душем!
Энергия и хаос, слившись в едином порыве, грозили смести студию к чертовой матери. Наверное, на Эбби-Роуд в этот поздний час лопались покрышки и глохли моторы проезжавших мимо случайных машин.
В это время в студию проскользнул длинноволосый носатый человек, похожий на цыгана. Тараща голубые глаза и приоткрыв рот, он с удивлением услышал музыкальный шум, который производили трое его друзей. Легко читаемый ритм этого шума прошил мгновенно его мозг, как электрический разряд.
Вошедший бросился к ударной установке и без подготовки, не разбираясь, что к чему, оглушительно вдарил по всем барабанам сразу. Это уже было непереносимо. Леннон, вздрогнув, пустил голосом петуха и перестал играть. За ним остановились двое других. Однако ударник продолжал лупить по барабанам и тарелкам своего «Людвика». Чувствовалось, что музыки он не слышит и слушать не желает. Для него был важен полученный импульс, который зарядил его основательно и мощно.
– Ты что шумишь? – строго спросил Маккартни в микрофон.
Ударник от повелительного тона мастера очнулся и перестал стучать. Последним жалобно звякнул под его левой ступней хет-чарльстон.
– Я? Ничего. А что, не надо было?
– Я бы на твоем месте поостерегся, – сообщил Леннон, вынимая изо рта жевательную резинку и прилепляя ее к своим же каракулям.
– Ну, я не знаю, – пробормотал ударник, – мне же надо когда-то играть, ведь так?
– Вот в этом и весь вопрос, Рич. Надо ли тебе играть? – иезуитским тоном спросил Пол. – Ты ведь еще не знаешь, что играть. Не разобрался. Не врубился. А уже лупишь в там-тамы и пляшешь у костра. А ведь ничего еще не ясно…
– Тело священника еще не разделано, – подтвердил Леннон.
– И мы еще не знаем. Может, здесь вообще не будет ударных? Может, это будет легкая пьеска, прелюдия в стиле Баха? – продолжал пытать Маккартни.
– Ну, я тогда вообще играть отказываюсь, – сообщил Рич, услышав имя Баха.
– Проконтролируй! – холодно приказал Пол Харрисону.
Джордж подошел к обиженному ударнику, у которого нос от расстройства еще больше распух, нежно взял за руку и прошептал, как девице, на ухо:
– А не хочешь ли ты, Рич, перекурить со мной в коридоре?
– Хочу, – охотно откликнулся тот. – А эти что? Курить не будут?
– Эти уже накурились, – сообщил Харрисон. – Теперь добавят колес – и готово дело!
– Что ж. Курить так курить, – покорно согласился ударник.
Джордж, обнимая его за талию, вывел в коридор.
– Ну как тебе лягушка? – спросил Маккартни, когда они остались одни. Понравилась?
– Я не знаю, – неожиданно серьезно сказал Леннон. – Не уверен.
– Тогда, может быть, прослушаешь мою? – И Пол, не дожидаясь ответа, сыграл партнеру песню про домохозяйку, с которой до этого знакомил Харрисона.
После того, как отзвучал последний аккорд, возникла долгая напряженная пауза. Но Маккартни взял себя в руки и все-таки дождался, чтобы Леннон нарушил ее первым.
– Это – явный хит, – неохотно признался Джон. – Только все равно… отдает халтурой!
– Почему же?
– Ты скрываешься. Таишься. Какая-то домашняя хозяйка! Какое она имеет отношение к твоей душе? А что там у тебя внутри, неясно. А только это, по-моему, цепляет.
– А твой бульдоляг имеет отношение к твоей душе? – с обидой спросил Пол.
– Нет, – коротко ответил Леннон.
– Значит, не будем записывать?
– Будем. Потому что нет ничего другого…
Пол встал из-за фортепьяно и потянулся, разминая суставы. В лопатках его затрещали свалявшиеся крылья.
– А я тебе давно говорил! Давно предупреждал!
– Что ты говорил? – окрысился Джон.
– А то. Нужны новые формы! Мы давно выросли из трусов милой песенки! Куплет, припев, куплет, проигрыш. Сколько можно? С самоката нужно пересаживаться хотя бы на велосипед!
– Для велосипеда нужно иметь хотя бы две ноги, – неопределенно сказал Леннон, устремившись мутным взглядом поверх головы партнера.
– Пойми, от нас все ждут очередного прорыва! Давай напишем оперу.
– Чего? – промычал Леннон, хлопая ресницами.
– Ну, мюзикл, на худой конец! Что ты кипятишься? – потерял терпение Пол. – Я же не заставляю тебя играть Равеля!
– Спасибо, брат! Спасибо, что этого еврея ты оставил при себе!
– Заткнись! – почти ласково сказал Маккартни.
– Это ты заткнись, Пол! Ты заткнись! – заорал Леннон с неожиданной страстью. – Не Равель нужен, не Бах или другой гнойный пидор! Нужно наше время и наши проблемы! Несчастная душа человеческая, которую измудохали эти подонки, – политики и военные!
– Хорошо, хорошо, – пошел на попятный Пол, потому что больше всего в жизни опасался скандалов и драк. – Пропусти Равеля через электричество, и я соглашусь!
– Не буду я пропускать Равеля через электричество! – нахохлился Джон. – Я лучше городской фольклор пропущу через электричество!
– Городской фольклор!.. Ты и такие слова знаешь? Не ожидал!
Маккартни взял в руки четырехструнный «Хофнер» и начал настраивать его, чтобы успокоиться и прекратить ненужный разговор, который лично ему грозил только одним – ударом в челюсть.
Однако до бокса дело не дошло. Джон вдруг интимно положил свою голову на плечо партнеру и сладко прошептал: