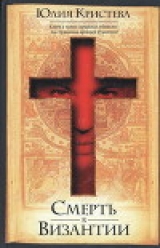
Текст книги "Смерть в Византии"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Парафраз названия поэмы Луи Арагона «Не бывает счастливой любви».
[Закрыть]
Мой новый любовник и старинный друг забылся рядом со мной глубоким сном, что всегда случается после того, как мы принадлежали друг другу. У меня же все наоборот – сначала я ненадолго притихну, а потом бодрствую ночь напролет. Я снова потеряла и заново обрела себя, в том числе и дар речи, я не бесчувственна и не ослеплена, а как обычно – нечто среднее: мука расставания после срастания. В приливе удовольствия происходит предельное раскрытие естества, которое приканчивает меня, я разлагаюсь на мышцы и кровь, которые были до сознательной речи и будут после, и это тоже я зову своей особостью. Наслаждение естьглубоко личная особость, которую мы пытаемся обрести в обыденном ходе наших жизней, особость, которая нас созидает со всем, что в нас заложено, а не только с мышцами и кровью; она способна превратиться в застывший ком мучительной судьбы, а если капельку повезет, то и преобразиться в чудеснейшую раскованность. И то, чем я пытаюсь заниматься так, как это мне свойственно – писать статьи, путешествовать на край света, вмешиваться в расследование сект Санта-Барбары, к примеру, – это и есть сама раскованность, пусть и не «чудеснейшая», хотя и комиссар Рильски не отрекся бы от этого прилагательного, уж он-то умеет прилагать свои силы, когда мы остаемся вдвоем, можете мне поверить.
Я перестала принимать снотворное с тех пор, как мы обрели друг друга, а все же один сон разбудил меня, и вот я брожу по гостевой комнате. HP (для близких – Норди) оставил на ночном столике фотокопию «Дневника» Себастьяна, и сдается мне, больше он к нему не притронется: судя по тому, что я слышала, он им сыт по горло. Может, он в такой ненавязчивой форме предлагает заняться его чтением мне? Но в данную минуту у меня есть кое-что поинтереснее: я сама. Привидевшееся мне только что во сне, бессмысленное по содержанию, но оставившее приятные ощущения, уже почти забылось: собачьи морды довольно жуткого вида, заканчивающиеся розовыми бутонами, нежными и грациозными. Ну и ну, видать, я сюрреалистка! Какая-то связь с детством, но какая?
На самом деле задолго до того, как я открыла в себе талант в области так называемых опасных связей, в детстве у меня было два происшествия, которые вовлекли меня в зону той особости, которую я в конце концов и избрала в качестве своего подпольного жилья. И лишь под действием гнета времени, выхватившего их из числа прочих и наполнившего смыслом, они зазвучали. Оба запечатлены на фотопленке: один снимок – семья в полном составе, другой – бомбардировка. И там, и там я уже занимаюсь политикой в современном смысле слова, то есть веду за собой туда, куда нужно мне!
Мне неизвестно, при каких обстоятельствах были сделаны в моем самом раннем детстве и затем любовно сохранены родителями эти снимки. Однако помню, что предшествовало первому из них, тому, на котором мы все вместе: я сижу на столе, позади – мама и папа; в той же позе, что и я, – моя двоюродная сестра, за ней ее родители. Ничего особенного, если не считать моего ошалелого вида и открытого рта, из которого никогда не донесется крика ужаса, того ужаса, который стоит в моих глазах. Я все еще слышу ласковый голос папы: «Вы позволите поймать мгновение?» С этими словами он бросился к нам от наведенного на нас объектива, укрепленного на треножнике. «Поймать мгновение»? Нечто непостижимое для меня тогдашней, и потому вид у меня совершенно дурацкий, а мама тут же переводит это на понятный для меня язык: «Смотри, сейчас вылетит птичка!» Что птичка сможет вылететь из черной дырки, проделанной в коробке, установленной напротив, казалось мне еще более немыслимым. Суета взрослых, зияние мертвого глаза, который должен был нас поймать, – все это меня, очевидно, поразило до глубины души. Мгновение длилось бесконечно, дыра затягивала меня в себя, я чуть не свалилась со стола, папа едва успел меня подхватить, и тут сверкнула вспышка, навсегда запечатлев меня в состоянии глубокого потрясения. Я не срослась, не соединилась с окружающим, птичка в слепом объективе была лишь воришкой, или колдуньей, которая могла меня проглотить, или механическим двойником большого злого волка, заглатывающего маленькую Красную Шапочку. Меня не было нигде, ни на столе, ни в черной дыре, и мое положение явно было невыносимо, но я худо-бедно все же вынесла его благодаря папе, не давшему мне упасть со стола и тем самым – во мнении окружающих. Моя двоюродная сестра не упустит случая подметить мое нелепое выражение лица – как тогда, так и сейчас – всякий раз, как снимки извлекаются на свет Божий на семейных сборах.
Второй снимок – из разряда отнюдь не смешных. Столицу бомбят, мы бежим в укрытие. Мне года три. У папы на руках моя сестренка – младенец, я же храбро шагаю рядом, держась за мамину руку. Небо в розоватом зареве, как 14 июля. Ракеты взрываются в ночи огненными гладиолусами. Я не свожу глаз с одного их этих светящихся цветков и не хочу идти в укрытие. Внезапно большой гладиолус падает на землю, я выпускаю мамину руку и устремляюсь к нему. Мама начинает кричать. Обжигающий язык пламени, электрический всполох, взметнувшийся с площади вверх и осветивший некий круглый предмет, напоминающий пухлую булочку с бороздками вроде тех, что на раковине святого Иакова. Я бегу к этой булочке, хочу ее схватить и съесть, и тут кто-то (это была мама, которая и рассказала мне обо всем, никто другой не хотел об этом вспоминать) схватил меня на бегу. Булочка взорвалась. Это была бомба. Никто чудом не пострадал. Вот только меня не было. Где же я была? Я слышала вой сирен, меня тошнило от запаха крови, но нигде не было. Во сне я всегда вижу светящийся гладиолус, аппетитную булочку, а дальше – ничего, ночь. Что это, сексуальная символика? Разумеется, если вам так хочется, но нельзя исключать и военную. Я ведь дитя военных лет.
Точно такое же исчезновение из предметного видимого мира порой принимало формы… как бы это сказать, стершиеся. К черту мистику, предпочитаю прямиком идти к собственным, не связанным меж собой узлам, к своей особости. Часто по воскресным дням я сопровождала папу на футбольные матчи. Мы болели за «наших», бесстрашных «Голубых львов», игравших с «Красными», устрашающими футболистами армейского клуба, и льстили себя надеждой, что стоим за Цивилизацию против окружающего Варварства: это был некий акт политической и культурной смелости, о котором вслух не говорилось. Я была горда заслужить доверие всех тех мужчин, что окружали меня. Правила игры, развивавшейся слишком стремительно, мне никак не давались, редкие папины объяснения, довольно-таки непедагогичные, скорее запутывали меня, нежели помогали разобраться. В ритме ударов по мячу я надрывалась в крике «Гол!», когда мяч попадал в ворота «Красных». И все же происходящее со мной находило выход не в крике, а в молчаливой переполненности, я переставала слышать саму себя, теряла свое «Я» и буквально сливалась с наэлектризованной толпой стадиона.
«Потерять свое „Я“» – обычно я не признаю это претенциозное выражение, но в ту минуту речь шла именно об этом, я не ощущала границ собственного «Я», слившегося с другими, вся обратившись в трепетную, вибрирующую, настроенную на общее частицу; как будто, теряя себя и растворяясь в чем-то ином, можно вибрировать! Ан, оказывается, можно! На следующий день я получила тому подтверждение в виде снимка в газете, запечатлевшего решающий гол. И поразил меня вовсе не виртуозный игрок, чье имя я до сих пор помню. В фокусе был не подвиг «наших», а серая масса в движении на трибунах. Одной из крохотных точек с булавочную головку была я, микронная часть магнетического порыва, в котором на дрянной газетной бумаге застыл стадион. Ни одна из моих фотографий, сделанных кем-то из друзей, любовников или более или менее одаренных фотографов, не доставляла мне такой радости и не давала такой уверенности в абсолютной ясности того, что я на самом деле. За пределами себя, поверх семейных ссор, политических кризисов, перипетий любовной жизни, мужских восторгов и ликующего опьянения, к которому пожелал приобщить меня мой отец, уготовив роль простого соглядатая, я праздновала исчезновение своего «Я», наслаждалась изысканным покоем, глядя на эту точку, которая представляла меня такой, какой я и была для самой себя.
Если позже бесконечные странствия вплоть до полного поглощения шлаками виртуального, вплоть до полной дереализации не послужили мне предлогом для депрессии, то потому, что я никогда не сомневалась в своей избранности. Уверенная в том, что благодаря папе у меня всегда есть место на трибуне, я могу, ничем не рискуя, переселиться в ту часть изображения, которая невидима: в наши дни это хуже могилы. Никакого альтруизма в этом самостирании, скорее безразличие, если только безразличие не является обратной стороной альтруизма.
Другие женщины из кожи вон лезут, желая сравняться в достижениях с мужчинами. Я же всегда поступала наоборот, поскольку папа убедил меня – я и заметить не успела, – что я могу быть «в числе» прочих, составлять с ними целое, будучи совершенно иной и вовсе не с ними. Удовольствие от собственной особости во мне не знает границ, я способна без всякой опаски растворяться в безымянности масс. Боитесь ли вы превратиться в безликое «оно»? Значит, вы никогда не наслаждались рядом с вашим отцом, но иначе, чем он, и иначе, чем все другие, кем бы они ни были, тем, что вы один (одна) из них.
На ночном столике Норди валяется пачка сигарет. Он бросил курить, я – нет, а уж этой-то ночью, когда и дорога, и стадион, и та давняя газета, пахнущая сигаретами «Кэмел», которые курил папа, – все это со мной, просто не в силах не курить.
Помню, будучи вожатой в летнем лагере, я в лепешку расшибалась, чтобы быть лучшей. «Мои» дети должны были лучше всех есть, спать, умываться, убирать комнату, выступать, петь, завоевывать все медали в плавании, стрельбе из лука, словом, быть самыми-самыми, поди узнай, почему мне это было так нужно. И мне это удавалось. Коллеги зеленели от зависти, дети были довольны не меньше моего; но у меня началась бессонница. Однажды я прилегла после обеда, чтобы восстановить силы. Словно почуяв, что тиран ослаб, детки распустились, стали вопить и затеяли битву подушками. Что должно было перевесить во мне: гнев или апатия? И вдруг напряжения как не бывало, во мне произошел некий слом, полное безразличие ко всему принесло облегчение. Это был не отказ, чреватый чувством вины, не поражение, наполненное, как правило, горечью и лелеющее думу о реванше. Я только отдала швартовы: ничто меня больше ни с чем не связывало, ничто более не притягивало и не отталкивало, а значит, и не нуждалось в усовершенствовании, то есть не требовало приложения усилий. Я положилась на волю волн, и это полностью преобразило мое восприятие пространства и времени. Не было больше детских криков и визга, мой слух мало-помалу открывался для смеха ласточек, а ноздри наполнялись йодистым запахом водорослей. Я перенеслась в иные места, оторвавшись от действительности и все же как никогда остро воспринимая ее.
Сколько времени это длилось? Пожалуй, несколько часов. Окружающие думали, что я сплю, а я просто-напросто высвобождала себя. В конце концов детские голоса также пробились к моему сознанию – далекие, забавные, но чужие – никак меня не трогающие. В окно влетали белые бабочки, столь же реальные и виртуальные, как фильм. Все, что было внутри и снаружи – ветер, море, небо, цапли, бабочки, комната, я сама, дети, – бесконечно извивалось и дергалось, не было больше порогов, границ, опор, только переливание звуков, запахов, вкусов, ласковых прикосновений, затоплявших то, что было «мною», некогда такое бдительное, как недреманное око, а теперь успокоившееся. Ни волнения, ни превозмогания, только расслабление после удовольствия, осознание бессмысленности, заполняющей пустоты ощущений. Некий флер, легший на застывшие в ожидании возможности. Раскрытия, распускания на этот раз не было и в помине, одно лишь бесконечное прорастание – латентное, убаюкивающее, обволакивающее. Никакой усталости после преодоления зависимости, как бывает после алкогольного или наркотического опьянения. Мое высвобождение из пут не имело цены. Если не считать той, что я заплатила, будучи захваченной врасплох и подверженной любому влиянию. Правда, остался шрам: только так я могу назвать ту депассионарность, что пришла вслед за напряжением сверх меры. Утратив пассионарность, я обретаю весомость слов и осознание непоправимости фальши, присущей живым существам. Мое «Я» выживает после этого уничтожения, но приобретает гротескность. Я превращаюсь в безразличных ко всему бабочек, уносящих остаток моей самости.
Точка.
Я касаюсь губами чела Норди и тихонько поворачиваюсь спиной к нему.
«Отскоки»: точка зрения не для публикацииОтчего меня носит по свету? Оттого ли, что я ищу этого состояния вибрации, этих оптических драм, этих сцеплений, высвобождений, не только остающихся в памяти, но и повсюду сопровождающих меня? Мало того, если поразмыслить, они как будто сообщают если не целостность, так по крайней мере логичность моему кажущемуся скорее хаотичным существованию.
Никто так и не понял, как блестящая студентка филологического факультета, увлекшаяся сперва китайским языком, а потом на короткое время структурализмом, смогла преобразиться в странницу, журналиста-детектива, которого «Лэвенеман де Пари» засылает куда и когда хочет, стоит какому-нибудь преступлению попасть в центр внимания мировой общественности, при этом предпочтение отдается преступлениям, нарушающим права человека. А поскольку любое из них по определению является посягательством на права человека, что ж тут удивляться, что начальство гоняет меня по всему миру, не задумываясь, не нарушаются ли при этом мои собственные права.
Нортроп Рильски мало того что возглавляет криминальную полицию универсальной модели среды обитания, какой является Санта-Барбара, так теперь еще и стал моим любовником – я нахожу, что это не лишено изюминки, чего стоит одно то, как вытянулось бы лицо моего шефа, узнай он об этом! – так вот Нортроп выдвигает сугубо политическую, ультраздравую версию, которую я развиваю затем в разговоре со своей матерью, чтобы оправдать свою «несбывшуюся судьбу», как она выражается, беспокоясь обо мне.
Он считает, что только закат Франции – в частности, ее универсалистских амбиций, экспортируемых (каков парадокс) под лейблом «культурной исключительности», – способен объяснить, что такая женщина, как я, сбегает из Парижа, чтобы копаться в грязи в Санта-Барбаре, Нью-Йорке, Торонто, Токио, Мельбурне, Москве и прочих городах. В каком-то смысле я согласна с этим дорогим для меня человеком. Было время, я подменяла свои эротические увлечения весьма и весьма интеллигентной девицы различными интеллектуальными достижениями. Сен-Жермен-де-Пре [49]49
Самый фешенебельный и аристократический район Парижа.
[Закрыть]отдавал предпочтения теории, авангарду, экстравагантности вкусов, сексуальной дерзости г-на Такого-то и г-жи Такой-то, но при одном условии: это должно было быть стильно. Чисто французское изобретение игра в стильность на грани безрассудства – стало даже предметом экспорта, хотя все меньше способно конкурировать за пределами Шестиугольника [50]50
Таковы очертания Франции.
[Закрыть]с духами и шампанским, которые всегда востребованы, вне зависимости от стильности, как прежде, так и теперь. Пусть ныне эти сокровища и выливают в сточные канавы Санта-Барбары: мстительное настроение пройдет, а вот стиля у них как не было, так не будет, да и в Париже ему, увы, приходит конец. Кончилась «старая добрая Европа», дайте занавес!
Приметы нашего времени – демократизация, всеобщее засилье средств массовой информации, – и как итог – утрата привычки к чтению, что в благополучных семьях, что в пригородах (там она одно время еще держалась, по крайней мере в красном поясе столицы). Юные богачи видят себя в будущем только президентами и генеральными директорами филиалов «Майкрософта» или «Вивенди универсал», золотыми мальчиками или телепродюсерами, а прочие превратились в правонарушителей или исполнителей рэпа. Что до чтения, то оно на нулевой отметке как там, так и здесь. Более нет притока на естественнонаучные факультеты, а на литературные и гуманитарные принимают тех, кто уцелел после сдачи экзаменов на бакалавра и имеет смутные представления об орфографии, а также выходцев из третьего мира, едва лопочущих по-французски в ожидании временного разрешения на проживание в стране. Издатели целиком перешли на выпуск в свет жестоких исповедей либо розовых любовных историй, способных увлечь домохозяйку, которой под пятьдесят или чуть больше, вечную Бовари, по-прежнему считающую своим долгом читать книги в мире быстро мелькающих картинок.
Эта волна накрыла мир более полутора десятков лет назад, «начиная с Миттерана», кисло уточняет Рильски. Мне непонятно, о каких именно – правых или крайне левых – убеждениях моего друга свидетельствует этот его диагноз. Сама я вот уже года два чувствую себя словно в оккупированной стране. Ни одного фильма, ни одной телепередачи или газеты без того, чтобы мне не подали в качестве жизненной модели некий примитив; без того, чтобы какой-нибудь параноик не заявил о себе как о писателе при том, что он всего-то обезьянничает, налегая на риторику или скорее отсутствие оной, обладателя премии Такой-то (год спустя, глядишь, он уже забыт); без того, чтобы мне не подсовывали какую-нибудь истеричку, выдавая ее оргии за последний писк феминизма, и все это – на редкость примитивно и пошло! «Пошлость» формы – непременное условие, ее вам без стеснения подают под видом искусства минимализма, а иные не брезгуют и мистицизмом. «Ты перестала любить Францию», – вздыхает мама, видя, как я снова засобиралась в путь. «При чем тут Франция? Просто вокруг чванливые мелкие буржуа, набравшиеся дурных привычек», – парирую я, пользуясь ее собственным словарным запасом, хотя и сама так думаю.
Что ж! Будут вам картинки, хоть лопатами греби, до отвращения! Я, которую определили в архаические пуританки (это же надо!), отправляюсь за ними в черную комнату, будь что будет! Двину-ка и я в бизнес средств массовой информации, чего стесняться! Я не стану вас уверять, что картинка – это бесовское, что нужно ее запретить, гнать взашей, зашифровать, нет-нет, это не в моих правилах. Бес и тот сдох, остались только опиум и кокаин, эра масс-медиа – эра наркоманов. Я имею в виду не звезд эстрады и писателей, которые колются, не наркоманов-диджеев. Я имею в виду нечто большее: само общество не желает узнавать новое, топит свои страхи и конфликты в тупости обольщения планетарного масштаба, которое не потрясают (о нет, что вы! – лишь снова вызывают к жизни) жалкие скандалы и мощные глотки, призывающие к крестовым походам.
«Дорогая Стефани, отвернуться от зрелища невозможно, в программе не предусмотрено, что зрители покидают зал, и не мечтайте», – наставляет меня мой шеф, по-отечески журя. Ясное дело, кто ж этого не понимает, потому-то я и примкнула к газете этого циника до мозга костей. Хотя нет, один выход все же имеется: не зная, каков расклад, заглянуть в суть, то бишь вступить в игру самой. Вам кажется, я встаю на сторону сильного, тоже мухлюю, хочу впарить вам пошлое, доступное, лживое? Вы так думаете? Но это не так! Своими расследованиями я служу дублером в вашей собственной игре: мы развенчаем оккультные сети буржуазии, сверкающей гротескной ложью и претендующей на то, чтобы превратить любовь в рабочий день с полной часовой занятостью; спугнем розовый балет строгого депутата, зашикивающего гибель семьи; выявим каналы грязных денег, которыми обогатились республиканские шлюхи всех мастей. Мы никого не побеспокоим, вы поставите на этом материале новый фильм, сделаете новую передачу, знаю, знаю. Выявленные и приговоренные к отбыванию наказания скупщик краденого общественного добра и бывший миллиардер-президент-генеральный-директор превратят свои галеры в романы и сценарии телефильмов. Разумеется, мне, философу-лингвисту-семиологу и в придачу журналисту, ведущему расследования, лучше, чем им и вам, внятно писательское ремесло, не зря ж я столько училась, к этому вам следовало быть готовыми.
Однако мое расследование не закончено, и я продолжаю.
Имеется ли что-либо за движущейся картинкой? А как же, люди добрые, имеется – тяга. Картинка пытается ее приглушить, а поскольку есть лишь тяга к смерти, ступайте к Фрейду, он вас успокоит! «Стоп, это больше не в моде», – фыркал один из моих любовников, доведенный до отчаяния моим фанфаронством, а потом перекинулся на экстази, которое совсем отвратило его от секса. Что ж, прикажете мне тоже перейти на наркотики? Нет уж, дудки! Лучше поменять любовника. «Думай, что собираешься сказать, от твоего направления мыслей мне становится дурно!» – жаловался другой, имевший очень низкий «порог сопротивляемости кастрации». Да и не он один, у всего общества, свихнувшегося на зрелищах, тот же порог: не рекомендуется думать, это пагубно сказывается на желании потреблять милых господ потребителей, от этого им становится дурно, им больше по нраву игры «Кто хочет стать миллионером», «Вопросы для чемпиона», в «Биржу», в виртуальные деньги или в ненасытную жажду нарциссической мзды, с которой смертные обращаются не к Господу – где вы Его видели? – а к воображаемой Матери, в роли которой выступает Общество Зрелищ и Мыльного Пузыря. Чего дуться, идите сыграйте, ну же, право, непременно чего-нибудь выиграете, то-то будет радости, привет Селину. [51]51
Селин Луи-Фердинан (1894–1961) – один из самых загадочных французских писателей, автор романа «Путешествие на край ночи» (Перев.: Ю.Б. Корнеев, 1994 г.), название которого и обыгрывается далее и тексте.
[Закрыть]А меня оставьте с моей игрушкой, я расследую – значит я существую, это мой девиз сообщницы в игре, я только пытаюсь продвинуть игру хоть на йоту вперед. В этом мое крошечное дополнительное удовольствие, пустячок, детская забава, хэллоуин просвещенной дамы.
Преступления обрушиваются на нас со всех экранов. Извращенная Стефани, ликующая в аду, создаваемом ею для самой себя, povera disgraziata, [52]52
несчастная бедняжка (ит.).
[Закрыть]какой там рай, сплошная одержимость триллером! К тому же она недостаточно известна, чтобы вымостить хорошо политую кровищей на англо-саксонский манер дорогу, по которой разгуливают психопаты и продажные полицейские – и вся вагинально-желчная язвительность выплескивается в ударах бритвой и выстрелах из «кольта». Нет, этого я не потяну, поскольку в малой степени насмотрелась всякой тележути, не некроманка, не алкоголичка, не бешеная любительница секса, пока еще в своем уме, и притом слегка излишне ироничном, скептичном, лаконичном. Да нет же, право… Вот увидите, если и стоит сделать крюк, то только ради самого странствия; сбегаешь куда-то, берясь за описание преступления, но не раньше, и лишь в оторванности от родных корней, в пересечении видимостей, расплетании узлов и добиваешься саспенса.
Норди продолжает спать, я – нет. По ночам – особенно по ночам – я никуда не спешу.








