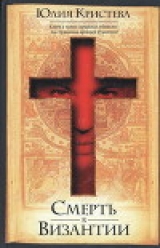
Текст книги "Смерть в Византии"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Я пишу тебе из Парижа, Нор, но не знаю, отправлю ли этот е-мейл. Я пытаюсь приберечь молчание, наше и других, для самой себя. Ты опять идешь по следу уж которого из преступлений серийного убийцы, в связи с чем я была направлена в Санта-Барбару, где и нашла тебя в то воскресенье в наилучшей форме, о великий и непобедимый комиссар Рильски! Когда вернусь, расскажешь, что произошло в мое отсутствие. Что до меня, то я не то чтобы повредилась умом, но вроде как подцепила от Себастьяна заразу его бредовых идей. Вплоть до того, что твердо знаю: он не пользуется своим ноутбуком оттого, что отправился на поиски не Анны, а Эбрара куда-нибудь в древнюю Фракию. Дай мне еще немного времени, день или два, и я помогу тебе отыскать его. Вот увидишь.
А пока ни слова об этом, молчок! Нам ведь обоим так по нраву молчание, оно – спутник нашего чувства. Разумеется, ты отменный краснобай, в определенном смысле поэт, да я и сама профессионально занимаюсь словом. Но встретились мы по-настоящему тогда, когда поняли, что говорить не о чем. Вместе ушли оттуда, где слишком шумно от слов, болезненной патетики и маниакальной экзальтации. Эта точка соприкосновения между нами могла бы превратиться в бесцветное смирение, скуку, убивающую каждого из нас в причастности неслыханному, которое лжет, как говаривал твой любимый Учитель. Как бы не так! Наше молчание охраняет как мою ясность мышления, так и твою – и та, и другая неизмеримы и в то же время выгорожены: я – это ты, а ты – это я, и при этом мы остаемся такими разными во взаимно резонирующих пространствах, что фразы наталкиваются на перегородки, трубные звуки либо плотные предметы, кои они означают, теряя способность достичь того, к кому обращены. Какое слово подобрать к «этому» явлению? Парадокс в том, чтобы найти хотя бы одно, но я все же попытаюсь. «Небытие» слишком грустное слово, наводит на мысль о гибели той слиянности, к которой обычно стремятся влюбленные и которой бежим мы с тобой, и обладает невыгодным свойством означать «зияние» в своем французском варианте, пораженческом, излишне буддистском либо излишне расплывчатом. «Экстаз» – помпезное слово, отягощенное памятью о стольких святых, сотрясаемых застывшими в мраморе конвульсиями, и анорексических мучениках, возносящихся к небу на полотнах. «Безмятежность» – слово заумное, слишком философичное, тогда как «радость» – больно уж детское для таких больших детей, как мы. А вот «молчание» – скромное слово, не отвергающее слова как такового, поскольку именно отсутствием слова обозначает ту синкопу, над которой не властны слова. И в то же время строгое и потому не наносящее нам вред, не опьяняющее, но подающее знак к покою, уступкам, самозабвению. Сколько, право, желания поймать, подцепить, присвоить, подчинить себе в слове Л-Ю-Б-О-В-Ь! А «молчание» – слово чуткое, призывающее меня оторваться от собственных границ, взгляда, кожи и даже горла, всегда готового продлить признаниями ком истерии. Оставаясь чутким к моему телу и к твоему, это слово уносит меня прочь. Молчание вне меня, вне тебя, вне животных, оно – нечеловеческий, звездный перекресток.
Я знавала любовников, которые не умели молчать и делали вид, что говорят со мной обо мне перед тем, как излить мне душу в монологе по поводу их очередной блажи и закончить рассказом о маленьком-дерзком-мальчике-обожаемом-своей-мамочкой, каким они всегда были или, как ты догадываешься, никогда не могли быть. Были и такие, что молчали, чтобы как-нибудь ненароком не ляпнуть чего-нибудь, что могло меня обидеть, и разрушали самих себя: никакого отношения к нашему с тобой молчанию, которое суть не вычитание или изъян, а полнота без иллюзий, это не имеет. Нор, ты наименее патетичный и самый нечеловеческий, слишком нечеловеческий любовник, какого я когда-либо встречала!
Ты точь-в-точь как моя мама. Узнав о том, что она впала в кому, я тотчас вылетела в Париж, чтобы быть с нею рядом. Скоротечный менингит в несколько дней унес ее, в пятницу ее не стало. Сегодня вторник, я вернулась с кладбища, сижу и плачу. И молчу – это оборотная сторона нашего с тобой солнечного молчания. Мама жила в молчании, о котором я пытаюсь рассказать тебе. Она была самой сдержанной женщиной из всех, кого я знала. Можно сказать иначе: наименее истеричной и не склонной к депрессии. Скажешь, таких не бывает? Бывает! И это моя мама, не удивляйся, что я говорю о ней в настоящем времени, она среди нас. Наше молчание было настолько прозрачно, что я не испытывала необходимости говорить с тобой о ней. Но теперь другое дело. Это ведь тоже молчание: писать, находясь в трауре, о том, о чем не можешь сказать. Знаю, ты меня слышишь.
Мой дед по материнской линии звался Иваном, он женился на красавице еврейке Саре, они покинули родную Москву накануне революции и уехали сначала в Женеву, потом в Париж. Будучи психоаналитиком-самоучкой, я подозреваю, что эта докоммунистическая колыбель с ее православными куполами – единственный византийский магнит, притягивающий меня к пути, по которому следует твой Себастьян. Любопытно, что у Ивана со светлыми, как лен, волосами, и у Сары с волосами черными как смоль родилась дочь Кристина, своим точеным профилем напоминающая гречанок с античных ваз, изображенных красным по черному. Ни бабушка, ни дедушка не поклонялись Богу своих предков и воспитали единственную дочь в почитании всемирного Разума, как уже издавна, задолго до революции практиковалось в Москве и Санкт-Петербурге в память о Дидро и Екатерине Великой, но более не практикуется. Если вкратце, республика и Дарвин, единственный «великий человек», который пользовался маминым уважением, ее «наставник» в естественных науках, которые она преподавала, – вот ее вера. А выйдя замуж, она посвятила себя мне и моей сестре, но в еще большей степени – папе. Он был дипломатом и постоянно разъезжал.
Мне казалось, мама не любила отца по-настоящему. Теперь я полагаю, что все же любила, раз завещала кремировать себя, чтобы пройти через то же, что и он. Такова была ее последняя воля: чтобы их урны стояли рядом, и было ясно: это прах семейной пары. Отпевание по православному обряду – об этом она попросила в память о своем отце – показалось мне пресным, вряд ли современные священники сами верят в таинство, это заметно и прихожанами ощущается. Ну, словом, зрелище было жалкое. Возможно, затишье перед новым всплеском веры? А я-то думала, мама далека от религии, ан нет – она пожелала напомнить, что является дочерью Ивана, и таким образом обособиться от папы с его католицизмом. Верная во всем, вплоть до кремации, супруга, но не покорная – такова суть ее последних распоряжений.
Вверяю тебе, Нор, последний мамин образ, запомни его, пожалуйста: греческая богиня в саркофаге – такова была мама в гробу. Строгие, умиротворенные черты, ни восточной размягченности, ни пассивности, которые она порой примеряла на себя перед папой. Чистота, полная достоинства, без приторности. И удивительно гладкая кожа, без единой морщинки, сияющая ровная матовость лица, как обычно и даже больше. Папа на смертном одре чуть ли не улыбался. Мама тоже не выглядела печальной, хоть и иначе, чем он. Сдержанность и предельная самодостаточность были написаны на ее челе, а при жизни ее отличало поразительное умение быть одинокой.
Кристина – так звали маму – была умнейшей из женщин, которых мне доводилось встречать. Обычно так не принято говорить о матери. Но мне в той небольшой речи перед кремацией, которую я произнесла, давясь слезами, прежде всего хотелось отметить именно это ее качество. Острота ее ума, достойного ученого и способного становиться резким, смягчалась под действием чутко уловленной необходимости, и она делалась… я бы сказала великодушной, если бы мама переносила все то, чем обросло это понятие. Ну представь себе: она не упускала возможности оспорить мой профессиональный либо интеллектуальный выбор с ворчливой, полной юмора нежностью, которая не могла на меня повлиять, разве что тронуть, но не позволяла себе ни малейшего вмешательства в мою личную и уж тем более интимную жизнь.
Она чутко прислушивалась ко всему, что имеет отношение к душе, чьей бы она ни была, и при этом хранила молчание, как мы с тобой. Ее любовь не сопровождалась чувством собственности и желанием настоять на своем. Женщина, никому не бывшая в тягость, даже своей дочери, наверняка попадет в рай. Ее отличала легкость во всем. Мои ночи нарушаются кошмарами и все же исполнены ощущения покоя: Кристина – крылышко, перышко, тростинка, вкрадчивая птичка, которая лишь коснулась нас троих – сестры, меня и папы. На самом деле это мы оказывали на нее давление, ведь она была нам опорой. Однако она давала нам понять, что довольствуется тем, что помогает нам двигаться вперед, не причиняя боли другим и не позволяя причинять боль себе, все делала с помощью ласки. «Я вас не высиживала, я дала вам крылья», – было ее девизом, при этом она ничуть не заносилась, только в уголках глаз и губ мелькал намек на ироническую улыбку – она как бы извинялась, что приходится говорить об этом и нарушать молчание.
Ее молчание – молчание нашей сообщницы – было лишь неким промежутком, никак не мешавшим нам поступать по-своему. Мне его будет не хватать. А может, это и есть извечное предназначение женщин, утерянное ими в пресловутой борьбе за равноправие, над которой ты знай себе посмеиваешься (и зря): служить почвой, точкой отсчета, порогом, трамплином, чем-то, что позволяет любимому – ребенку ли, мужчине – взлететь. От трамплина отталкиваются и забывают о нем – такой риск Кристина принимала без горечи жертвенности, в строгом, чутком молчании.
Я никогда не слышала, чтобы она говорила о себе, а уж тем более требовала, командовала. «Какое отсутствие такта!» – шептала она, поджав губы, когда кто-нибудь позволял себе это. На склоне лет мама принялась искать, но не родственников – после стольких лет и событий в России мало кто мог уцелеть, – а исторические документы о дореволюционной Москве: почтовые открытки, альбомы, хроники, различные свидетельства. Тот магнит, который притягивает меня, как и Себастьяна, к православию, манил и ее. Ностальгия моей матушки – женщины, как я уже говорила, образованной – выливалась в то, что она собрала небольшой архив. Аккуратно стоящие папки никому не мешали, в них было все о самом городе, о местонахождении дома, где жили Иван и Сара, о воздухе, которым они дышали там до того, как перебрались сюда.
Однажды – то ли по недосмотру, то ли в результате приступа враждебности, которые возникают между супругами, – папа отнес это сокровище на помойку, заявив потом, что якобы спутал его с рекламными проспектами. Мне не забыть того дня, когда Кристина обнаружила пропажу. Ее черные глаза внезапно стали пустыми, она надолго молча застыла перед своим мужем, это длилось вечность. Затем заперлась у себя в комнате и вышла оттуда лишь сутки спустя с покрасневшими от слез глазами. «Знаешь, дочка, никто не презирает иностранцев так, как презираем их мы, французы. Холодно, без угрызений совести, со спокойной душой. Мы ведь лучшие!» О, это недоброе «мы»! «Не забывай этого, обещаешь?» И все, больше ни звука.
До тех пор мне и в голову не приходило, что папа мог быть ксенофобом, русофобом или антисемитом, ведь он всю свою жизнь посвятил отношениям между народами – объездил весь мир, а однажды привез свое семейство в Санта-Барбару, чтобы служить Республике. Понимаешь? После того случая я уж и не знаю, что думать. Существует ненависть (назовем ее бессознательной), которую лучше не ворошить. Это было единственным эмоциональным взрывом моей матери, если можно так назвать уход в себя, в молчаливое порицание.
За те полтора десятка лет, которые я прожила отдельно от нее, покинув отчий дом, наши облеченные в куртуазную форму и растянутые по времени стычки не предвещали того, какое горе свалится на меня, когда ее не станет. Я ведь считала себя бережёной от горя после того, как отдала дань, отчаянию по смерти папы. Я была словно одета в броню. Тебе да и никому другому – не представить себе Стефани Делакур безутешно рыдающей, словно девочка-сирота! И тем не менее это так. Я плачу не на каком-то языке, я плачу без слов, вспоминая ее взгляд, ее одиночество и это молчание, ставшее мне колыбелью, отчизной. Мне вдруг становится ясно, как много существует на свете того, что мне уже не делать без нее. Ну например, некому будет послать фотографии, на которых мы с Джерри во время каникул. Эти снимки – где мы с ним будем, к примеру, среди роз, на пляже в Мартре или в дансинге в Пергола – никому другому не интересны. Только ей, а ее нет. Может, они будут интересны тебе? И много чего еще, менее личного, более серьезного, что я совершила, заботясь о сохранении достоинства, не зная, что то было ее достоинство, поскольку она направляла меня. Скажу тебе больше: без нее я способна вообще все забросить.
Не бойся: у меня есть Джерри, буду продолжать ради него, обещаю, ты непременно увидишь меня снова в Санта-Барбаре. Но другой. Я утратила чудесную птицу, чьи крылья несли меня. Храню молчание Кристины, вручаю его и тебе.
Стефани.
P.S.
Я медлила с отправкой этого мейла, думала, напишу еще, но нет: траур, тягостное состояние, лень.
Есть кое-что новенькое по поводу Себастьяна. Джерри, сын Глории, которого я нежно люблю и который всегда будет удерживать меня в Париже, нравится тебе это или нет, этот ребенок, которого окружающие зовут инвалидом, просто потрясает меня своими подвигами в области информатики. Теперь, когда он подрос, я обращаюсь к нему со всеми затруднениями, возникающими у меня – увы, нередко – с компьютером. Короче: шаг за шагом – потом объясню – Джерри сумел проникнуть в память ноутбука твоего дяди Себастьяна!!! Я сообщила ему несколько возможных тайных кодов, соответствующих датам, связанным с биографией Анны Комниной: дата рождения в 1083-м, встреча с Эбраром Паганом весной 1097-м, замужество осенью 1097-м, начало работы над «Алексиадой» в 1138-м, окончание в 1148-м. Так вот, подошло число 1097: Охридское озеро, Эбрар Паган, ну, ты знаешь… Но именно Джерри додумался до того, как войти сперва в компьютерную сеть университета Санта-Барбары, затем в сеть кафедры, а уж после – с этим подсказанным мною кодом – в персональный компьютер Себастьяна… Я даже не желаю знать, как все это умещается в его хорошенькой головке. Минуя подробности, сообщаю:
Первое:Себастьян жив и продолжает сочинять «Роман об Анне».
Второе:он идет по следам Эбрара Пагана, своего предка, вашего с ним предка, которым пожертвовала Анна ради государственных интересов.
Третье:менее чем через неделю он прибудет в Пюи-ан-Велэ. Такой вывод мне позволяет сделать его одержимость вопросами веры. Он создал свой собственный мир, полный фресок, церквей, соборов, ищет Святую Святых и неминуемо окажется у истоков крестовых походов, в «Salve Regina».
Не спрашивай пока более ни о чем. Позже все объясню. Лучше позаботься о том, чтобы за ним была установлена слежка и его можно было схватить на месте: Фулк Вейль смог бы помочь тебе в этом – связать тебя с французской полицией, у которой, говорят, дел невпроворот в связи с кризисом охранных структур в данный момент. Встречаемся в соборе в Пюи. Поторопимся. Обнимаю. До скорого!
VI
Не писать более ничего, что не вгоняет в отчаяние все виды «спешащих» людей.
Фридрих Ницше. «Утренняя звезда»
Что им нужно? Найдена утопленница
Одно из двух: либо серийный убийца, так называемый Номер Восемь, был не кем иным, как г-ном Бесконечность, китайцем, к чему склоняется комиссар, либо кто-то пытался заставить нас в это поверить, но в таком случае этот кто-то знал Номера Восемь, то бишь г-на Бесконечность, как самого себя. Верилось с трудом… При нынешнем состоянии расследования Попов не мог отдать предпочтение ни одному из предположений.
Генетическая экспертиза дала весьма озадачивающие результаты. Хромосомы Фа Чан и китайскою г-на Бесконечность, оставившего следы, позволившие выделить ДНК, на последнем из своих посланий, написанном иероглифами, оказались поразительным образом одинаковыми – ученые собрали даже по этому поводу консилиум. Генетический код одного человеческого существа не совпадает ни с одним другим, разве что речь идет о клонах. Ничто, конечно, не мешало «Новому Пантеону» вступить в контакт с раэлистами [99]99
имеется в виду секта раэлистов, которые считают клонирование шагом к бессмертию
[Закрыть]с целью клонировать кого-либо прямо под носом у комиссара, но в данном случае речь не шла о полной идентичности, к тому же обоим индивидам было под тридцать, ergo, они появились на свет задолго до успехов науки в данной области. Столь разительная генетическая схожесть давала повод думать, что утопленница и г-н Бесконечность были либо близкими родственниками, либо даже братом и сестрой-близнецами. А поскольку у мадемуазель Чан имелся лишь один известный брат – что не исключало наличия и других, но все же отчего бы не начать с законного? – г-н Бесконечность не мог быть никем иным, кроме как Сяо Чаном, ее братом-близнецом, математиком, орнитологом и антиглобалистом, то ли сумасшедшим, то ли наркоманом, недоступным по причине каникулярного времени.
Слишком много «либо»? Пойдем дальше. Если до сих пор все верно, выходит, Сяо Чан намеренно оставил следы слюны, крови и пота на своем послании, то есть с целью разоблачить себя? Покерный прием, последний маневр Чистильщика или заявка на новый этап Мести с большой буквы? Фатальное предзнаменование из Апокалипсиса, ответственность за которое он готов взять на себя? Бросить наконец вызов миру?
Другая загадка: почему убит Минальди? У ассистента профессора Крест-Джонса были разовые контакты с «Новым Пантеоном», как и у всех, но не более того: его приглашали на коктейли-совещания к его преподобию, по примеру большинства интеллектуалов в этой стране, в которой почитают «учителей мысли», имеющих отношение к власти, по преимуществу оккультного характера. Он даже прочел лекцию на тему «Опасность глобализации для метилированного человечества» – оксюморон, который не просит хлеба, по выражению комиссара (а уж он-то, само собой, знает, о чем говорит!). Кроме того, он посещал известное закрытое заведение, как и все другие, находящиеся на содержании мафии, а значит – «Нового Пантеона». Пожалуй, все. Хотя еще одна деталь: утопленница Фа Чан была на четвертом месяце беременности, в утробе формировался зародыш мужского пола. Может, это нить, ведущая к Минальди? У него та же группа крови, что и у зародыша, что само по себе еще ничего не доказывает. Пока на этом можно остановиться – ну не искать же в самом деле отца бедного зародыша. И без того уже с этими близнецами научный отдел полиции стоит на ушах! Может, Сью Оливер что-нибудь скажет?
Попов потер глаза – с тех пор, как шеф сделал упор на истории с китайцем, спать ему приходилось очень мало – и позвонил в дверь своей стародавней подружки, известной в городе проститутки и осведомительницы. «Министерство иностранных дел – это она!» – иронизировали злые языки в Санта-Барбаре. «И министерство культуры в придачу», – подтрунивали знатоки, коим была ведома, так сказать, структуральная взаимозависимость между сексуальной свободой и современным искусством.
Сью открыла не сразу. Обычный для этого часа видок: темные круги под глазами, щеки кирпичного цвета, запах табака и виски, которым разило, когда она пыталась говорить громче, что у нее не всегда с похмелья получалось.
– Я, наверное, слишком рано, ты не одна? – проговорил Попов, весь в мыслях обо всех тех «либо», что не давали ему покоя.
– Не волнуйся, дорогой. Собрание за собранием, я ведь борюсь, ты же знаешь. Кофе? – Сью подставила ему дряблую щеку и направилась на кухню. Из спальни донесся треск застегивающейся молнии.
Года два назад – Попов совсем потерял счет времени с тех пор, как этот мерзавец серийный убийца нарушил покой в городе, – Сью Оливер прославилась признаниями о своей сексуальной жизни, сделанными одной журналистке. Это было что-то! Люди «инь», то есть идущие в ногу со временем, приветствовали новую Еву, отсылавшую наконец феминисток к их лживому и реакционному пуританизму, те, в свою очередь, почитывали ее тайком, и только несколько бездарных психоаналитиков заявляли, что Сью лишена женскою начала и принимает себя за гомосексуалиста на службе всех желающих. Кто был прав, кто виноват – отгадать Попову было не по зубам, да и к чему? Книжонка увлекательная, что верно, то верно, не в обиду будь сказано шефу, который по прочтении высказался в том духе, что манера письма без излишеств, а сам предмет исследования описан с глубокой проникновенностью. Никто и не ждал, что комиссар отреагирует как все, но все же на сей раз он малость перегнул палку. Что до проникновенности – тут уж не поспоришь, что есть, то есть!
Судите сами: Сью предпочитает определенную зрелищность и постановочный эффект – быть взнузданной по средневековому обычаю, с завязанными глазами, и бесстрастно подставлять все что можно всем имеющимся в наличии удам, при этом вслух считая удавшиеся соития. Чувств – отвращения там, экстаза – никаких, все должно происходить как на плацу во время парада, к примеру, в армии Спасения, в батальоне спецназа. И потому книга представляет собой голую констатацию физиологических отправлений и описание органов, причем мужские особи показаны в виде механизмов, используемых женскими, также механизмами, да и вообще различия между полами как бы уже и не существует. Счет идет не на лица, а на головки половых членов, работа длится часами, порой описывается состояние собственной плоти при попытках со стороны задушить ее – насладиться, так сказать, по полной до смерти – не своей, конечно. В конце концов, это она, Сью, их всех поимела, а не они ее, только это и важно. Словом, полный триумф – и профессиональный, и литературный. Стойкость весталки, научная любознательность, брошенная под ноги божеству – Фаллосу, искусство, поставленное на службу прав потребителей, – чем, скажите, не революция? Прорыв человечества из ставшего посмешищем XX века с его психологизмом и тендерными исследованиями! Мировой успех обрушился и на саму Сью, и на Санта-Барбару, породившую феномен. (Я имею в виду текст!) Целые автобусы, набитые мужчинами и женщинами – последних даже больше, – потянулись вереницами из Японии и Америки с целью прикоснуться к жрице любви, облаченной в костюм от Кензо, – ни дать ни взять священная реликвия. Ибо Сью превратилась в творца и одевалась соответствующим образом, что даже самые завистливые из ее недругов нашли в порядке вещей: садомазохистское общество получило звезду, которую заслужило.
– Первопроходец, пионер! – ликовал и Рильски, но не в унисон со всеми, а как-то иначе – как всегда, на свой лад.
Попов же, задетый, как говорился, за живое, припал к источнику в прямом смысле слова. И глоток им был сделан немалый, и не один, не станет же он их считать, в самом деле, разве что это сделала Сью, тогда что ж, он не прочь подтвердить, но куда там, смеетесь, в этакой-то неразберихе! Да вряд ли ей вообще кто-нибудь запоминается в этом угаре! Рай, да и только. Самым же удивительным было то, что она выжила среди садистов и наркоманов. Кому, как не Попову, было знать, что от таких, как она, обычно остается лишь труп после подобных приобщений к райским кущам, так нет же, в этом театральном действе инициатива принадлежала ей, режиссером была она, и самое удивительное – им это нравилось, и они уходили от нее довольные. Сама же Сью – не без потерь, конечно, не без телесных повреждений, но живая и с холодной головой появлялась с некоторых пор в телеящике и вещала.
– Ты борешься? А с чем? – Лейтенант был немало удивлен словами той, которую средства массовой информации окрестили богиней Небытия.
Дверь спальни распахнулась, и на пороге появился Ники Смит в своих вечных замшевых штанах, клетчатой рубашке и кроссовках. Этот ублюдок был главным сутенером Санта-Барбары. С тех пор, как слава коснулась Сью своим крылом, он не отходил от нее ни на шаг. «Такое сокровище! Как же ее не защищать?» (Он считал себя обязанным объяснять, в чем был его собственный вклад в феномен Сью. Только подумать, этот остолоп был когда-то мужиком!)
– У вас, я вижу, как ни придешь, все последний день карнавала накануне поста. Борьба и вечный карнавал. – Эту реплику Попов позаимствовал у героя недавно прочитанного детектива, ему хотелось поставить себя повыше, на самом же деле он ревновал.
– Смейся, смейся, нам не до шуток. Времена-то непростые. Либо аболиционизм, либо закрытые клубы: и ты называешь это выбором? – Хриплый голос Сью окреп и зазвучал угрожающе. Попову же эти «либо-либо» надоели хуже пареной репы.
– Кто смеется? Я? Разве я вообще что-нибудь сказал? Ну-ну, котенок, успокойся, ты же меня знаешь. Интересно, что приводит тебя в такую ярость? – Попов и впрямь на глазах рос над собой и окружающими.
В местной газете заспорили два клана. И хотя заместителю главного комиссара было не до литературных баталий, он понимал: новая власть готовится регламентировать проституцию. Снова? Да, мой дорогой! А поскольку секс-туризм становился одной из статей дохода в бюджет, правительство не могло безучастно взирать на снижение доходов от манны небесной при том, что мафия загребала лопатами. Вот только граждане – они еще водились даже в этих местах – возмутились торговлей живым товаром, дурным примером, подаваемым молодежи, как и различными видимыми и слышимыми неудобствами, сопряженными с наличием в городе – и прежде всего в богатых кварталах – социального дна. Что делать? Аболиционисты потребовали полного искоренения проституции. Но начинать пришлось бы с клиентов: за решетку всех, кто поощряет проституцию, тогда и с желанием будет покончено. То есть искорени причину – и постыдная торговля женщинами будет стерта с лица земли: так считали самые светлые головы.
– А знаешь ли ты, Попов, что такое аболиционизм? Нет, не знаешь и не хитри! Эти ребята в давние времена хотели уничтожить рабство, ни больше, ни меньше, и добиться этого, к примеру, в Америке. Я же – в понимании здешних аболиционистов – рабыня. Что еще? Я не говорю, что в нашей профессии, как и в других, нет издержек, уж ты-то это знаешь, мы все в большей или меньшей степени преступники. Все это так. Но что ты скажешь насчет того секса, которого они добиваются: «при взаимном уважении пришедших к согласию сторон». Да со времен Тумая секс и дубинка неразлучны! Эрос и Танатос, как говорит этот, как его, ну, ты знаешь. Сексу нужна определенная обстановка, это ведь искусство, трагедия, комедия, маскарад, риск. Чувства тут ни при чем. Даже святые отцы это знают – заходят ко мне, так сказать, наверстать упущенное. – С тех пор, как Сью познала успех на литературном поприще и стала посещать интеллектуальные круги, участвовать в дебатах и обмене мнениями в телепередачах, она заговорила уже как специалист, чуть ли не антрополог.
Попов ждал продолжения, она же упивалась эффектом, произведенным ее словами.
– Мы тут собрались и составили депутацию. Дорогие папа-мама, сказали мы им, нет нужды в ваших заботах, мы уже большие, чтобы самостоятельно защищаться, оставьте нас и дайте нам слово. Результат тебе известен. Ничего не поделаешь: они хотят нас изничтожить и мужика в придачу.
– Ты права, крошка, и мужика. – Ники довольно закивал головой. Ну как тут не подумать, что идея «депутации» исходит от мафии?
– Кому сегодня есть дело до мужика? Тебе да мне. Вымирающий вид, одним словом, – поддержал Попов.
– Большинство женщин соглашаются на секс лишь при наличии любви – сказала их главная феминистка. Возможно. Не уверена, но допустим. А большинство мужиков? Думаешь, они смешивают секс и любовь? – Поистине Сью была редчайшим образчиком женской особи, по праву могущим рассчитывать на поддержку и одобрение со стороны мужчин.
– Остается клубная модель, закрытые заведения. Что ж, годится. – Попов старался быть объективным, кроме того, водились у него и соображения относительно общественной гигиены.
– Ну и решение, ничего не скажешь! Нас, значит, запереть, как скот, и держать под наблюдением! Тогда уж лучше больницы! А нас превратить в кур. Спасибо, не надо! – Сью чуть не стошнило (слава Богу, хоть от чего-то).
Она была права. Почему никто не думает об удовольствии современного мужика? Не голубых, у этих-то все в порядке, им больше нет надобности прятаться, а других! Но молчок! Попову вспомнились все, с кем он сталкивался по работе: водители грузовиков, судьи, консьержи, священники (эти втайне), всякого рода отбросы, деятели культуры, чиновники разных уровней, экс– и будущие министры, ну, в общем, из всех слоев общества, демократия, так сказать, ниже пояса. Вроде бы все они счастливы не хуже королей. Да нет, мужики и впрямь короли! Интимные признания Сью расходятся на «ура» по всей планете, и ни одному журналисту не придет в голову поинтересоваться мнением самих мужиков! Это и есть последнее из табу. Куда до нее всяким там голубым и прочим!
– Я тебе скажу, что меня шокирует больше всего. – Сью уже не сбить с пути. – То, что они хотят ввести закон, – это нормально, это их работа, всех этих юристов, синдикалистов и т. п. Но ты же знаешь, их уже не остановить, а бабы – так те от этого еще и возбуждаются, прямо кипятком писают, так мы им не даем покоя! Тьфу, гадость!
Попов пришел сюда, однако, не за тем, чтобы выслушивать ее разглагольствования по поводу секс-тружениц.
– Скажи-ка, ты уже в курсе по поводу убийства на факультете? Кстати, дарю тебе сюжет для твоих депутаток: «Университет и проституция»… Некий Минальди – это тебе что-нибудь говорит? – Попов самостоятельно докопался до того, что Минальди посещал Клуб деятелей культуры, иначе говоря, бордель, хозяйкой которого была Сью, а главным охранником – Ники.
– Не смотрю телевизор и не читаю. Ты меня знаешь: я пишу, – с апломбом отвечала Сью.
– От тебя не требуется читать, и телевизор смотреть – не преступление. Успокойся, я знаю, что не ты кокнула Минальди. Он был одним из твоих клиентов, – проговорил Попов, глядя ей прямо в глаза.
Сью не была уверена на все сто, что ее литературная слава способна оградить ее от полицейских ищеек. Ну да, знала она этого Минальди – кстати, совсем не в ее вкусе, – приходил вкусить острых ощущений, выдавая себя за кафедральное начальство, перед тем как отправиться к жене своего шефа, которая наставляла с ним рога своему муженьку. Здесь он разогревался. Нет, не по ней весь этот психологический бульон… Слабак, хлюпик. И это не секрет, все в клубе это знали, да и на роже у него было написано…
– А он тебе, случаем, не говорил, что у него и с китаянкой была интрижка? – перебил ее Попов.








