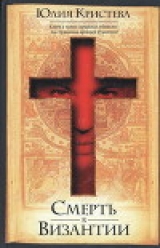
Текст книги "Смерть в Византии"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
– Правильно ли я вас понял, Минальди, что Себастьян Крест-Джонс вел подпольные исследования? – Рильски взглянул прямо в глаза Минальди.
– Можно и так сказать, но, ежели хотите знать мое мнение, комиссар, это были даже не исследования, а что-то вроде погони за мечтой, что-то глубоко личное, хрупкое, непонятное. – Тон Минальди стал развязным.
– Ясно. Попов, обеспечить доступ ко всему: документы, дискеты. Засадить экспертов за дело, мне нужно серое вещество профессора в препарированном виде. Да поживее! Глаз не спущу. Что до вас, господин Минальди, запрещаю вам отлучаться из города без предупреждения. Завтра будьте здесь ровно в девять, само собой, без опозданий, может, мне понадобится ваше компетентное участие. – Рильски напустил на себя важный и снисходительный вид.
«Дневник» исчезнувшего профессораГде находится человек, которого нет нигде? Нортропу было знакомо это состояние невесомости, и мысль, что Себастьян на свой манер вкусил его, не вызывала в нем никаких эмоций, оставляла его безучастным. Он был уверен: мания Себастьяна не более чем причуда либо паранойя. Недостаточно куда-то переселиться, чтобы испытать состояние постоянной оторванности от корней: столько людей покидают родину, и ничего, за границей они еще больше держатся своих, земляков, селятся вместе, создают кланы в самом сердце принимающей страны, которую предпочитают не знать, поскольку пребывание на давшей им приют земле унижает этих кочевников, хотя и кормит лучше, нежели родина. К Нортропу это не имеет никакого отношения: он родился в Санта-Барбаре, здесь его корни, за исключением разве что деда Сильвестра Креста, но в любой семье в любые времена кто-то непременно бывал пришлым, а уж тем более в Санта-Барбаре, где каждый – иммигрант во втором или третьем поколении. Правда, и иммигранты бывают разные: взять, к примеру, клан Рильски, отца Нортропа – его родные тоже ведь когда-то приехали сюда в поисках лучшей доли, как и соседи, однако же стали людьми уважаемыми, для которых музыка – главное и которые не рыщут день и ночь в поисках своих корней, им достаточно того, что теперь они санта-барбарцы, и точка. Сильвестр же Крест и впрямь несколько выделялся на фоне остальных, ну да предоставим его собственной судьбе, которая не имеет ничего общего с судьбой комиссара Рильски, если уж взглянуть правде в глаза, вместо того чтобы мудрить. Ничего общего – и дело с концом!
Однако… это беспокойство, эта въевшаяся в плоть и кровь непоседливость в самом Рильски, откуда они? Ах, да какое это имеет значение! Но тогда выходит, они с Себастьяном похожи? Бедный, бедный Себастьян! Искать истоки своей доли – ребенка, прижитого на стороне, – в хрониках крестоносцев! И где! В Санта-Барбаре, в которой никто никогда не слыхал о Готфриде Бульонском, Петре Пустыннике и Анне Комниной! Вот уж поистине Византия, [30]30
Во французском разговорном языке выражение «Это Византия» имеет смысл: «чего только нет», «всего в изобилии».
[Закрыть]а самое удивительное во всем этом то, что главный комиссар, человек рациональный, прямой в своих суждениях, стоящий на страже законов своей страны и призванный защищать ее от чокнутых всех мастей, дал втянуть себя в эту игру, сбился с пути, отправившись по следам своего двойника со знаком минус, какого-то профессоришки Крест-Джонса, о котором он и думать забыл и которому сидеть бы в безвестности, кабы не появилась у него тяга к исчезновению.
На следующее утро, уже не блуждая по университетским коридорам, Рильски явился на кафедру. Минальди был на месте, чему Рильски обрадовался, поскольку ни сам не любил попусту терять время, ни когда это происходило по вине других.
«Дневник» пропавшего профессора лежал в основании первой из трех стоп, которые эксперты бригады приготовили для него на рабочей поверхности стола из белого пластика, стоявшего в углу кабинета. Рильски полистал «Дневник» и решил взять с собой, чтобы изучить в спокойной обстановке. Две тетради по сто страниц каждая, испещренные тем размашистым почерком, которые если где и сохранились, так только в любовных посланиях, хранимых престарелыми дамами вместе с засушенным цветком меж пожелтевших страниц требника, не открывавшегося с тех пор, как глава семейства покинул этот мир. Ничего общего с убористым почерком Нортропа, поддающимся прочтению лишь с помощью лупы. И речи не могло идти о том, чтобы прочесть все, в любом случае – не сразу, не в полном объеме и не в хронологическом порядке. Разве что проглядеть, как обычно делают полицейские с показаниями свидетелей и задержанных, подмечая важное: там что-то не сходится, здесь что-то вызывает подозрение.
Вместе с «Дневником» для него было приготовлено и немало папок с наклейками:
Амьен – Петр Пустынник Кукупетр
Готье Неимущий [31]31
Готье Неимущий (ум. в 1096 или 1097) французский рыцарь, возглавивший часть «похода бедноты».
[Закрыть]Готфрид Бульонский
Боэмунд Торонтский [32]32
Боэмунд Тарантский (ок. 1057–1111) – князь Антохийский (1098–1111), один из вождей Первого крестового похода, бравший Антиохию. Будучи плененным, отдал власть своему племяннику Танкреду; заклятый враг Византии, был вынужден объявить себя вассалом Алексея I Комнина.
[Закрыть]и Танкред [33]33
Танкред (1078–1112) – герой Первого крестового похода, первым взошедший на стены Иерусалима (1099), управлял Антиохией. Воспет Тассо в «Освобожденном Иерусалиме».
[Закрыть]Пюи-ан-Велэ
Анна Комнина
Везелэ
Урбан II
Иннокентий III [34]34
Иннокентий III – антипапа в 1179–1180 гг.
[Закрыть]Коломан [35]35
Коломан Арпадович – король венгерский.
[Закрыть]Энрико де Лейнинжен и евреи
Ниш – Филиппополь
Фридрих Барбаросса [36]36
Фридрих Барбаросса (1123–1190) – первый император из Дома Гогенштауфенов, на престоле с 1147 г. Долго боролся против Пап и ломбардских городов. В 1189 г. отправился в крестовый поход, но утонул в реке в Киликии. Герой многих преданий.
[Закрыть]Крестовый поход детей
Вот уж поистине Византия! Экзотика средневековых имен, необычность, эрудированность… Нортроп совершенно потерялся, да и то сказать, тут сам черт ногу сломит.
– Чтобы облегчить задачу, комиссар, я вам обеспечил доступ ко всей этой документации в компьютере. Там же и изображения, согласно описи: фотокопии источников, слайды гобеленов, фресок, картин, скульптур на тему и даже виртуальное представление о Первом крестовом походе. А также несколько фрагментов, относящихся к трем последующим походам, в основном те, что как-то связаны с Филиппополем. Но внимание профессора было приковано прежде всего к Первому, это было его навязчивой идеей!
Стоит ли углубляться во все это ради того, чтобы зацепиться за нечто, способное высветить, что же творится в голове у Себастьяна, и получить хоть какое-то направление для собственного рационального подхода к делу? Нетрудно ведь и потеряться во всей этой византинщине, особенно если пошлый цицерон виртуальности, то бишь любовник Эрмины, в конечном счете так ничем и не поможет! Решительно, этот Минальди не внушат ему никакого доверия. И все же заглянуть не помешает. Что подскажет интуиция – начать ли с «Дневника»? Или вообще ни к чему не притрагиваться? Рильски колебался. Так ли уж действительно серьезна эта выходка Крест-Джонса чтобы сам шеф криминальной полиции лично засел за бумаги? И это при том, что более срочные загадочные дела, такие, к примеру, как серийные убийства, оставались нераскрытыми?! А мафиозная деятельность сект достигла такого размаха, что из Парижа даже прислали спецкора?! Не являлась ли пропажа Себастьяна простой эскападой, блажью чудаковатого профессора, капризом рогоносца, шуткой, предпринятой с целью раздразнить бестолковую жену, а заодно и засветиться в средствах массовой информации? Да таких шуток пруд пруди! Если только Себастьян не член бандформирования под началом серийного убийцы или сам не киллер, что вполне возможно, а весь этот невинный средневековый антураж не более чем ловкое прикрытие для темных делишек. Может, идея и была несколько чересчур оригинальной, но исключать ее полностью не следовало.
Себастьян делал записи и выписки на греческом, латинском, французском, немецком языках и даже использовал кириллицу. Для какого же это языка? Болгарского, сербского, македонского или всех их вместе взятых? В колледже, куда по желанию своего отца был помещен в детстве Себастьян, он получал все премии за знание иностранных языков, но (что это, случайность?) только после смерти своей матери Трейси Джонс.
За одним семейным обедом Гризельда упомянула о даре к изучению языков своего единокровного брата, о чем ей рассказал один знакомый. Никто из сидящих тогда за столом не счел это чем-то исключительным: теперь все говорят на нескольких языках. Дока в языках или нет – малолетний дядя был обречен оставаться в тени. Позже тот же знакомый поведал – а Гризельда не без коварного умысла передала всем заинтересованным лицам, – что вундеркинд ничуть не опечалился, узнав о смерти матери, зато до такой степени увлекся своей бабкой по отцовской линии, которую ему не привелось узнать, что отправился на поиски ее могилы в Болгарию. И даже привез с собой горсть земли в жестянке из-под чая, которую с благоговением показал своему соседу по комнате в университетском городке, сыну того самого информированного знакомого Гризельды. Поставленное перед фактом столь необъятной верности памяти предков семейство Рильски сперва дружно выкатило глаза, а уж после сосредоточило их на содержимом тарелок – таково спасительное действие благовоспитанности.
Рильски склонился над страницами с голубоватым кружевом отжившего свой век почерка, отдающего женской сентиментальностью.
«Говорить на всех языках и ни на одном из них – значит говорить на языке тишины. Я не из их числа, я говорю так, как в моем представлении им хочется, чтобы я говорил, и это вовсе не обязательно ложный язык, но это точно определенная роль. От одной роли к другой – и вот я уже с удивлением обнаруживаю, что болтаю. Ребенок с заживо снятой с него кожей молчал, а потом превратился во взрослого болтуна, использующего язык тишины».
Когда же он мог написать такое? После любовного разочарования? Ссоры с Эрминой? Случайной встречи с Рильски, не узнавшим его? Поскольку даты проставлены не были, записи застыли, заиндевели в своей вертикальности. Один на один с «Дневником» Себастьян позволял себе лирические пассажи, более или менее вдохновенные мечтания вперемешку с откровениями пловдивских крестьян, описанием местных красот, поэтическими строфами и цитатами на различных языках. И все же было очень странно, что, несмотря на то что в этих записях тщательно реконструировалась одна очень давняя история – видимо, история рола Крестов, – с привлечением исторических документов, имеющих отношение к крестовым походам, ни на одной из страниц «Дневника» не была проставлена дата. В его времени места для самого времени не было.
Нортроп подумал о той тишине, которая – он ощущал – утверждается в самой глубине его существа и к которой он теперь прикоснулся после дня, проведенного в допросах закоренелых преступников либо все еще не оправившихся от потрясения жертв, в разговорах с занятыми сверх меры и уже ни к чему нечувствительными судейскими и должностными лицами, циничными законоведами. Продырявленные пулями и замороженные в моргах трупы были, как ни странно, более многословны в своей немоте. «Беседовать с этим криминальным людом», «беседовать о нем» – не совсем подходящее выражение. В качестве полицейского он скорее ограничивался расшифровкой диалектов и выявлением сути, которая чаше всего оборачивалась лишь молчанием. Безотносительно того, что толпа именует «чудовищным» и «зверским» в «человеческой природе». Не переступившие черты любят театральные эффекты и шум, их отвращение само по себе зрелищно, красноречиво. В глубине человеческого существа, там, куда целит ужас, Рильски наткнулся лишь на плотную тишину, неизмеримую странность, еще более пугающую, чем безумие, которое в конечном итоге довольствуется теми патетическими, но невинными колебаниями на поверхности, от которых кипятком писают психиатры.
В другом месте Себастьян размышлял:
«Я ничтожество, лишенное родины. Все изгнанники родом из каких-то других краев, которые они либо предпочитают принявшим их странам, либо ненавидят, чтобы лучше слиться со второй родиной. Я знаю таких, что заделываются поэтами и непрестанно мечтают о „хрупких березках, укрытых снегом“ или о „согревающем аромате приправленных блюд, укачиваемом голубизной вечного моря“, оставшегося в стране, где прошло их детство. Знаю и других, что прячутся за маской безразличия. И третьих, что жалуются на все и вся, превратившись в жертв приютившей их страны, словно жалоба – последняя цена за свободу, что в тысячу раз предпочтительнее, чем рабство, от которого они бежали! Я же не бежал и не выбирал. И тем не менее я не у себя дома. Когда же я отправлюсь за границу, то узнаю на лицах незнакомцев знакомое выражение людей ниоткуда: что это – нечто и впрямь присущее им или же отблеск моей собственной неприкаянности? Я не принадлежу никакому пространству, возможно, я принадлежу времени, когда оно сжимается и не может быть определено никакими пределами…»
«Каким же лиричным мог быть мой дядюшка! А все дело в том, что ему выпала незавидная доля бастарда, однако бастарда, признанного родней и даже балованного, я сам тому свидетель! Согласен, не каждому выпадает такая доля, и что из того? Может, он слишком начитался Сартра и возомнил себя ангажированным интеллектуалом, сидя в своей асбестовой башне. И все равно мне его нисколько не жаль! Что до чужестранцев – эка невидаль, да в одной Санта-Барбаре их столько! И не все они незаконнорожденные, насколько мне известно! У профессора явно была склонность воспринимать себя этаким первооткрывателем удела человеческого. Чуть ли не искупителя. Да, интересно. Но как это связано с его исчезновением? А это его „ничтожество, лишенное родины“ вообще вполне применимо к немалому количеству людей».
Сам комиссар не испытывал никакой ностальгии и не стремился никуда бежать. Да и то сказать: разве это решение проблем – покинуть одно место, устроиться в каком-то другом? И у него есть нечто, роднящее его с Себастьяном: он тоже никому и ничему не принадлежит, разве что Стефани, но их любовь только зародилась, да и совместима ли она вообще с понятием принадлежности? Любовь – это музыка, оборотная сторона тишины, сопутствующей также и злодеянию.
– Профессору Крест-Джонсу было не занимать воображения, вы не находите, комиссар?
«Не хватало только, чтобы этот нахал Минальди склонялся над моим плечом и высказывал свое мнение! Ничего удивительного, что Себастьян послал их всех подальше и дал деру».
– Думаете, он не умер, а бежал в страну своих изысканий? – Рильски превозмог отвращение и строил из себя эдакого тонкого знатока подростковой психологии, которая, как известно, подходит и для недоразвитых взрослых.
– Вот уж чего не знаю, того не знаю. Однако Эрмина – я хотел сказать, госпожа Крест-Джонс, – очень тревожится, хотя полно народу исчезает, и никто не беспокоит по их поводу полицию только потому, что родным на них начхать или таковых попросту нет. Вот вам свежий пример: наша юная коллега Фа Чан, китаянка из Гонконга, которая на кафедре уже два года, ее не видно недели две… Надо думать, она предупредила профессора о своем отъезде – ну, там повидаться с бабушкой с Тайваня или с дружком в Сан-Франциско… Но поскольку она здесь одна, без семьи, а ее окружение не знакомо с высшими полицейскими чинами, тревогу никто пока не забил. – Минальди заговорил совсем уж неприличным тоном превосходства.
Не хватаю еще какой-то там Фа Чан в этом их скучнейшем паззле! Вот уж действительно, в Санта-Барбаре один лишь мигранты, «ничтожества, лишенные родины», как выражается Себастьян. За исключением Минальди, который ни в чем не сомневается, – Рильски готов руку дать на отсечение, что этот уж точно ощущает себя коренным жителем! Отсюда его высокомерный тон. Наверняка, как и все, иностранец во втором поколении, но единственный, кого это не волнует. «Хуже всего то, что всегда будут минальди, монархисты, националисты, популисты и более или менее убедительные академики, которые никогда открыто не протестуют против современного способа скрещивания породы – ах, только не это! – из страха сойти за лепеновских бездарей, но не упустят случая потребовать чистоты республиканского или монархического строя», – мелькнуло у комиссара, пока он открывал и закрывал досье с наклейкой «Петр Пустынник». Пустынник подождет! Молча работали эксперты: опечатывали, укладывали дискеты в ящички, не обращая никакого внимания на Минальди.
Рильски заскучал. Что ж, на сегодня хватит. К счастью, есть Стефани: награда, сюрприз. И это неожиданное согласие между ними… Какое счастье увидеть ее снова.
Странное дело, некоторое время назад, до ее приезда, у него как-то внезапно сама собой созрела уверенность, что страсть, издавна запечатанная на множество запоров в глубине его сокровенных грез, только и ждала мига, чтобы раскрыться подобно цветку и при всем своем отклоняющемся от нормы характере была самым главным и важным из того, что с ним происходило. И такой же ограниченной дерзкой, как и ощущение, что он и есть серийный Чистильщик, появившееся у него, когда он обнаружил труп его преподобия. Стефани и Номер Восемь: две стороны – солнечная и ночная – были у той бездны, что тянула, манила его, стража порядка, гаранта законности, закоренелого холостяка, меланхолического денди, полицейского-интеллектуала и рифмоплета, сочинявшего для себя. Слишком серьезно воспринимаемый одними, недооцененный другими, Рильски дождался, когда ему будет крепко за пятьдесят, чтобы увидеть, как рассыпается фасад, за которым прошла добрая половина жизни. Стоило ли беспокоиться? Открыться штатному психологу полиции, чтобы тот помог разобраться? Нет, это не в его духе. Несмотря на вкус к самонаблюдению, комиссар предпочитал действие и собирался по-настоящему жить. Ну, со всем, что подразумевает это слово, и не так, чтобы только и делать, что выполнять свой долг, хотя одно другому не мешает. Об этом стоило еще поразмышлять на досуге.
Однако доверие, с которым относилась к нему Стефани, не исключало того вихря, что часто подхватывал и уносил его в некое запредельное ликование: да ведь Номера Восемь не существует вовсе, киллер – он сам, Нортроп Рильски и мистер Хайд [37]37
Персонаж романа Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
[Закрыть]в одном лице! Как давно? В другой жизни? Да нет, еще вчера вечером, в субботу в полночь или в воскресенье на рассвете, что не исключено. Кистью руки он очерчивает в воздухе восьмерку. У мертвых нет глаз, они становятся навозом, любой мститель неуязвим, лишен угрызений, он всего лишь лезвие ножа, что без разбору режет вены, кости, печень… Головокружительное погружение в бездну… И выход из нее разбитым, больным, с кругами под глазами. Только присутствие молодой женщины возвращает его в реальность, другой Рильски начинает существовать, во всяком случае, верит в это. Прощай, доктор Джекил, больше никаких туманных гипотез: прочь, логические построения, прочь, семейное наследие. Может, это и есть любовь: просто-напросто уверенность, что ты существуешь, ее сообщает тебе тело, взгляд, голос женщины, тайной удовольствия которой обладаешь ты и которой вручена твоя тайна удовольствия. Не нужны никакие высокопарные слова. И даже если в момент экстаза они и вырываются, стыдливость делает свое дело и гасит их тишиной, воцаряющейся в другие минуты, когда приходит черед выкурить сигарету, выпить глоток джина или послушать Скота Росса.
– Профессор совершил это путешествие в семидесятые годы. Может быть, как раз в 1970 году. Никто больше в коммунизм не верил, май шестьдесят восьмого года сделал свое дело, однако и до падения Берлинской стены еще не дошло, скорее это была эпоха пресловутого ревизионизма, наступившая под впечатлением от гулагов. Помните? – Минальди рассказывал о поездке Себастьяна Крест-Джонса на родину своего отца, а Рильски рассматривал на дисплее путь, приведший войска Адемара Монтёйльского, епископа Пюи-ан-Велэ, к Филиппополю в 1096–1097 годах по дороге ко Гробу Господню. – Так вот, хотите верьте, хотите нет, Себастьян Крест так и не видел сегодняшней Болгарии, потому как был к ней равнодушен, об этом я узнал от его жены. По-моему, и тогда, и теперь он безразличен к политике. Да-да, комиссар, это бывает даже у историков, может, следует уточнить – особенно у историков. Циничен ли он? Нет. Аполитичен? Если хотите, да. То, что происходит в данную минуту, наводит на него скуку, он живет за пределами сиюминутного – там, здесь, нигде. Посмотрим правде в глаза. – Минальди изъяснялся то как Эрмина, а то как будто он сам автор «Дневника». Рильски умел подметить мимикрию свидетелей – очень редки люди, говорящие лично от себя. Существуют ли они вообще? – Болгарские коммунисты, очевидно, приняли Крест-Джонса за шпиона. Вы только представьте себе: засел в архивах Пловдива в поисках всего, имеющего отношение к крестовым походам, ну кто это может быть? Либо чокнутый, либо шпион, заметающий следы и, наоборот, только привлекающий внимание к своей персоне. Местные полицейские рассудили, что профессора скорее всего интересует атомная электростанция. Логично. Они все удивлялись, как ловко он маскирует свой интерес. Ему подсунули соблазнительную комсомолку, говорящую на двух языках, чтобы она помогала ему заниматься изысканиями и совершенствоваться в болгарском языке, а на самом деле – шпионила за шпионом. И ничего. Полное безразличие ко всему, что его окружало. – Тут Минальди преисполнился чувства единения со своим научным руководителем.
Комиссар позволял ему выговориться, дожидаясь, не мелькнет ли чего имеющего отношение к расследованию. Пока ничего, так, словесный понос.
– Даже к смерти… Не так давно он нам заявил, мне и Эрмине, то есть госпоже Крест-Джонс, мол, с младых ногтей знал, что никогда не сможет поверить в существование Бога, потому как не боится смерти. Абсурд, не правда ли? Все ведь боятся смерти, разве не так? И только позднее, незадолго до того, как исчезнуть, объяснил, что не боится смерти потому, что носит ее в себе.
«Смотри, – сказал он Эрмине, – видишь, какие у меня руки – сморщенные, со вздутыми венами, они умирают на моих глазах, но я всегда чувствовал, как они умирают. Жизнь – это вечное путешествие вперед, нельзя испытывать страх перед ним, оно неизбежно, у нас нет выбора». «Ты устал», – отвечала Эрмина, заподозрив рак. Ее предупредили, что тяжелобольные люди предчувствуют конец, становясь меланхоликами задолго до первых симптомов болезни. «Я не устал и не болен раком, речь не идет о конце, просто я в пути», – ответил профессор, к величайшему удивлению жены и ее любовника.
– Понимаете, с подобным взглядом на жизнь он ничего не боялся, даже коммунизма. Вряд ли он даже замечал, что тот существует. – Перевоплощаясь в Крест-Джонса, Минальди становился чуть ли не симпатичным.
– Извини, Пино, позволь мне сказать. К нему не подходят обычные слова: безразличен, циничен… По правде сказать, со времени своего первого путешествия на могилу бабки он возвращался туда еще раза два, точно не припомню, но знаю, что именно Византия его интересовала, Византия и православие. Только не подумайте, что я их восхваляю, упаси Боже! – Эрмина уже видела себя вдовой, возможно, наступил черед самой реабилитировать память о муже, не все же оставлять Минальди, отсюда ее «позволь мне»! Вероятно, у нее закралось сомнение: а что, если бедный Себастьян стоит больше, чем Пино, который пыжится, пытаясь занять его место? По-человечески это вполне понятно, но все же!.. – Он считал православных превосходными мистиками, но такими зависимыми, такими несвободными: то ли вроде рабов, то ли бунтовщиков, словом, священник и Сталин в одном лице: покорный сын и отец-тиран. «Всё в Достоевском, православная Церковь порождает нигилизм, предвестник коммунизма», – повторял он. Оригинал, не правда ли? Я от изумления теряла дар речи. Он хотел заставить меня прочесть «Бесов»! Меня! Но ведь это из рук вон скверно написано. Никакой ясности, я имею в виду – для такого ума, как мой. Ну, в общем, я совсем не тот читатель, что им требуется, Достоевскому и Себастьяну. Мысли-то у него водились, у моего муженька, я тому свидетель, религиозные и даже в некотором роде политические… Ты слишком спешишь, Пино, я этого боюсь, видишь ли…
Она присела на кончик стола и закачала ногой. Пино в упор расстрелял ее взглядом, это было прелюдией к контактам иного рода, но она без улыбки встретила его взгляд и продолжала.
Далее Рильски узнал, что Себастьян поделился с нею лишь парой-тройкой своих воспоминаний об этом болгарском путешествии, и она себя спрашивала, что это: остатки сильных переживаний, испытанных там, или же просто-напросто туристические клише? Первое из этих воспоминаний было связано с роскошными куполами из позеленевшей меди церкви Святого Воскресения в Софии, с их басистым гулом, долетавшим до квартиры на улочке Святой Софии, где проживали последние представители семейства Крестов, дальние родственники патриарха Сильвестра. Поди пойми, почему от этого воспоминания слезы наворачивались ему на глаза, и он становился похожим на испуганного бельчонка. А второе – с обликом Десиславы, знатной дамы, чей портрет, созданный в XII веке, висит в церкви небольшого городка неподалеку от столицы, кажется, называющегося Бояна, если она, конечно, не ошибается. Себастьян утверждал, что этот портрет уже отходит от канонов, по которым создавались византийские иконы, и по своей пластике приближается к фрескам Джотто в Падуе. И третье воспоминание было связано с башней Бодуэна в Тырново, бывшей столице, куда заточили крестоносцев из армии Бодуэна Фландрского, к которой вроде бы принадлежал и первый Крест, согласно идее, зародившейся в воображении Себастьяна. В конце концов он с этой идеей расстался, Эрмине было невдомек почему, но вот эта прославленная башня, от которой остались один руины, ему очень нравилась, он то и дело показывал открытку с ее изображением. Это было так трогательно, хоть и надоедало. К счастью, вскоре он сменил пластинку.
– Тогда он впервые заговорил. Вы ведь уже знаете, он со мной никогда не разговаривал, трудно сказать, замечал ли он меня вообще, ну, как другие нормальные люди, как мы с вами. А тут вдруг разговорился. – Эрмина считала необходимым внести свою лепту в психологический портрет пропавшего. – И голос у него при этом был как у влюбленного, поверяющего вам свои секреты и принимающего вас за отражение своей собственной персоны. Что-то вроде страстного обращения к самому себе, да-да, именно так. Но мне, знаете ли, это ни о чем не говорило, и я зевала. Хотя кое-что и запомнила. Под конец же он заметил, что все, о чем он рассказывает – паломничество, искупление бастарда, – мне неинтересно, и долго хохотал над тем, что решил поведать обо всем этом мне. Я и сейчас еще слышу его сумасшедший смех: ах-ха-ха, их-хи-хи! Больше он на эту тему разговоров со мной не заводил. Сумрачный был человек, что и говорить. Исхаживал какие-то темные коридоры, известные одному ему, вдоль и поперек, это было его прибежищем. Он был кротом-одиночкой, а вовсе не перелетной птицей, как воображал. – Эрмина закончила почти на трагической ноте и тут же зашлась в хохоте.
Рильски внимательно слушал ее, одновременно отсматривая материал, содержащийся на дискете «От Пюи-ан-Велэ до Филиппополя». Красный пунктир пути Раймонда Сен-Жиля был подобен шраму на карте Европы. И вдруг комиссар задумался: а могло ли быть, что эта женщина – кстати сказать, вовсе не в его вкусе, – знала Себастьяна лучше кого бы то ни было? Верящий лишь во все абсурдное, и, в частности, в абсурд супружества, Рильски был приятно удивлен тем, что с удовольствием выслушивает излияния вдовы, каковой она себя уже считала. Это лило воду на его мельницу. От вихря черноты стала отделяться новая гипотеза.
Рильски был дальновиднее болтливой супруги профессора. Ему припомнилось, что ребенком Себастьян то и дело обо что-то ушибался, падал и при этом никогда не плакал: уже тогда он был одиноким и несчастным, заплутавшим в потемках. Это было одной из редких вещей, поразивших бабку Нортропа Сюзанну и мать Гризельду, если только память ему не изменяла, ибо, сам находясь в поисках утраченного времени, он вовсе не был уверен, что узнал об этом от них, как и в том, что речь шла именно о Себастьяне, а не каком-то другом мальчике из их окружения, и что он не сам сочинил это, дабы придать своему дяде большую значимость и сделать его достойным того интереса, который он, комиссар, проявлял к нему. Семья обожала и молилась на своего отпрыска Норди, и когда он вырос, то мог себе позволить без особого риска вбирать в себя травмы как преступников, так и их жертв. К тому же по мере продвижения по служебной лестнице, набираясь опыта, Рильски научился тому, что ребенок, появившийся на свет в неблагополучной семье – а многие из преступников, с которыми свела его служба, принадлежали именно к этой категории, – задолго до рождения подвержен ударам превратной судьбы: он еще in utero, [38]38
в утробе (лат.).
[Закрыть]а мать уже бомбардирует его всеми своими расстроенными гормонами. Вообще удивительно, как в такой ситуации человеку удается появиться на свет нормальным. Ну а потом – известно что: всяческие лишения. Одно Рильски помнил твердо: рассказы о падениях Себастьяна не могли быть им услышаны из уст Сюзанны, бабушки, поскольку она, убитая фактом рождения и признания ребенка его отцом – собственным супругом, – так ни разу и не смогла выговорить имя мальчика, хотя и позволяла ему – правда, нечасто – бывать в их доме.
Солнечный свет залил кабинет историка, эксперты принесли кофе. Рильски вновь занялся рассматриванием карты Первого крестового похода, не очень вникая в нее, поскольку в голове у него все крутились редкие детские воспоминания, в которых он пытался разобраться.
Нетрудно вообразить – Нортроп сделал это с легкостью, – что человек, так относящийся к телесной боли, еще хуже обращается со своим умом. Рильски живо представил себе, как больно тогда было Себастьяну. Еще немного – и тот предстал бы в его воспоминаниях чуть ли не инвалидом, нелюбимым и непонятым окружающими. Он даже вдруг ощутил наплыв любви к тому мальчику, правда, любовь была с примесью отвращения.
Как вообще можно производить на свет потомство в этом безумном мире, Рильски не понимал и сам никогда бы на это не отважился, даже с Мартой. А что уж говорить о незаконнорожденных! Все равно что отдать кого-то на растерзание! В том, что Себастьян превратился в одинокого бродягу, замкнутого и эгоистичного любителя приключений и попал под надзор полиции, не было ничего удивительного.
Минальди увел Эрмину перекусить. Рильски спустился за сандвичем, съел его прямо на улице и пешком отправился в комиссариат. Ходьба позволяла привести мысли в порядок – конечно, когда у него на это было время.
«Наш неисправимый бродяга», – шептала бабушка Сюзанна, любуясь своим мужем, навсегда покоренная белокурым выходцем с Балкан. Ее романтическая душа не желала знать, что бродяжничество – это страсть, жажда преодоления себя, не несущая в себе никакого нравственного смысла. Подавляющее большинство преступников словно бы случайно набирается из числа недавно иммигрировавших и их потомства: таково общее правило, и статистика тому доказательство. Остается частный случай – Нортроп Рильски на то и занимает свое место, чтобы не упускать из виду частные случаи. И случай Себастьяна Крест-Джонса как раз такой: несчастный, нелюбимый ребенок молчит-молчит, а потом берет и перевоплощается в крестоносца или чистильщика, сперва довольствуясь подвигами других, а потом, как знать, и обретая свою собственную голгофу.








