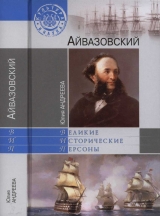
Текст книги "Айвазовский"
Автор книги: Юлия Андреева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Глава 13
«.. Дайте мне вашу волшебную воду такою, которая вполне бы передала Ваш бесподобный талант».
Из письма П. М. Третьякова И. К. Айвазовскому
В Риме Гоголь жил на улице Феличе, 26 в так называемом квартале художников, снимая комнату у итальянца Челли, по привычке деля жилище с Пановым. Эти двое прекрасно уживались под одной крышей, более чем довольные приятным, ненавязчивым обществом друг друга, плюс квартирной платой.
Сюда же по определенным дням Гоголь и Панов приглашали гостей. Вечер – понятие растяжимое, тем более для артистической братии, но Гоголь ставил непременное условие, что к нему приходят до половины восьмого, так как чаепитие или винопитие обычно сопровождалось интересными рассказами и нередко музыкой или чтением, которые не хотелось прерывать, ухаживая за опоздавшим гостем. Здесь побывали, наверное, все приехавшие из России художники, играл и пел для гостей Глинка, и вот теперь гости с восхищением слушали музыку Айвазовского.
После импровизированного концерта вся компания по традиции отправилась на ночную прогулку по городу. Николай Васильевич обожал Рим, о чем неоднократно писал в своих письмах друзьям: «Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета. Он показался маленьким. Но чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь», – писал он A.C. Данилевскому 15 апреля 1837 года. «Моя портфель с красками готова, с сегодняшнего дня отправляюсь рисовать на весь день, я думаю, в Колисей. Обед возьму в карман. Дни значительно прибавились. Я вчера пробовал рисовать. Краски ложатся сами собою, так что потом дивишься, как удалось подметить и составить такой-то колорит и оттенок», – сообщал он В. А. Жуковскому в феврале 1839 года.
Гоголь прекрасно знал Рим и его экскурсии были необыкновенно интересны и познавательны. Кроме чисто книжных знаний, он отлично ориентировался в городе и мог провести своих гостей такими закоулками и проулками, о которых мало кто догадывался. Писатель умел равным образом находить общий язык как в свете, так и в дешевых остериях, в которых его знали как синьора Николо, интересного собеседника и веселого человека.
«Непременно нужно будет познакомить вас с Волконской. У нее кого только не встретишь. Можно завести массу полезных в будущем знакомств, – доверительным тоном сообщал Николай Васильевич своему новому другу. – Вот сейчас мы как раз выйдем к ее дому», – и он действительно сворачивал к Палаццо Поли, где из окон лилась нежная музыка. Бедный Ованес был так поражен огромным фонтаном Треви, что даже не понял, что стена из статуй, уставленная плошками с зажженным маслом, и искрящаяся в этом свете вода есть не что иное, как часть палаццо загадочной Волконской, салон которой, где бы она не жила – в северной Москве или жарком Риме – вызывал ассоциации с Парнасом, на котором обитали боги.
Когда-нибудь это будет самый большой фонтан в Риме, – продолжил за Гоголя кто-то из попутчиков, толкая плечом Ованеса.
– Правда, он еще не достроен, но уже можно представить, что здесь будет. Никола Сальви соединил фонтан с одной из стен Палаццо Поли, с тем, чтобы его детище смотрелось еще грандиознее. Ну вникни, какой размах! Какой мастер! В России, поди, таких днем с огнем не сыскать».
Какое-то время они стояли молча, слушая музыку и плеск воды.
«Скоро господин Сальви разберется с внутренними трубами, и мы увидим, как вот там и там, – Николай Васильевич показал рукой, – польются струи воды».
Ованес во все глаза смотрел на прекрасный, сделанный в стиле барокко, фонтан, с ужасом для себя осознавая, что когда все остальные разглядывали статуи, он видел воду. Воду, которая забьет из фонтана Треви только в 1762 году.
Первый приезд в Рим буквально поразил Ованеса. «Я видел творения Рафаэля и Микеланджело, видел Колизей, церкви Петра и Павла. Смотря на произведения гениев и громады, чувствуешь свое ничтожество! Здесь день стоит года», – писал он. «…Я, как пчела, сосу мед из цветника, чтобы принести благодарную дань царю и матушке России».
В тот первый вечер у Гоголя Айвазовский снова встретился с таинственным Александром Ивановым. Иванов мог целый день проработать в мастерской, не отвлекаясь даже на то, чтобы утолить жажду глотком воды. Гайвазовский сразу же решил во всем подражать великому художнику, что было при его более чем скромном образе жизни несложно. Что значит отказаться от роскоши для человека, у которого никогда ничего не было? Отказаться от шумных обществ? Но ведь и Иванов бывал у Гоголя, находя беседы с писателем полезными для себя. Иными словами, Айвазовский либо писал в своей мастерской или на природе, либо посещал музеи, изредка обедая в кафе Греко, где можно было поговорить на русском или французском, узнать новости из дома.
Получая письма из Академии с пожеланиями увидеть в его исполнении тот или иной вид, Айвазовский никогда не отказывался выполнять заказы, относясь к ним с понятной серьезностью. Пособие могли и отобрать. При этом академическое начальство особенно настаивало на том, чтобы на картине присутствовало решительно все, что видят глаза художника.
Меж тем приближалась Римская художественная выставка, на которую Айвазовский предоставил несколько своих выполненных в Италии картин, среди них заказанный Академией «Вид Сорренто», на который он честно убил три недели, а также «Восход» и «Закат», писанных на вдохновении за пару дней. Самое смешное, что зрители толпились именно возле этих не требующих особенного труда картин, равнодушно обходя ту, с которой художник работал в поте лица своего. В чем же дело? И если художник пишет для публики, не является ли суд публики – лучшим и истинно верным? А если пришедшие на выставку люди останавливаются возле картин, написанных по воображению, то возможно, им нужно именно это. Ну кто, к слову, будет считать количество кораблей в порту, тщательно рассматривая береговые укрепления? Возможно, моряки или военные. Специалисты, которым необходимо иметь возможность оценить то или иное место с точки зрения их профессии. Обычным же людям хочется, чтобы при виде произведения искусства душа улетала в волшебную страну, чтобы она воспаряла над буднями, ощущала себя в далекой стране, будь то Италия, Франция или цитадель сна. А в этом случае, если художник напишет картину, которая будет затрагивать сокровенное, кому какая разница – берег ли Феодосии изобразил живописец, или это воды Сицилии? Рассматривающий пейзаж зритель невольно погружается в него, ощущая себя в волшебной сказке, а не в каком-то определенном месте на земле.
Теперь он начинает уделять большее внимание настроению, присутствующему в картине, стараясь живо передать свое ощущение. И какая разница, кипарис или тополь торчат рядом с изящным палаццо, в этом месте понадобилась более темная краска, вот он и явил миру свечку кипариса. Кто пойдет считать эти самые платаны, кипарисы, сосны, проверять, так ли лежат древние камни? Вздор!
Сюжет картины часто рождался как синтез сразу нескольких узнаваемых видов, которые рифмовались между собой, как складываются стихотворные строчки, главное, чтобы перед глазами стоял образ будущего произведения и ничто не отвлекало взгляд. Айвазовский требует, чтобы стены его мастерской были идеально белыми, на них ни картины, ни малейшего эскиза. Пустота, и из пустоты начинает возникать волшебство, льются небесные воды, синева стекает на палитру, небесное смешивается с земным, чтобы перетечь в свою очередь на холст. В пустоте рождается чудо. Новая сказка замечательного мастера.
Теперь, когда цель ясна и техника исполнения понятна, он больше не будет рабски копировать живую изменяющуюся натуру, все равно получается бесполезно и безжизненно. Он пишет с восторгом и вдохновением, не мучается, а радуется, пританцовывая перед своим детищем и подпрыгивая, дотягиваясь быстрыми касаниями кисти до намалеванного им же неба. Маленькие картины – два, максимум три восхитительных дня, большие – дольше.
К очередной Римской выставке Айвазовский написал тринадцать больших картин и огромное количество миниатюр. «Неаполитанская ночь [132]132
Скорее всего, имеется в виду картина «Неаполитанский залив в лунную ночь». 1842 г. Бумага, масло. 92 * 141 см. Находится в картинной галереи города Феодосия.
[Закрыть]», «Буря», «Хаос» [133]133
Хаос. Сотворение мира. 1841 г. Бумага, масло. 73 х1 08 см. Музей армянской конгрегации Мхитаристов. Остров Св. Лазаря (Венеция.
[Закрыть]—сразу же сделали его знаменитым. О нем писали во всех газетах, с ним рвались знакомиться римские знаменитости. Его то и дело останавливали на улице, ждали в кафе Греко, где он полюбил бывать, в дверь его ранее такой тихой и покойной мастерской то и дело стучались желающие увидеть знаменитого живописца лично журналисты, заказчики и простые римляне.
Но что началось, когда вдруг Рим облетела новость, будто бы сам папа Григорий XVI [134]134
Григорий XVI в миру Бартоломео Альберто Капеллари, 8 сентября 1765 года, Беллуно, Италия – 1 июня 1846 года, Рим) – Папа Римский со 2 февраля 1831 по 1 июня 1846 г.
[Закрыть]вознамерился приобрести картину Айвазовского «Хаос» для картинной галереи Ватикана! Это был уже не просто успех молодого художника – это была гарантированная мировая слава. Так как общеизвестно, что понтифик покупает картины только у крупнейших художников мира!
В. Н. Пилипенко в своей книге «Иван Константинович Айвазовский», вышедшей в издательстве Художник РСФСР (Ленинград), серия «РусскиеживописцыXIXвека», 1991, описывает этот эпизод жизни нашего героя, сообщая, что узнав об этом, Айвазовский принял правильное решение и не продал, а подарил папе приглянувшийся ему «Хаос», за что папа наградил его золотой медалью.
«Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с берегов далекой Невы в Рим и сразу поднял хаос в Ватикане», – написал Айвазовскому Николай Васильевич Гоголь. А Александр Иванов отечески похлопал Ованеса по плечу, шепнув в красное от похвал и смущения лицо: «Приходи завтра ко мне в мастерскую. Поговорим об искусстве».
Это была еще одна ступень признания – оказаться в святая святых Иванова, об этом если кому и сказать, не поверят. Гайвазовский еще более смутился, все знали, что Александр Андреевич терпеть не мог торопливости в работе и часто журил Ованеса за то, что тот слишком быстро оставляет свои полотна, не дорабатывая их. И тут вдруг такое!.. Столько счастья сразу.
Айвазовский посмотрел на сидящих рядом друзей: Штернберг и новый приятель Векки – римлянин и страстный поклонник маринистов, все видели и слышали!
Вообще от Векки, наверное, было бы разумнее держаться подальше, в воздухе и так витали революционные настроения, а Векки еще и открыто высказывал свои антиправительственные мысли, не опасаясь доносчиков и полиции. Позже Векки примкнет к Гарибальди, [135]135
Гарибальди Джузеппе (1807–1883) итальянский политический деятель, служил в сардинском флоте, за участие в тайном сообществе 1884 г. приговорен к казни, бежал в 1836–1848 гг. принимал участие в войнах южно-америк. республик…
[Закрыть]сделавшись его адьютантом.
Векки был выходцем из Неаполя, его, собственно, потому и привлекли картины Айвазовского, что в них он обнаружил родные места. Потом, как-то общаясь с художниками, узнал, где проживает и работает русский маринист, зашел, прихватив с собой вина и какие-то заедки, неожиданно попал как раз в то время, когда Ованес сделал перерыв в работе и был не против поболтать. Вот так, слово за слово, и подружились. Теперь Векки таскался за Айвазовским и Штернбергом, проникся уважением и любовью к Гоголю, который воистину знал Рим многим лучше, чем римляне. Пообщавшись некоторое время с Айвазовским, Векки написал восторженную статью о художнике, больше похожую на стихотворение в прозе, которую напечатали в одной из газет.
«…Пользуясь дружбой Гайвазовского, я посетил его мастерскую, которую, менее, нежели в месяц, он обогатил пятью картинами. Вдохновенный прелестным цветом нашего неба и нашего моря, он в каждом взмахе своей кисти обличает свой восторг и свое очарование. Игра лунного света, в котором он захотел изобразить Неаполь ночью, полна истины и блеска и приводит в такой восторг, что наблюдатель, очарованный волшебными переливами красок, среди бела дня переносится как бы в ночь, смотря, как луна светит на горизонте и, придавая особый оттенок предметам, блещет на полосе озаряемого ею моря…
Если бы не препятствовали мне условия этого журнала, я желал бы поговорить подробнее о прелести этих картин, теперь же ограничиваюсь повторением тысячи искренних похвал даровитому творцу их, который так полно соответствует искусством своей кисти и пылким гением своим – надежде, внушенной им художеству и своим соотечественникам». (Газета «Одесский вестник» К. А. Векки о картинах Айвазовского.)
Ованес был благодарен своему новому приятелю, но вот только как тот ни просил провести его тишком к знаменитому Иванову, не решился на сей подвиг. Сам каким-то чудом попал, так не будет враз все портить, а то, глядишь, и Векки и его взашей, а потом извиняйся перед Александром Андреевичем, да только тот, говорят, злопамятен и гневлив не в меру.
Мастерская Иванова была заставлена и завешена этюдами, набросками, картонками с написанными мелом и углем фигурами. Иванов напряженно искал и, по всей видимости, уже начал что-то нащупывать, картина жила в его голове, тем не менее конца-края этой титанической работы пока еще не было видно. Шесть лет напряженного труда и… а ведь если Иванов завтра умрет от недоедания или какой-нибудь болезни? Что останется тогда от него? Чертовски мало!
С удивлением для себя Ованес вдруг осознал, что Александр Андреевич больше мучается, нежели радуется, что его картина идет через внутреннюю боль и чудовищное напряжение, усугубляющееся еще и тем, что детально копируя выбранный им берег, срисовывая каждый камень, каждый кустарник, он делал это в Италии, а не в Палестине. Иванов колесил по всей стране, выискивая определенные типы людей, которых он приглашал позировать для своей картины. Адова работа!
Однажды решив прогуляться в городок Субиако, что в сорока верстах от Рима в Сабинских горах для написания этюдов, Иванов пригласил с собой Айвазовского, с которым уже успел немного подружиться. Скалы, ивы, речка, тополя… отличные места. Оба художника спокойно расположатся там со своими этюдниками и мешать друг другу не будут. Добравшись до места, они устроились в недорогой гостинице, взяли с собой хлеба и молока и отправились работать.
Они сразу же договорились, что будут жить независимо друг от друга, уходить работать на рассвете – самое лучшее время для работы, возвращаться старались на закате, если, конечно, одному из них не требовалось писать в ночное время.
Дороги, проложенные когда-то древними римлянами, прямые и ровные, хоть на телегах по ним мотайся туда-сюда, хоть в каретах. Надежные дороги, в местечке же Субиако тропинка змеилась и кривилась, то взбираясь на холмик, то сваливаясь с него, так, точно протаптывали ее исключительно пьяные художники. Лес… поражал воображение вековечными дубами в три обхвата, а городок на каменистых склонах показался путникам ласточкиными гнездами.
Остановка в первой попавшейся остерии, хозяин мрачный итальянец с длинными как у запорожцев усами и зеркальной лысиной, не дожидаясь заказа, спешит водрузить на стол глиняный кувшин с холодным, наверное, из самого погреба, белым, чуть отдающим земельной сыростью вином. Подали корзиночку с хлебом, сыр. Как говорится, чем богаты. Тем временем трактирный слуга уже распряг и устроил в конюшнях лошадок. Вслед за художниками в остерию зашел старик угольщик, молча глянул на утоляющих жажду незнакомцев, на хозяина. И перед ним тотчас образовался точно такой же ассортимент. Неужто хозяин забегаловки мысли читает? Да ни в коем случае, просто ничего другого у него в заведении похоже, отродясь не водилось. Разве что зеленщик петрушку да лук завезет. Гости не привередливы.
Получив скромную плату, трактирщик налил себе глиняную кружку вина, отломил кусок хлеба и сел за соседний столик, ожидая, когда его услуги понадобятся еще кому-нибудь.
До гостиницы не более часа пути, но полдень – жара. В такую погоду приличный хозяин остерии не выкинет из заведения даже неимущих гостей. Куда?
За трапезой разговаривали о Риме, Иванов жил рядом с Гоголем, недалеко от того места, где художники на улице Кондотти торгуют своими полотнами.
«Теперь многие взялись изучать древности, да только в Риме с этим делом не все благополучно, – глубокомысленно изрекал Александр Андреевич, покуривая дешевую и оттого, должно быть, невыносимо вонючую сигару. – Возьмите, к примеру, Форо-Романо, – ну, мы гуляли там на прошлой неделе. Когда-то там праздновались триумфы, а ныне пасутся коровы и козы. Плати хозяйке пару монет, и она подоит Пеструшку прямо под древней колонной, усевшись на обломок чей-то статуи. Вот вы нарочно спросите кого-нибудь из местных, где знаменитое Форо-Романо, и они, убей бог, не скажут. Потому что нет больше Форо-Романо, а есть Кампо Ваккино – коровье поле по-нашему. И бродят там буренки, щиплют травку среди обломков колон и статуй».
В гостинице Субиако художники были не редкостью, все стены здесь были буквально испещрены рисунками и разноязыкими приписками под ними. Тут хорошо знали Иванова и всегда старались отводить ему его любимые комнаты.
Впрочем, буквально с первых минут совместного поселения выяснилось, насколько Иванов и Айвазовский не подходят друг другу. В то время когда Иванов корпел над многочасовым изображением какого-нибудь тополиного листа, который должен был выглядеть совершенно идентично настоящему, Айвазовский успел обойти все вокруг, набрав целую пачку молниеносных зарисовок. Столкнулись две стихии – камень и воздух. Два образа жизни – каторжный труд и легкое любование жизнью. Разумеется, Иванов не мог одобрить манеру своего молодого друга. Иванов едва удержался, чтобы не назвать Айвазовского халтурщиком, подсовывающим публике не отражение подлинной природы, а картину невыстраданную, несделанную, лишенную глубинной правды. Ованес же реально недоумевал, как можно скопировать порыв ветра, движение волны, легкую игру теней на земле. В своих эскизах он изображал контуры будущей картины, все остальное писал по памяти в мастерской.
Они поспорили. Уязвленный обидными упреками, Айвазовский теперь слушал Иванова, понимая, что тот борется с желанием наговорить ему гадостей. Больше всего обидело его наблюдение Александра Ивановича, углядевшего в его неаполитанских видах феодосийские или кавказские мотивы. «Ты давно уже не пишешь нового, а лишь бесконечно копируешь сам себя на потребу богатым заказчикам!» – разорялся Александр Андреевич.
И наконец, удар в самое чувствительное место – Иванов заметил, что у Айвазовского здесь, в Италии, нет достойной конкуренции в плане морской живописи, а следовательно, он востребован не потому что талантлив, а потому что коли понадобился на стену морской вид, то и спросить по-хорошему некого. Либо бери Айвазовского, либо под Айвазовского.
Ованес был поражен услышать сразу столько, должно быть, накопившегося негатива, и в то же время понимал, что во многом Иванов безусловно прав. После успехов он перестал заботиться о тщательности, что-то упускал, оставлял на «так сойдет». Надо серьезнее работать, а то уйдет талант, и не останется после художника Айвазовского по-настоящему серьезных талантливых картин. Но и обидно было еще, как то Иванов привечал его, ничем не выражая своего недовольства, когда Ованеса хвалили друзья и пресса, а то вдруг в один раз вылил всю свою черную вонючую желчь.
На следующий день Айвазовский уехал.
Кто был прав в этом конфликте, а кто нет? Мне кажется, правда была на стороне Иванова, хотя его излишняя принципиальность и нетерпимость не вызывает к нему симпатии. Во всяком случае, известен факт, что когда Карл Брюллов вернулся в Италию, дабы умереть там, единственным его желанием было увидеть картину Иванова, о которой столько говорили. Александр Андреевич назначил встречу в кафе Греко, они мило болтали несколько часов, после чего Иванов отказался открывать перед Брюлловым двери своей мастерской. Отказал в последней просьбе умирающему! «Его разговор умен и занимателен, – писал Иванов о Брюллове Гоголю, – но сердце то же, все так же испорчено…»
Стал ли после этого случая Айвазовский более внимательно относиться к своей живописи? Скажем честно, не всегда. В Италии к художнику пришла настоящая слава, и он был искренне рад этой, более чем желанной, гостье. Наконец-то у него появились собственные деньги, за которые не нужно было ни перед кем отчитываться, он стал знаменит, а это означает, что теперь ему с гарантией будут давать заказы, а следовательно, он и его семья не пропадут, «…одну картину, представляющую флот неаполитанский у Везувия, пожелал купить король, и уже она давно у него во дворце», – пишет Айвазовский В. И. Григоровичу 30 апреля 1841 года из Неаполя. Он уже знает о том, что вышедшие о нем в Италии статьи переводятся и издаются в России. Вот, например, отрывок из статьи, помещенной в «Художественной газете» за номером 11,1841. Эта газета была переправлена в Рим и ее читали вслух и передавали друг другу в кафе Греко.
«…B Риме на художественной выставке картины Гайвазовского признаны первыми. «Неаполитанская ночь», «Буря» и «Хаос» наделали столько шуму в столице изящных искусств, что залы вельмож, общественные сборища и притоны артистов оглашались славою новороссийского пейзажиста; газеты гремели ему восторженными похвалами, и все единодушно говорили и писали, что до Гайвазовского никто еще не изображал так верно и живо света, воздуха и воды. Папа купил его картину «Хаос» и поставил ее в Ватикане, куда удостаиваются быть помещенными только произведения первейших в мире художников».
На выставке в Риме вокруг полотен Айвазовского развернулся настоящий ажиотаж: «На каждую картину было по несколько охотников, небольшие все продал, но «Ночь неаполитанскую» и «День» я никак не хотел уступить иностранцам.
Англичане давали мне 5000 рублей за две, но все не хотелось уступить им, а отдал князю Горчакову [136]136
Горчаков А. М. (1798–1883) – князь, крупный русский дипломат.
[Закрыть]за 2000 рублей «Ночь» с тем, чтобы он по приезде послал бы в Академию. Он мне обещал это сделать. «День» оставил у себя я пока, что-нибудь еще напишу, чтобы [нрзб] только послать к Вам. Прочие небольшие две купили англичане в Лондон; две небольшие купил граф Энглафштейн [137]137
Энглафштейн – граф, собиратель картин, он же купил картину Айвазовского «Сцены на Неаполитанском рейде» с выставки в Риме.
[Закрыть]в Берлин, а остальные две граф Чиач в Гамбург».
Айвазовский расписался, встал на крыло и теперь может только парить над полюбившейся ему Италией. И то верно, зачем корпеть и мучиться, если можно петь и танцевать? К чему нужны муки творчества, когда все так божественно просто – есть прекрасный вид, луна ли вышла из-за кружевного облака, солнце ли разлилось по прелестным водам – да мало ли иных поводов. Твори, люби, создавай!
Есть деньги – очень важное обстоятельство, теперь можно не экономить. Недавно пришло письмо из Академии, в котором сообщили о том, что родители получили 500 рублей. Значит, и они тоже продержатся еще какое-то время. Тем не менее Айвазовский напоминает о том, что Академия обещала регулярно отсылать деньги домой: «Прошу еще приказать вовремя выслать домой, они терпели нужду, пока получили деньги». [138]138
Из письма И. К. Айвазовского В. И. Григоровичу 30 апреля 1841 г.
[Закрыть]
Айвазовский, Штернберг и решивший присоединиться к компании Монигетти [139]139
Монигетти Ипполит Антонович (1819–1878) – Друг Айвазовского, архитектор, автор проекта здания Политехнического музея в Москве.
[Закрыть]добрались вместе из Рима в Неаполь, и теперь каждый спешит к тому, что ближе его сердцу и настроению. «…Я в Кастельмаро и по прочим окрестностям, – пишет Григоровичу Айвазовский, – Штернберг у своих грязных ла-царони, [140]140
Лаццарони (ит.) – нищий, босяк, пролетарий. В письме Айвазовского допущена грамматическая ошибка, он пишет «лацарони».
[Закрыть]а Монигетти – к развалинам Помпеи».
Впрочем, Ованес просто не мог упустить возможности увидеть своими глазами развалины древней Помпеи. Картину Брюллова он запомнил в деталях, Карл Павлович настаивал на том, что в своей работе руководился подлинными фактами, в частности, расположением скелетов, Айвазовский ведет уже бывавшего несколько раз в Помпеи Монигетти, безошибочно угадывая направление. От Геркуланских ворот по улице, названия которой он не знает, дорога вымощена крупными глыбами лавы. Айвазовский движется сначала подобно сомнамбуле, доходит до перекрестка, останавливается на мгновение у гробницы, далее ориентируется на конус Везувия. Он хорошо помнит, под каким углом нарисовал Брюллов знаменитый вулкан. Еще шаг, второй. Все. Пришел. «Последний день Помпеи» нарисовалась в его голове поверх реального пейзажа. За пару минут воображение и память художника справляются с полотном, над которым его творец трудился целых три года.
Вообще в то время выставки проходили редко, поэтому сам факт представить на них свои произведения уже повод испытывать некоторую гордость. Что же говорить о тех, чьи произведения не просто занимали стенки, а были отмечены прессой?
О тех, кто нашел и теперь уже, скорее всего, с гарантией будет находить своих покупателей?
Моллер, [141]141
Моллер Фёдор Антонович (при рождении Отто Фридрих Теодор Моллер; 30 мая (11 июня) 1812 года, Кронштадт – 2 августа (21 июля) 1874 года, Санкт-Петербург) – русский художник и офицер. Профессор Императорской Академии художеств. Ученик Карла Брюллова.
[Закрыть]Тиранов, [142]142
Тиранов Алексей Васильевич (1808–1859) – русский художник. С 1839 по 1842 г работал в Риме. В 1841 г. написал портрет Айвазовского, который ныне находится в экспозиции Государственной Третьяковской галереи.
[Закрыть]Пименов, [143]143
Пименов Николай Степанович (1812–1864) – русский скульптор. Родился в Петербурге 24 ноября (6 декабря по новому стилю) 1812 г. Учился в Петербургской Академии художеств в 1824–1833 гг. у отца и С. И. Гальберга (1787–1839).
[Закрыть]братья Чернецовы, [144]144
Братья Чернецовы – Григорий Григорьевич Чернецов (12 (24) ноября 1802 года, Лух – 8 (20) мая 1865 года, Петербург) и Никанор Григорьевич Чернецов (21 июня (2 июля) 1805 года, там же – 11 (23) января 1879 года, там же) – русские пейзажисты 1-й половины XIX века.
[Закрыть]Шамшин [145]145
Шамшин Петр Михайлович (1811–1895) – исторический и церковный живописец академического направления, академик (с 1844 г.), профессор (с 1883 г.). Сын академика-живописца, преподававшего рисование в классах Императорской Академии художеств.
[Закрыть]– одновременно с Айвазовским выставляли свои произведения, в той или иной степени добившись успеха, но все же им далеко до Айвазовского, чьи произведения признаны первыми!
Удрученные слишком быстрыми успехами Айвазовского за границей, обиженные невниманием к себе, русские художники начинают в свою очередь специально приходить туда, где выставляется знаменитость, дабы отыскать в его произведениях недоработки: «Говорят между вздорами (и похожее на дело обвинение), что Айвазовский пишет слишком проворно и небрежно и что картины его больше декорации, нежели картины. Этого не имею уже силы опровергать, а досадую только и говорю: «По крайней мере, согласитесь, что декорация прелестна». [146]146
Из письма А. Р. Томилова к И. К. Айвазовскому с отзывами о его новых картинах (1842 г.).
[Закрыть]
Чего же хотят от Айвазовского профессора, академики и просто заслуженные, но менее известные художники его времени? Это мы также можем почерпать из письма А. Р. Томилова: «…земля, но самые люди, т. е. фигуры, не должны пропадать в эффекте, который хоть очень приятно поражает глаза и чувства, но в той же мере возбуждает любопытство зрячим знать, где он. В какой земле видит он этот эффект природы? Какие люди вместе с ним дышат этим воздухом? Что они делают, населяют ее? А в картинах, что видим на выставке, интерес разжег этот вопрос, но он вовсе не удовлетворен. Фигуры пожертвованы до такой степени эффекту, что не распознать: на первом плане мужчины это или женщины. Самые берега служат только, отметим, чтобы не глядеть на них, а любоваться только как помощью противоположности, что они делают мутностью и темнотою своей, красуется воздух и вода». Томилов описывает здесь картину «Лазоревый грот». Неаполь – 1841 год. Но это не столь важно. Зритель хочет увидеть реалистичную картинку, разглядеть во всех подробностях место, где, возможно, никогда ему не суждено быть, или, наоборот, место, знакомое и родное, Айвазовский же рисует картину, запечатленную в его душе, он гениально передает настроение, которое возникло у автора, когда он увидел тот или иной пейзаж. Но при этом, если Айвазовский пишет, к примеру, лунную дорожку – все остальное словно меркнет в ее свете. Помните, как сам художник рекомендовал разглядывать его полотна? Идти от самой яркой точки – например, источника света. Впрочем, когда мы любуемся луной, разве остальное имеет значение? Луна – облака рядом, море, в котором эта же луна отражается. Все остальное тает, исчезает. В картинах Айвазовского на первом месте – свет, и вокруг света он выстраивает все остальное. Фигуры людей не прописываются уже потому, что они не более чем декорация или статисты, в то время как главный персонаж здесь не они!
Что же победит, сказка или реальность? В случае с Айвазовским, конечно же, сказка, которую этот волшебник каким-то чудом сумел перенести в повседневную жизнь.
30 апреля 1842 года Айвазовский отсылает в Петербург на очередную выставку четыре картины: «Остров Капри при луне», [147]147
Современное название «Лунная ночь на Капри». 1841.
[Закрыть]«Остров Искияпри закате солнца», «Часть Неаполя», «Штиль» (картина уже принадлежит княгине Изабелле Адамовне Гагариной). Кроме того, он прикладывает к посылке свой портрет работы А. Тыранова (1841 г.). И оповещает Академию о своем решении посетить Голландию и Англию.
Он не просит оплачивать путешествие, появились деньги, а вместе с ними независимость.
Собственно, в письме всего две просьбы, первая: после выставки передать все картины Григоровичу, который заранее уведомлен, как с ними поступить, и второе: переслать половину его содержания матери в Феодосию.
Да и захоти Оленин остановить слишком бойкого пенсионера Академии, куда там. До Петербурга уже дошла подтвержденная информация относительно того, что, неслыханная честь, Папа Римский наградил Айвазовского золотой медалью! Король Неаполя взял в свою коллекцию картины Айвазовского и ведь еще возьмет. Вчерашний феодосийский мальчик входит в моду, а, следовательно, если что его примут при любом дворе. С другой стороны, при всех своих нынешних регалиях Айвазовский остается почтительным и трудолюбивым. Он не кичится своими заслугами и готов выслушать критику, не пьет, мало интересуется политикой, и либо вообще не имеет до сих пор любовницы, либо не распространяется на этот счет. Что уже говорит о благоразумии и хорошем воспитании. Тоже весьма похвальная черта. Все, что он делает, пойдет к славе отечества, куда после своих странствий по свету он неминуемо вернется. А следовательно, Айвазовский, каким бы он ни был гением, – наш! И за него следует скорее радоваться, нежели выискивать огрехи в его творчестве и затем поласкать грязное белье соотечественника при сторонних наблюдателях. «Обратимся сначала к Айвазовскому. Картины его производят особенное впечатление: он глубоко чувствует природу, превосходно улавливает игру и перелив ее тонов. Это талант необыкновенный. Айвазовский чувствует море страстно, всем существом своим», – пишет журнал «Отечественные записки»). (1842, т. 25, стр. 25, статья «Выставка Академии художеств).
Великий Джозеф Маллорд Вильям Тёрнер, [148]148
Тёрнер Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер (23 апреля 1775 года, Лондон – 19 декабря 1851 года, Лондон) – британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист и гравер.
[Закрыть]художник, член Королевской Академии, посвятил стихи картине Айвазовского «Неаполитанская ночь»: «На картине этой вижу луну с ее золотом и серебром, стоящую над морем и в нем отражающуюся… Поверхность моря, на которую легкий ветерок нагоняет трепетную зыбь, кажется полем искорок или множеством металлических блесток на мантии великого царя!.. Прости мне, великий художник, если я ошибся (приняв картину за действительность), но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мною. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений!»
Это было на той самой знаменитой выставке в Риме, где Айвазовского ждал первый оглушительный успех за границей. Шестидесятисемилетний британский художник впервые увидел картины русского художника Ивана Айвазовского, которые привели его в восторг. Он сразу же захотел познакомиться с маринистом, но того как на зло не было в это время в зале. Опершись о руку также разглядывающего картины маэстро Камуччини, он направился в мастерскую молодого художника.
Камуччини знал, наверное, всех художников в Риме, точнее, это они знали прославленного мастера, авторитет которого был так высок, что если русский пенсионер писал в Петербург, будто маэстро Камуччини-де советовал ему сделать то-то или отсоветовал выполнять прямой заказ Академии, его начальники автоматически соглашались с мнением прославленного живописца, рекомендуя и впредь держаться его точки зрения, ни в чем не противясь знаменитости. Сам факт быть допущенным в мастерскую великого маэстро – был пропуском в мастера, во всяком случае, устная похвала Камуччини воспринималась равнозначной рекомендательному письму от высокопоставленного лица или даже диплому о присвоении квалификации.








