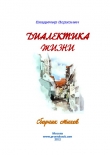Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юлиан Тувим
Соавторы: Рабиндранат Тагор,Мария Петровых,Алим Кешоков,Пенчо Славейков,Григор Тха,Мухаммад Икбал,Рахиль Баумволь,Стеван Раичкович,Йосип Мурн-Александров,Болеслав Лесьмян
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Так истлевает в ножнах заржавленный меч,
Доблестно мне послуживший в ратном деле,
Так изнывает жаждой мое копье —
Вражеской кровью поил я его доселе.
Так мой скакун хотел бы грызть удила
Перед укрытьем, где наши враги засели.
Всадники наши не уступают львам, —
Жертву преследуя и достигая цели.
Да не исторгнет мой машрафийский меч
Смеха из глоток, что до поры уцелели!
Пусть наша честь самхарские копья спасет —
Пусть не страдают они хворью безделья!
Сжальтесь над луком, что изогнулся в тоске!
Сжальтесь над стрелами, что на лету звенели!
К сердцу воителя жаждет прижаться лук,
Чтобы неверному в сердце стрелы летели.
Из вьетнамской поэзии
Поет тебе цепь в Агмате песню свою.
Ни плоти твоей, ни душе нет забытья.
Вонзалось твое копье жалом змеи,
А ныне цепь обвивает тебя, как змея,
Не даст растянуться на жестком ложе твоем —
Обнимет тесней, – не жалость, а жало тая.
Лишь Богу пожалуюсь в неодолимой тоске,
Услышит меня один лишь творец бытия.
А те, что не ведают, где я и как живу, —
Они мне чужие, они мне уже не друзья.
Какие дворцы ты имел и каких певиц!
А ныне дворец твой – темница, и цепь – певица
твоя.
Мои пораженья, мои победы
мне безразличны равно.
Охотно отдам и заслуги и славу
за лень, за цветы, за вино.
В келье Белого Облака – отдых, безделье,
вдохновение, счастье, веселье.
Хочу лишь покоя; с тщетою мирскою
простился, расстался давно.
В саду весною цветов со мною —
желанных гостей – полно.
Луна – мой светильник, мой друг
=сокровенный —
со мною во всем заодно.
Вглядитесь лишь сами, своими глазами,
и тогда уже навсегда
Поймете, что красное – всюду крáсно,
а черное – всюду черно.
Волосы поредели, и расшатались зубы,
и поступь моя неверна.
Передал дом сыновьям и невесткам,
нужна мне лишь тишина,
Шахматный столик в тени бамбука,
цветы и чаша вина…
С тростникового удочкой выйду порою
к озеру под горою;
Возле костра провожу вечера,
и счастьем душа полна.
Соли морской за трапезой вволю, —
вкусна и свежа еда.
Девяносто весен уже миновало;
конечно, прожил немало,
Но и этой весной наслажусь, а за нею
вновь настанет весна.
Все, что захочешь, есть у природы,
только внимательнее гляди.
Ищи неустанно, и то, что желанно,
сам для себя найди.
Горы и воды, закаты, восходы
путник запомнит на годы.
Бамбук и маú будят мысли мои
и жар вдохновенья в груди.
Саду и полю отпущены вволю
и ясные дни, и дожди.
Мужи многоумные славы достигли
и большего ждут впереди.
А здесь душа вопрошает душу,
не помня о ложном стыде.
Бытия дуновение – ветер весенний
всюду, куда ни пойди.
Из индийской поэзии
Вода неспокойна – приливы, отливы,
то вздуется, то опадет река.
Лодки скользят по воде осенней,
ныряет луна в облака.
На лодочных водорезах – лики,
в их глазницах – лунные блики.
Кое-где паруса поднимают на лодках, —
стал порывистей свист ветерка.
Белым-бела голова рыбака,
будто прожил на свете века.
А вода зелена и прозрачна сейчас,
точно кошачий глаз.
Чайки и цапли вряд ли случайно, —
вернее, что с думой тайной, —
За мною следят и следуют всюду
то близко, то издалека.
Над рощей в огненном цвету проходят тучи синей тенью.
Как в танце, гнутся на ветру затрепетавшие растенья.
В лесную чащу уходя, дрожит блистание дождя.
Душа, разлукою томясь, куда-то рвется
=в нетерпенье, —
И журавли над океаном куда-то мчатся караваном, —
Их крылья борются с туманом, вздымая волны ураганом,
И кто-то, сквозь трезвон цикад, мне в сердце
=входит наугад,
Ступая по тоске моей украдкою, как сновиденье.
Во двор срабона входят тучи, стремительно темнеет высь,
Прими, душа, их путь летучий, в неведомое устремись,
Лети, лети в простор бескрайный, стань соучастницею
тайны,
С земным теплом, родным углом расстаться не страшись,
Пусть в сердце боль твоя пылает холодной молнии огнем,
Молись, душа, всеразрушенью, заклятьями рождая гром,
К тайнице тайн причастна будь и, с грозами свершая
путь,
В рыданьях ночи светопреставленья – закончись,
завершись.
«О туча, в тайнице укромной несущая мглу и дожди…»
О туча, в тайнице укромной несущая мглу и дожди, —
Всей нежностью – темной, огромной – ты сердце мое
услади!
Вершину горы освежая, тенями сады окружая,
Во мглу небосвод погружая, громами затишье буди.
О туча, промчись над рекой, что плещется жалобным
плачем,
Там роща томится тоской, объята цветеньем горячим.
Изжаждавшихся утоляя, зарницами путь осветляя,
Приди, о приди, умоляю, в горящую душу приди!
Моя душа – подруга тучи,
Она скитается в просторах неба,
В пленительных мелодиях дождя,
И в лепете, и в шелесте, и в плеске.
На крыльях лебединых, журавлиных,
Она взлетает в резком блеске молний…
В бушующем восторге ураган
Бьет в медные кимвалы гулко, звонко.
Поток шумит напоминаньем грозным,
И ветер, что рожден восточным морем,
Проносится по волнам половодья.
Душа летит в хмельном струенье ветра
По густолистым зарослям тамала,
Меж трепетных ветвей.
Прощальную песню, растенья, спойте весне.
Как мало цветов осталось в корзине весенней!
В последний день весны облака от слез красны,
В облетающей роще все меньше и меньше тени.
Солнце, пылающее в вышине,
Сжигает мечтанья в кровавом огне.
Полны дыханьем ветров суровых паруса облаков
=багровых.
В бамбуковых зарослях ширится шепот смятенья.
Не считай, что закончил свой радостный труд
виночерпий, —
В виноградной лозе есть вино, что не найдено нами.
Пусть прекрасны луга, не живи, как бутон затаенный, —
Вольный ветер развеет его лепестки над лугами.
Тайну жизни постигший – отвергни закрытое сердце,
Не пронзенное до крови жгучих желаний шипами.
Будь своим средоточием, неколебимой скалою,
Не живи, как сушняк, – ветер дерзок, и яростно пламя.
Я слышал, как звезда звезде сказала:
«Плывем, – но где пределы океана?
Движенье – наша суть, скользим по кругу,
Но цели нет в круженье каравана.
И если звезды над землей все те же,
Кому на радость блеск их неизменный?
Счастливей тот, чьей жизни есть границы.
Земля – великодушнее вселенной.
Небытие – желаннее бессмертья.
Кто стерпит безысходной жизни бремя!
К чему лазурь небес, где, словно пленниц,
В петле аркана нас волочит время.
Тревожно человеку жить, нет спору,
Но он в самом себе нашел опору,
Он время оседлал и мчится в гору,
И лишь ему одежда жизни впору».
Я ночью услыхал в библиотеке,
Что книжный червь поведал мотыльку:
«Абу-Али исследую страницы,
В строке Фариабú узоры тку,
И все же не узнал я смысла жизни
И счастлив не был на своем веку».
Ответил мотылек полуспаленный:
«Не скажут книги – как избыть тоску.
Чтоб истину постичь – в огне живи.
Суть бытия лишь в трепете любви».
Я к морю пришел и сказал неуемной волне:
«Ты вечно в смятенье, какое томит тебя горе?
Жемчужною пеною Искришься ты, но в груди
Таишь ли жемчужину сердца, питомица моря?»
Дрожащая, скрылась волна, ничего не сказав.
Пришел я к скале и спросил: «Почему ты молчишь,
Внимая рыданьям несчастных, страдальческим стонам?
О, если есть капелька крови в рубинах твоих,
Послушай меня, побеседуй со мной, с угнетенным!»
Вздохнула угрюмо скала, ничего не сказав.
Бродя одиноко, я ночью спросил у луны:
«Открой мне, в чем тайная суть векового скитанья?
В твоем серебре этот мир – как жасминовый сад, —
Не сердце ль пылает твое, излучая сиянье?»
Вздохнула печально луна, ничего не сказав.
Тогда я предстал пред Творцом, и сказал я Творцу:
«Не вижу я в мире наперсника, единоверца,
Твой мир безупречен, но песня ему не нужна,
Твой мир бессердечен, а я – раскаленное сердце!»
Он чуть улыбнулся в ответ, ничего не сказав.
Из письменного стола
Записи, которые Мария Сергеевна Петровых делала, начиная с конца пятидесятых годов и до конца жизни, разбросаны по многочисленным тетрадям и блокнотам. Варианты стихотворных строк чередуются в них с заметками о прочитанных книгах и размышлениями о литературе, дневниковые записи – с черновиками писем. Записи эти, как правило, не предназначались для печати, велись нерегулярно, даты отмечены лишь в немногих случаях. Мы сочли возможным опубликовать те из текстов, в которых есть некая внутренняя завершенность, а в некоторых случаях взяли на себя смелость самим выбрать из множества стихотворных набросков относительно законченные строки и строфы. Нам кажется, что это хаотичное на первый взгляд собрание разнородных записей Марии Петровых внятно говорит о неустанной работе ее души и дает читателям возможность лучше понять, лучше почувствовать поэта и человека.
Составители
* * *
Пушкин давал в статьях своих удивительно точные и емкие определения. Его страничку «О прозе» надо знать наизусть. Это характеристика современной Пушкину прозы. На одной страничке с исчерпывающей полнотой он сказал о том, что мешает развитию прозы, и о том, в каком направлении должна она развиваться.
Как это надо знать и помнить нашим теперешним прозаикам и особенно поэтам.
* * *
Одна из пушкинских записей 1827 г. начинается: «Дядя мой однажды занемог» (о Вас<илии> Львовиче).
* * *
Неприметны осени касанья.
Еще густ и зелен летний лес.
Но таинственное угасанье —
Видимой красе наперерез —
Может быть лишь в блеклости небес.
Из шуточных
И. Ш.
Я создана для черствых именин.
Равно – брюнет, шатен или блондин —
Мне именинник чрезвычайно дорог
Не в шуме празднества, а опосля.
Любительница я вчерашних корок,
Мне нравятся сухие кренделя,
Остатки ветчины иль осетра
Et caetera, мой друг, et caetera…
(не ранее 1951, не позже 1954)[7]7
Примеч. М. С. Петровых.
[Закрыть]
* * *
…В знаменитом (одни – действительно поняли, другие – подражая или стараясь выказать хороший вкус) – «Выхожу один я на дорогу» – гениальна лишь первая строфа. Остальное – трогательно, очень по-детски, но от этой незащищенности и вправду щемит сердце.
* * *
И вот уже который год
Я говорю: не может быть,
Не может быть, не может быть —
Тебе бы только жить да жить…
И смерть зову, а смерть нейдет.
Об «Александрине» Ахматовой[8]8
Эта запись – конспект предстоящего разговора с Ахматовой. (Примеч. сост.)
[Закрыть]
Как Вы думаете строить статью?
Мне кажется – сильнее всего была бы сухая хронология.
М<ожет> б<ыть> надо отчетливее сказать – почему друзья отошли от Пушкина.
В начале статьи о «Кам<енном> госте» Вы об этом говорите ярко, смело, кратко. Здесь надо это повторить – не дословно, конечно.
Недостаточно ясен образ Нат<альи> Ник<олаевны>. Не кажется ли Вам, что если Н<аталья> Ник<олаевна> так быстро утешилась с Муравьевым…
Надо отчетливее показать, как одинок был Пушкин, как один за другим отходили от него друзья. У читателя должно быть все время ощущение, что это Пушкин, величайший поэт. Надо сказать – чтó он писал в последние месяцы, его письма, сказать о его душ<евном> мужестве, кот<орое> дало ему возможность думать о литературе накануне дуэли.
Переводя Тагора
Быть может, это нездорово,
Но мною с некоторых пор
Под знаком Ильфа и Петрова
Воспринимается Тагор.
Он как-то написал про йога,
Прочесть – Господь не приведи.
Ни с места йог, а строчек много,
Поди-ка, попереводи!
Ни с места йог. Стоит у моря,
Глядит на раннюю зарю…
Я столько с ним хлебнула горя,
Что больше… Нет, благодарю.
* * *
3-е авг. (66 г.)
Не спится. Душно. Стучат поезда. Дни проходят томительно и быстро и бесплодно.
Вчера днем – Миша, потом – Толя[9]9
Михаил Хаймович Ландман и Анатолий Александрович Якобсон в то время – участники переводческого семинара, который вели в начале шестидесятых годов В. К. Звягинцева, М. С. Петровых, Д. С. Самойлов. (Примеч. сост.)
[Закрыть]. Если бы хоть для них был толк от меня!
Толя переводит превосходно. Надо, необходимо помочь ему – сделать, чтобы эта работа стала в его жизни главной. Он будет великолепным переводчиком. Все, что он сейчас делает, – выше всех похвал. Победно преодолевает трудности, казалось бы непреодолимые…
Толя больше всего на свете любит литературу, больше себя, больше всего. О многих ли из литераторов именитых можно это сказать?
* * *
…Дымка, вероятно, думает: несмотря на то, что они меня так тиранили, я, кажется, поправляюсь.
* * *
У Книпович
И Павлович
Вышла склока
Из-за Блока.
Неумение писать письма
Миролюбивый свет настольной лампы
И тишина. Вот тут бы и начать
На письма наконец-то отвечать.
И – не могу. Ах, адресаты, вам бы
Понять меня, простить и промолчать.
А, впрочем, вы и так уже молчите,
Но вы, конечно, на меня в обиде.
Вы правы и неправы. Никогда
Я отвечать на письма не умела.
Перед листком белевшим каменела.
В том и позор мой, и моя беда.
А если я кому и отвечала,
То получалось «на коле мочало»;
Я, как булыжины, едва-едва
Из строчки в строчку волокла слова.
Кому от писем этаких отрада?
Их, разумеется, и ждать не надо,
Мертвеет в письмах мой сердечный жар,
Коль не дан мне эпистолярный дар.
* * *
Август, 67
Был ли на свете русский человек, любящий свой язык, речь свою – которого не притягивало бы, как магнитом, «Слово о полку»?
Попытки стихотворного перевода – безумны, нелепы: утрачивалась божественная – поющая, рыдающая мелодия подлинника.
Но то, что к «Слову» тянуло – как это не понять!
Но не переводить его надо, а знать, как знает Катя или Володя Державин[10]10
Катя – Е. С. Петровых, сестра М. С. Петровых; В. В. Державин – поэт, переводчик. (Примеч. сост.).
[Закрыть]. А я наизусть не знаю, но когда читаю – душа заходится.
* * *
Стоит на столе огромная белая роза,
Прекрасная роза.
Таинственно дышит и думает белая роза,
Прекрасная роза.
Чтоб воду сменить, подняла я хрустальную вазу,
И сразу
Ты рухнула на пол, осыпалась белая роза.
А ведь ни один лепесток
Не поблек.
Как будто по знаку, намеку, приказу
Ты рухнула сразу.
Как же это случиться могло?
Я не знаю, не знаю.
Лежит на полу красота неземная…
(… … … … … … … … … … … … … … …)
Ведь ты же была
Так свежа, так светла.
Ни один лепесток не поблек.
Такая таилась в них сила, и свежесть, и нега,
И вот на полу ты лежишь, словно горсточка снега,
И на сердце горе легло.
(… … … … … … … … … … … … … … …)
* * *
Неужели начать с самого начала, как я хожу и дую в дудку – не в дудку, а в длинную катушку – прядильной фабрики, где работает отец мой – инженер-технолог? Это в Лёлиной комнате – два окна в сад, между ними туалетный столик, покрытый до полу свисающей кисеей или чем-то дешевеньким кружевным, а на столике зеркало, которое живо и поныне. Оно висело… у нас в прихожей (в Москве на Хорошевке), а теперь оно у Кати в Чертанове. Два окна – в сад, так же как и в папиной-маминой комнате рядом, и дальше – в столовой. В саду – деревья – березы, два больших кедра, и много кустарников – жасмин, шиповник. От деревьев в этих комнатах всегда темновато и прохладно. А окошко нашей детской выходит во двор на юг и комнаты веселее, светлее, и обои – «детские» – карлики, гномы (или дети?).
Я хожу и дую в эту воображаемую дудку, чувство победное – звук получается. Мне три года. Или 2 с половиной. Зима или лето? Не помню.
Но, кажется, зима.
Это самое раннее?
Или другое?..
(Первое воспоминание – гораздо раньше. Видимо, мне года 11/2 – я говорю еще плохо: «Опади, кадак-та!» («Господи, карандаш-то!» – о карандашике, валявшемся в зале на полу) – это до 2-х лет. В три года я говорила уже хорошо, и в 2, наверное, тоже).
…Детская – и я в кроватке, и рядом усатый доктор. Я больна, но видимо, поправляюсь. Я знаю, что мне 3 года. Но, кажется, дудка была раньше.
«Чувство мамы» – вероятно самое первое. Но «чувство Кати» тоже незапамятно давно.
«Дудка» была вечером, и, помню, я поглядывала на всех победно. А кто были «все»? Кажется, Лёля и еще кто-то.
Опять почему-то в Лёлиной комнате. Сижу за столом; рядом гувернантка. (Фрейлен Магда?) Передо мной немецкий букварь с картинками: мяч, дом, окно. Я говорю немецкие слова, но читаю ли? Кажется, буквы уже знаю. Тогда же по-русски читать уже могла. Как научилась – не помню. Брала, по ребячеству, любую книгу. Видимо, просто нравилось, что я могу прочесть.
Тогда же приехавший из Москвы наш знакомый, архитектор, Сергей Борисович Залесский, отнял у меня Чехова, сказав, что это ни к чему и я все равно ничего не могу в этой книге понять. Я с гневом утверждала, что все понимаю. – Мне 4 года.
В 5 лет под маминым водительством я училась писать – за тем самым столом, который теперь у Инны Лиснянской. Когда-то стол был покрыт зеленым сукном – мамин стол. Это уже в другой комнате, которая иногда называлась маминой, а иногда была нашей, т. е. Катиной и моей.
Помню, как мы укладывались спать и перед сном – в ночных кофточках, на коленях читали молитвы «на сон грядущий». И мама с нами.
Мама – всегда красивая, беспредельно любимая. У нас с Катей любовь к ней доходила до обожания, до культа.
Это о себе и потому – никому не интересно.
Но так хочется написать о других – о любимых, незабываемых.
(Мне что-то очень тоскливо сегодня и одиноко. Пойти к Марии Ивановне[11]11
Значит, это писалось в Голицыне. Мария Ивановна – покойная М. И. Поступальская. (Примеч. М. С. Петровых.)
[Закрыть]? Но после ужина засиделась у телевизора – «1922 год» – и уже стемнело совсем, и сыро. Стихи не пишутся. Перепечатывать прежние нельзя – мой сосед очень рано ложится, нельзя стучать на машинке. И, редкий случай, – ничего не читается.
Как ты там, моя доченька! Лишь бы все было хорошо.
Сегодня мне так захотелось домой. Схватить собаку и умчаться. – Дома стены помогают. Лишь бы Ольга хорошенько дом блюла!)
…Детство мое! Кажется, ни у кого не было такого хорошего. Разве только у Кати. До 9 лет – счастье. Ну, конечно, с огорчениями, а все-таки – счастье.
* * *
С каждым днем на яблоне
Яблоки белее.
А ночами зяблыми
Все черней аллеи.
В полдень небо досиня,
Как весной, прогрето.
Скрыть приметы осени
Умудрилось лето.
Но она, дотошная,
Забирает вожжи.
Петухи оплошные
Запевают позже.
Ты же, лето, досыта
Усладилось медом,
Шло босое пó саду,
Шло озерным бродом.
Встреть же безопасливо
Пору увяданья.
Знаешь ли, как счастливо
Слово «до свиданья».
* * *
Август, 67, Голицыно
Я живу в комнате, где когда-то жила Анна Андреевна, где я была у нее, где она писала «Тайны ремесла». Тогда здесь стоял торшер под большим белым абажуром и комната, по-моему, была больше, – видимо, стену передвинули – надо спросить у С<ерафимы> И<вановны>.
…N. работает под А. А. невыносимо. Я боялась признаться в этом даже себе и была поражена, когда заговорил об этом Толя, и слово в слово все, что я думаю.
Кому посвящено ахматовское «Явление луны»?
Александру Кочеткову?
Спросить Нику.
Анна Андреевна ненавидела свое стихотворение «В детской» («Мурка, не ходи…») и однако санкционировала его печатанье. А говорила о стих<отворении> с содроганием: «Опять будут печатать это отвратительное „Мурка, не ходи“, а что я хочу – не печатают» (это при издании «лягушки[12]12
«Лягушкой» Ахматова и близкие ей люди называли книгу Ахматовой «Стихотворения» (М., 1961), вышедшую в серо-зеленом переплете. М. С. Петровых помогала Ахматовой в работе над этой книгой. На подаренном Марии Сергеевне экземпляре – надпись: «Марии Сергеевне Петровых (моей Марусе), без которой не было бы этой книги. С благодарностью Ахматова. 1 июля 61 года». (Примеч. сост.)
[Закрыть]» были у нас такие разговоры).
А стихотворение и впрямь плохое.
* * *
Как я понимаю Бориса <Пастернака>, его раздраженное отношение к своим молодым стихам. Он о них говорил с содроганием, он признавал только одно стихотворение («Был утренник…»). Об этом мы говорили в Чистополе в 41–42 годах: «– Пожалуй, только одно…». <…>
Он в дальнейшем стал стихи молодые переделывать, иной раз очень ухудшал. Ошибка издателей (последних) в том, что они переделанные стихи печатали в основном тексте, а ранние редакции – в примечаниях. (Но кажется, иначе нельзя – нет права.) Мне кажется – лучше бы наоборот. Стихи были прекрасны, иногда – гениальны, но и вправду почти все несовершенны. Совершенство пришло в 40-х годах, – прозрачность, емкость. Анна (Ахматова) же как начала на глубоком, ровном дыхании, такой и осталась. Только стихи наполнились большим содержанием. Все настоящие поэты всегда – во всякую пору жизни были собою. И Пастернак, с его закрученностью, запутанностью (внешней), недомолвками, подразумеваньями – пропуском звеньев. И Анна с ее «узкой юбкой» и «пером на шляпе» – и она не боялась быть собой, ей и в голову не приходило бояться. <…>
* * *
Голицыно, 67.
Здесь женщины похожи на людей,
Мужчины – не похожи.
Здесь в каждом доме хам и лиходей,
Пьянчуга краснорожий.
Не встретятся Рустам или Фархад
На улице полночной.
В Голицыне царит матриархат
Естественно и прочно.
… … … … … … … … … … …
* * *
Родина моя – Ярославль, вернее – Норский посад под Ярославлем (в 12 верстах от Ярославля). Природа, окружавшая мое детство, была на диво хороша: крутой берег Волги – гористый, с оврагами. (В одном из этих оврагов протекала речонка Нора; отсюда, как я понимаю, и – Норское). На крутых горах – церкви: три церкви в Норском посаде и четвертая подальше – в селе Норском. Леса кругом были чудесные: или темные, хмурые – ель, или светлые – береза.
До 6 лет я росла дома. В 6 лет я «сочинила» первое стихотворение (четверостишие), и это привело меня в неописуемый восторг, я восприняла это как чудо, и с тех пор все началось, и, мне кажется, мое отношение к возникновению стихов с тех пор не изменилось.
Когда мне было 6 лет, меня отвезли учиться в Ярославль, где учились мои старшие братья и сестры. Первый год я училась в детском саду при начальной школе (частной). Тогдашний детский сад был не похож на теперешние – тогда дети не только играли, но и учились. Конечно, все мои сверстники, так же, как и я, умели читать и писать. Помню лучше всего занятия французским с француженкой (настоящей).
А потом – три класса начальной школы и подготовка в гимназию, где учиться мне так и не пришлось. Дальнейшее мое школьное обучение было уже в советской норско-посадской школе, а потом в ярославской школе им. Некрасова.
Когда мне было 15 лет (8-й класс), я стала ходить на собрания Союза поэтов. Зимой поэты собирались в какой-то библиотеке, усаживаясь между стеллажами, это было забавно и неудобно: часто не видно было читающего, но молоды были все и никакие мелочи, никакие неудобства никого не огорчали.
Атмосфера на этих собраниях была прекрасная – горячая бескорыстная любовь к поэзии, искренняя радость от чужой удачи, взыскательность – прежде всего по отношению к самому себе, и, хотя во многих стихах было много грусти, встречи поэтов чаще всего были веселыми и всегда – светлыми.
Грустно мне, что только теперь, когда пишу эти строки, я как будто впервые до конца поняла – какую же большую роль в моем духовном формировании сыграло это прекрасное содружество поэтов.
«Иных уж нет, а те далече…» <…>
Летом поэтические собрания устраивались на пристани. Представляете? Вечер, темно, в узенькой служебной комнате на пристани горит неяркая лампочка; о борта пристани тихо плещутся волжские волны. Молодые поэты (самому старшему было вряд ли больше 25 лет) – читают стихи, обсуждают их, разговаривают о прочитанных книгах, о живописи – обо всем. <…>
Я не успела еще окончить школу, когда была принята в ярославское отделение Союза поэтов.
Окончив школу, я уехала в Москву и поступила на Высшие государственные литературные курсы. По преподавательскому составу, по программе учебной – эти курсы были совершенно блестящим учебным заведением. Они были пятигодичные, возникли за год до моего поступления, а закрыты были за год до моего окончания; поэтому я, так же как и мои однокурсники, экстерном кончала Моск<овский> университет.
На одном со мною курсе учились ставшие впоследствии замечательными поэтами Арсений Тарковский и Юлия Нейман.
Всю жизнь я жалела о том, что так мало взяла от моих замечательных учителей. Читали мы в ту пору, конечно, очень много. Днем – Ленинская библиотека, вечером курсы… И все-таки почти у всех у нас удивительно мало реальных знаний.
Много писали стихов, совсем еще не помышляя о переводах. Молодость моя как-то странно соединяла в себе мучительную тоску и безудержное веселье. Вероятно, это у многих так.
Я не носила стихи по редакциям. Было без слов понятно, что они «не в том ключе». Да и в голову не приходило ни мне, ни моим друзьям печатать свои стихи. Важно было одно: писать их.
В 1934 году поэт Георгий Аркадьевич Шенгели, пришедший на работу в Гослитиздат в качестве редактора отдела л<итерату>ры народов СССР, предложил молодым поэтам – Тарковскому, Штейнбергу, Державину, Липкину и мне работать над переводами.
Отсюда все и пошло.
Первой моей переводческой работой был перевод стихов (глав из поэмы) еврейского поэта Переца Маркиша.
Перед войной (в 1940 году) я перевела книжку стихов туркменского классика Молла Непеса. (Я благодарна Арсению Тарковскому за все его добрые советы, – они мне очень помогли в этой работе; Тарковский гораздо быстрее и лучше меня постиг тайны переводческою искусства.)
В эвакуации я была недолго (в эвакуации мне нечем было жить) – с июля 1941 года по сентябрь 1942.
В город Чистополь (Татария) эвакуировались писатели со своими семьями. Это было трагическое и замечательное время. Это было время необычайной душевной сплоченности, единства. Все разобщающее исчезло. Это было время глубокого внимания друг к другу. В Доме Учителя, часто при свете керосиновой лампы <…> происходили замечательные литературные чтения. Иногда лит<ературные> вечера устраивались в «большом» зале Дома Учителя.
В Чистополе был Пастернак (тогда он работал над переводом «Ромео и Джульетты»), был Галкин, был Асеев, Тарковский, приезжал с фронта Липкин. Были крупные прозаики – Леонов (он тогда написал и читал нам пьесу «Нашествие»), был Федин (работавший над книгой «Горький среди нас»), был Тренев, приезжал с фронта Павленко.
В Чистополе, в Доме Учителя, были и мои чтения. Помню чтение в маленькой комнатке, где в числе других слушали меня Пастернак, Асеев, Щипачев. Помню большой мой вечер. Самым близким человеком был мне в ту пору Б. Л. Пастернак, с которым я была давно, с 1928 г., знакома. Постоянно бывал у меня мой дорогой друг, замечательный поэт Самуил Залманович Галкин. В Чистополе (и только там) я много встречалась и много разговаривала с Н. Н. Асеевым.
Глубокой осенью 1942 года был мой вечер в Союзе писателей в Москве (в «каминной комнате»). На этом вечере также были Пастернак, Асеев, Щипачев, Кайсын Кулиев. Все выступавшие говорили о необходимости издания моей книги, но из этого ничего не вышло.
(В 1942 г. я вступила в члены ССП.)
По возвращении в Москву я стала переводить книжку стихов литовской поэтессы Саломеи Нерис. <…> Осенью 1944 г. вместе с В. К. Звягинцевой я приехала в Ереван, чтобы переводить стихи молодых – ныне широко известных – поэтов: Капутикян, Маркарян, Ованесяна, Сагияна, Эмина, Боряна. Это была замечательная, незабвенная осень. Мне мало пришлось поездить по Армении, но все же я была в Эчмиадзине (даже на богослужении), была на Севане (даже на жертвоприношении, – пыталась есть кусок полусырого барана, которым меня угостили незнакомые люди).
Молодые поэты оказались на редкость одаренными, работать над переводами было упоительно.
Кроме того, мы с В. К. много бродили по Еревану и окрестностям. Бывали в Норке, ходили к Зангу. Конечно, были в Матенадаране.
Довелось мне послушать чудесные армянские песни. <…>
С тех пор – моя любовь к Армении, моя верность. Я много переводила армянских поэтов. И довольно много редактировала: стихотворный том Исаакяна, <…> книгу Гегама Сарьяна <…>, первые на русском языке книги Сильвы Капутикян и Маро Маркарян.
В середине 40-х годов перевела драм<атическую> поэму Наири Зарьяна «Ара Прекрасный». Работала с большим увлечением (и все ночами, – я жила тогда в густонаселенной коммунальной квартире, и тишина была только ночью).
В 1950 или в 1951 году я поехала в Литву и там в Друскениках переводила поэму Тильвитиса «На земле литовской». <…> Перевела сказку – чудесную – Саломеи Нерис «Ель, королева ужей» и сказку Валерии Вальсюнене <…>.
Значительной для меня и очень увлекавшей работой было участие в кабардинских Нартах <…>.
В последние годы я больше всего связана со славянской поэзией, в основном – с польской.
Я редактировала книгу Тувима (очень меня радует, что Вы этого поэта знаете, любите, цитируете). Безымянно опекала книгу Галчинского.
Переводила стихи Броневского (печатается), совершенно влюблена в поэзию Лесьмяна (переводила его стихи и еще буду переводить для книги, которая тоже выйдет в Гослитиздате).
Хочу перевести книгу болгарского поэта Далчева.
Свои стихи писала больше всего в молодости (конец 20-х – начало 30-х годов), в годы войны (1942–1944 гг.), в пятидесятых годах, в начале 60-х и минувшей осенью 1967 года.
Как видите, перерывы были длительны и, конечно, мучительны, что неизбежно сказалось на тематике стихов. <…>
Больше всего на свете я люблю Пушкина, – стихи, прозу, письма, статьи и весь его человеческий облик, его суть, его сущность.
Люблю с малых лет и на всю жизнь. Помимо многого другого именно это чувство сближало меня с А. А. Ахматовой, которая была гениальным читателем Пушкина. У нее было все, чтобы писать о нем, – невероятная интуиция, прозрения и большие знания. Замечательна ее работа «О каменном госте», «О золотом петушке» и еще неопубликованная последняя работа «Пушкин и Невское взморье».
В ранней юности я полюбила Тютчева, которого и теперь люблю, конечно. И Пастернака. Когда я в ранней юности, еще до знакомства с Борисом Леонидовичем, узнала его стихи – они меня потрясли, я жила ими, они стали для меня не только моим воздухом, но как бы плотью моей и кровью.
Тогда же я узнала и очень оценила стихи В. Ходасевича, поэта, которого, к сожалению, у нас так мало знают.
С Б. Л. Пастернаком я познакомилась в 1928 году у моего учителя – литературоведа и критика К. Г. Локса, с которым Б. Л. дружил. Но ближе я узнала Б. Л. позднее, в 1933–1934 годах. Осенью 1933 года я познакомилась с А. А. Ахматовой. Мои чувства к каждому из них, мои отношения с обоими совершенно различны, но оба эти поэта, оба эти человека существуют для меня навсегда.
Меня поражает и восхищает поэзия Мандельштама, но почему-то никогда не была она «кровно моей».
Поэзию Цветаевой я, к стыду моему, узнала поздно – в конце 30-х годов. Она, конечно, огромный поэт, и многое у нее я люблю, но не все, потому что, видимо, слишком дорожу в искусстве лаконизмом, гармонией, скрытым огнем.
<…> люблю Твардовского, Самойлова, Тарковского, Липкина и многое, многое хорошее у других[13]13
Публикуемый с небольшими сокращениями текст «Родина моя – Ярославль…» – автобиографические заметки – был написан в 1967 году по просьбе Левона Мкртчяна, готовившего в Ереване книгу стихов и армянских переводов Марии Петровых. Книга «Дальнее дерево» вышла в 1968 году в издательстве «Айастан». (Примеч. сост.)
[Закрыть].
* * *
Я слов не нахожу – как ты чужда мне,
Поэзия шестидесятых лет.
Не распрощаюсь я с любовью давней —
С владычеством предчувствий и примет.
О господи, какое многословье,
Какое расслабление умов!
Нет, не расстанусь я с моей любовью —
С поэзией незаменимых слов.
* * *
С Б. Л. Пастернаком я была знакома давно, с 1928 года.
Вернее – познакомилась с ним в 1928 году у моего учителя – профессора К. Г. Локса – друга Бориса Леонидовича. Настоящее знакомство началось позднее: в 1934 году вместе с А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштамом я была приглашена к бывшей жене Б<ориса> Л<еонидовича> – Евгении Владимировне (Твер<ской> бульвар, 25).
Там я читала стихи и слышала драгоценные слова Б<ориса> Л<еонидовича> – и его одобрение и его призывы к большей смелости.