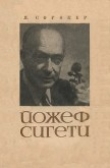Текст книги "Незабудки (Рассказы)"
Автор книги: Йожеф Лендел
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Упругая линейка резко просвистела в воздухе и опустилась – уже ребром.
– Будешь писать? – линейка просвистела второй раз.
– Умеешь писать? – тот же свист в третий раз.
– Будешь писать? Умеешь писать? Будешь писать? Умеешь писать?
Слезы на глазах старого профессора высохли. Он почувствовал в себе силу, зная, что не станет оговаривать самого себя, не станет клеветать на других. Теперь ему не было нужды закрывать глаза руками.
И вот, лежа на столе под ударами, сыплющимися на спину и затылок, он вдруг увидел возле самой головы объемистую пепельницу, полную окурков. Иные папиросы были выкурены лишь наполовину, другие и вовсе чуть ли не целые.
Источавший парфюмерные запахи молодой человек с синевато-серым лицом нервно работал линейкой, а раскрасневшийся от волнения старик, на голове которого после стрижки наголо едва начала пробиваться седина, осторожно шевельнул рукой. Затем естественным неторопливым движением, словно он всю жизнь только этим и занимался, профессор Андриан протянул руку к пепельнице. Чуть выждал, затем запустил туда пальцы и выгреб окурки.
– Умеешь писать? Будешь писать? Умеешь писать? Будешь писать?
Старый профессор медленно подтянул к себе полную горсть и сунул окурки в нагрудный карман пиджака, который портные называют кармашком для сигары, а иные щеголи украшают цветным шелковым платочком. В тот карман, где он несколько десятилетий носил свое любимое вечное перо фирмы «Ватерман» вплоть до того момента, когда при обыске перед баней у него не отобрали это с точки зрения тюремных правил во многих отношениях опасное орудие. Снабженная золотым пером, ручка представляла собой ценность; будучи письменной принадлежностью, подлежала особому запрету, а в качестве металлического предмета могла быть использована при подкопе стены или для повреждения оконной решетки, равно как орудие самоубийства, а стало быть, как вспомогательное средство при побеге любого рода…
Ударов он почти не ощущал, но слезть со стола без посторонней помощи не смог. Молодой человек звонком вызвал конвойного, и тот ухватил профессора под мышки.
– И меня мучаете, и себе вредите, – устало проговорил молодой человек. – Рекомендую одуматься к нашей следующей встрече.
Когда Андриан вернулся в камеру, сотоварищи без лишних слов высвободили ему целую койку, хотя к этому моменту там спали четверо. Старосте достаточно было, не отрываясь от шахмат, лишь бросить взгляд, чтобы убедиться: привычная процедура проходит как надо, безо всякого приказного вмешательства.
Старый профессор, скрипя зубами от боли, перевернулся на живот и с полчаса неподвижно пролежал в этой позе. Затем сделал матросу знак подойти.
Здоровяк матрос наклонился к Андриану, подставив ухо к его губам.
– В нагрудном кармане… – проговорил Андриан.
Матрос не мог взять в толк, чего старик хочет.
– Достаньте у меня из кармана и раздайте остальным.
Матрос выгреб из кармана лежащего ничком старика обгорелые, раздавленные окурки и просыпавшийся табак весь до остатней крохи. Затем, простерев свою широкую ладонь, показал окружающим подарок.
Настала тишина. Расходясь волнами, она захватывала все более широкие круги, пока не проникла в самые отдаленные уголки камеры. Тишина была столь полной и абсолютной, что встревожила расхаживающего взад-вперед по коридору тюремного надзирателя. Он подскочил к камере и прижался глазом к круглому отверстию в двери… Но через отверстие, во всех тюрьмах мира именуемое «иудиным оком», надзиратель не увидел ничего из ряда вон выходящего. Сто семьдесят четыре арестанта никуда не сбежали и даже не померли. Просто умолкли. Этот непрестанно галдящий, шумливый, не способный утихнуть ни от каких угроз и принуждения неугомонный люд погрузился в благоговейное молчание.
Но лишь на минуту. В следующий момент они снова шумели, смеялись, ссорились из-за какого-то очередного дележа. Коридорный успокоился и продолжил свой привычный обход.
Старый профессор проспал два-три часа; если лежать без движения, то боли не чувствуешь. Когда он проснулся, инженер – специалист по исчислению вероятностей присел на край койки.
– С обеда осталось немного баланды, – предложил он.
– Спасибо. Есть совсем не хочется.
– Понятно. Зато водой с сахаром я вас напою и даже спрашивать не стану, хочется вам или нет.
Профессор маленькими глотками с удовольствием прихлебывал подслащенную воду.
– Говорить вам не трудно?
– Ничуть.
– Тогда расскажите, что было на допросе. Насколько я могу судить, проходил он довольно бурно. В чем вас обвиняют?
– Во время одного из заседаний я заявил, что не в моей компетенции определять, кто является вождем человечества.
– Разумеется, вы отрицали.
– Отчего же? Я вполне мог сказать это. Не помню, где и когда, но вполне мог высказаться в таком духе. Без всякой, знаете ли, задней мысли. Просто чтобы отвязаться от излишних вопросов. Я всегда отговаривался такой фразой, чтобы меня оставили в покое.
– Ай-ай-ай, профессор! А еще распинались, будто ни в чем не виноваты. Да это бесспорный десятый пункт – контрреволюционная агитация. Вы – поразительнейшее исключение на общем фоне, поскольку единственный из всех действительно изрекли нечто предосудительное. Уж какие тут люди с прошлым попадаются, но и тех ни в чем уличить не удается, разве что оклеветать, будто бы они бог весть что говорили. Ну, да это сущий пустяк: максимум десять лет и отбывание срока не в самом худшем месте. Хотя трудно предсказывать заранее. Может, отделаетесь пятью годами… Значит, вы чистосердечно признались. Что ж, самая разумная форма поведения: чем скорее избавиться от допросов, тем лучше. Стену лбом не прошибешь…
– На допросе я заявил: вполне возможно, что я и говорил нечто подобное.
– Ну и молодцом! Легкая уступка во имя главного: Советский Союз и дело социализма превыше всего. Так что вы избрали неплохой выход… Но тогда… чем это объясняется? – он указал на спину профессора.
– Видите ли, этот молодой человек потребовал, чтобы я назвал сообщников. «Сообщники»! Неслыханно!
– Ага, значит, участие в преступной организации! Тогда, конечно, речь зашла и о вредительстве. Шпионаж и террор тоже по вашей части, не так ли?
– Он велел мне все изложить в письменном виде.
– Понятно. Расхождение во взглядах, – он снова указал на спину профессора, – произошло на этой почве.
– По-моему, не составляет труда вычислить это, – с досадой произнес Андриан.
– Вот тут вы ошибаетесь, профессор. Есть люди, которые считают упорство, отрицание вины излишним…
– Излишним?
– Вот именно. Некоторые полагают, что проще назвать какое-нибудь имя… скажем, человека, о котором наверняка известно, что он и без того уже здесь, а может, еще в прошлом году…
– Почему я должен клеветать на других? Ведь тем самым возводишь поклеп и на самого себя!
– Если бы знать, что есть хоть какой-то смысл в подобной защите… Если бы была уверенность, что во всем этом кроется какое-то рациональное зерно… Но здесь и следа нет логики или здравого смысла. И я ставлю вопрос так: разве не преступление жертвовать собою, придерживаясь разумных и нравственных норм, которые в данных условиях недействительны?
– Советуете мне не останавливаться перед оговором?
– Нет! Ведь и сам я пока еще не принял окончательного решения. Я «признался», к примеру, что получил таинственное письмо. Это очень понравилось молодому человеку. Тогда я «признался», что подал оговоренный в письме знак, означающий мое согласие. Это также понравилось следователю. Теперь остается лишь один спорный момент, благодаря которому я все еще считаюсь «подследственным». Я утверждаю, что не успел получить сигнал к началу деятельности, поскольку «бдительность следственных органов», то бишь мой арест лишил неизвестных злоумышленников такой возможности. Это выражение: «бдительность следственных органов» – также очень пришлось юноше по сердцу. Зато ему не нравится, что та же самая бдительность помешала мне завербовать других участников организации. На этом пункте мы пока что застряли. Но, глядишь, и удастся выкарабкаться.
– Вас не расстреляют?
– Думаю, что нет. Я рассчитываю лет на десять – пятнадцать.
– Это называется «выкарабкаться»?
– Конечно! Почки не отобьют, и на том спасибо. А дальше, поживем – увидим… Dum spiro, spero – пока дышу, надеюсь! Если мне не изменяет память, это сказал Декарт – великий математик, не чета нам с вами. Отчего бы, профессор, и вам не попытаться изобрести конструкцию вроде моей? Можете вообще повторить все слово в слово, да и дело с концом… Они сами не принимают всерьез подобные признания.
– Вряд ли я прибегну к подобной конструкции. Но во всяком случае, благодарю за совет… Проясните мне, пожалуйста, вот какой вопрос. Вы однажды упомянули, что в нашей камере немало старых партийцев. Как они относятся ко всему происходящему и к этим так называемым «признаниям»?
– Да никак. Они понимают еще меньше нашего. Впрочем, я выразился неточно: они абсолютно ничего не понимают. Так же, как и мы. Кстати, я ведь тоже партиец. Вот уже пять лет. Но я имею в виду закаленных борцов, ветеранов.
– Вы вроде бы обмолвились, будто они понимают еще меньше нашего. Но почему?
– Потому что они пытаются отыскать закономерность и не находят. Мне-то ведь тоже не удается выявить какую-либо систему или правило. И что же я тогда делаю? Считаю все происходящее исключением из правил. Однако я не нахожу доказательств необходимости этого исключения. Возьмем самый простой пример. Для чего, спрашивается, нужны эти «чистосердечные признания обвиняемых»? Совершенно очевидно, что никому они не нужны. Тогда для чего их выколачивают из людей, если они уже сегодня излишни, а в будущем и вовсе утратят свою доказательную силу? Но как видите, их добиваются…
– В сущности, вы не сказали ничего утешительного, мой друг, – простонал профессор.
Его собеседник обреченно поднял руки, затем безвольно уронил их на колени. Чуть погодя он вернулся к прерванной работе: ему вновь посчастливилось раздобыть где-то кусочек проволоки, и он сверлил дырку, чтобы сделать из проволоки швейную иглу…
Когда профессора вызывали на допрос, все повторялось сначала. Если Андриану удавалось дотянуться до пепельницы и там были окурки, он прихватывал их для своих сокамерников.
Однако дары его больше не вызывали благоговейной тишины. Находились арестанты до того нахальные, что не стеснялись запустить руку в профессорский карман, пока помогали ему добраться до койки, а если в кармане было пусто, сердито ворчали. Но если даже старик возвращался с поживой, то в камере начинался шумный, ожесточенный дележ, и разбушевавшиеся страсти насилу удавалось утихомирить коридорному надзирателю; заслышав шум, он подходил к двери и в сердцах барабанил ключом по железной обшивке. Если появлялась возможность разжиться куревом, людей было не запугать даже карцером. Темнота? Хоть какое-то разнообразие после лампочки, горящей круглые сутки. Холод? Не мешает и проветриться после нестерпимой духоты. Сырость? Это похуже, однако, скажем, воспаление легких – тоже какой-никакой поворот судьбы: либо смерть, либо лазарет, где харчи все же лучше. Надзиратели словно бы тоже понимали это, потому что никогда не вмешивались в ссоры заключенных, даже не переступали порога камеры. Впрочем, тут сказывалась и извечная черта всех охранников: они преувеличивали способность пленников к отпору.
А узник, сколь бы тяжела ни была его участь, все же сохраняет надежду. Каждый из них оставляет для себя крошечную лазейку в массивной стене отчаяния. Каждый, даже специалист по исчислению вероятностей…
– Может, все еще повернется к лучшему, – как-то раз тихо произнес он, вновь усаживаясь на край койки, возле измученного профессора. – Должны же они опомниться. Да и наверху рано или поздно станет известно о том, что творится… Ничто не может превзойти собственные пределы, даже бессмыслица.
– Да-да, конечно, – пробормотал старый профессор, который все меньше и меньше нуждался в утешении…
И вот в один из последних дней марта, когда на улице в пахнущем талым снегом воздухе уже ощущалось дыхание весны, а в камере жара и вонь человеческих испарений стали еще невыносимее, заключенного по фамилии на букву «А», который неполных два месяца назад был профессором физики, снова вызвали на допрос.
– Дед, смотри в оба, – шепнул ему матрос, который и сам был болен. – Вдруг да курево попадется…
Но Андриан в тот день не вернулся.
Это никого не удивило.
Не вернулся он и на следующий день. В этом тоже не было ничего необычного.
На третий день сокамерники стали гадать, что с ним случилось. По мнению матроса, старик умер.
На четвертый день инженер сказал матросу:
– Боюсь, что ты прав… А может, его перевели в другую камеру. Да, вероятнее всего, так…
– Может, и так. – Матрос не стал спорить.
Никто из них никогда больше не видел старого профессора. Возможно, он вовсе и не умер. Как бы там ни было, а земля и прочие небесные тела, строго следуя законам науки, не отклонились от своей оси.
Ведун. (Перевод Т. Воронкиной)
Он был из чужих краев; по годам – должно быть, за сорок, взгляд исподлобья. Документы в порядке. Фамилию его знали разве что в сельсовете. Для ребятишек он был дядей Андрашем, те, кто постарше, звали его просто по имени. Считалось, что не след соваться в чужие дела; живет себе человек на селе, и ладно.
А вернее сказать, он и не жил на селе. По первости переночевал в сельсовете, а на другой день – весенняя страда была в разгаре – его определили сторожем. Он стерег посевное зерно – укрытые брезентом мешки – в часе ходьбы от села. Работы в хозяйстве было невпроворот, и новый человек пришелся ко двору; война скосила многих мужиков, а бабу сторожем не поставишь. И то, что он чужак, тоже пришлось кстати: для себя воровать не станет – спрятать некуда, а другие ему не сваты-кумовья, значит, никому не дозволит разбазаривать драгоценное зерно. Неизвестно, кто он и что он. Да кто бы ни был: из разбойников-то и выходят лучшие стражники. Не говоря уж о том, что старик Герасим теперь от своих обязанностей караульщика освободится: старик-то он старик, а на селе разъединственный плотник. Хлев совсем было развалился, и его принялись приводить в порядок, ну, а тут в аккурат и Герасим опять за топор взялся. Стропила вытесывал, а главное, обучал ремеслу молодых, да и тех было немного: которые и кол-то заострить толком не умеют.
Службу свою чужак нес исправно, все шло как положено, однако же сельчанам он не по нраву пришелся: все-то норовит в сторонку отойти да в одиночку в поле остаться. Нет чтобы с кем разговор завести, нет чтобы поспрошать, не приютит ли его кто у себя в дому после того, как в поле стеречь станет нечего; нет чтобы скупо или с прибаутками – все одно как, но рассказать про себя, кто ты да что ты, и всю свою подноготную выложить… А этому вроде бы любо бирюком сидеть. Вздумай он прихвастнуть, его бы наверняка за глаза высмеяли, зато полюбили бы, захоти он поплакаться – пожалели бы. А так людям не нравилось, что он знай себе посиживает то на мешке с зерном, то у костерка; не спроси его, так и просидит молчком, а спросишь – ответит односложно.
Вот потому и стали на селе поговаривать: кому, мол, какое дело, живет человек, ну и пусть себе живет. Через неделю всякий интерес к нему пропал. Те, кто виделся с ним, попривыкли к новичку, а кому не подворачивалось дела поблизости от его шалаша, те и думать забыли, что он тоже вроде бы односельчанин. А ведь в первые дни сколько о нем разговоров было! Еще бы: чужой человек на селе – целое событие.
Человек этот участью своей напоминал сплавное бревно, застрявшее у берега. Пока еще крепкое, но со временем иструхлявеет. А может, и снесет его первым же паводком. Для строительства оно не годится, на дрова – тоже, слишком отсырело, от плота отстало, а к берегу не пристало; ни друг, ни недруг – примечают его, да не привечают. Через неделю ни у одной из вдовых баб, даже какая постарше, и в мыслях не было залучить его в дом примаком. Уж больно не похож он был на мужика, какой мог бы пригреться у печи в доме. Ел все больше всухомятку или стряпал из муки затируху на сале, а ведь стоило ему только заикнуться, и любая баба – необязательно вдовая – не сочла бы за труд, собирая обед для трактористов, послать и ему горячего. Уж настолько-то они разумели: им хорошо, они тут родились и живут здесь по доброй воле, и вздумай они уехать отсюда, душа затоскует, назад запросится. Каково же жить здесь не по своей воле, а по какой-то непонятной и жестокой необходимости, один как перст и на исходе жизни! Что чужак попал сюда не по своей воле – это на селе, конечно, понимали.
Людей утешала лишь мысль, что пришелец не иначе как лихой человек, тому все приметы налицо: и нелюдимость его, и брови густые, и взгляд исподлобья, и глаз черный. Хотя если присмотреться повнимательнее, то нетрудно бы и заметить, что из-под лохматых бровей чужака взирают на мир глаза голубые, правда, взирают мрачно.
Словом, люди понимали, что чужак не по своей охоте находится тут, а вот почему – этого бы даже он сам не сумел выразить словами. Где-то, каким-то образом над ним учинили какую-то большую несправедливость – наивеличайшую, когда правда становится неправою и давит самого человека. А виновный – не повинен, он – жертва, и одно у него желание: подобно раненому зверю залечь в чащобе и отлеживаться там покойно, тихо, одиноко.
На селе к нему привыкли и вроде как перестали замечать. Сторожит в поле, ну и ладно.
И только старый углежог Мишка не знал, что это за человек явился со стороны. Пришельца он еще в глаза не видал, да и слухи до него доходили с опозданием, потому как Мишка далеко в лесу жег уголь.
В субботу под вечер он возвращался домой на телеге, взгромоздясь на большущий ящик угля. Поравнявшись с шалашом из березовых веток, он попридержал лошадь.
Шалаш – сразу было видно – построен не ахти как ловко, зато огонь в костерке полыхает весело. И незнакомец у костра казался человеком, с которым очень даже славно потолковать. Углежогу в лесу целую неделю и словом перемолвиться не с кем, разве что с конягой поговоришь.
– Здравствуйте, – приветствовал он незнакомца, не слезая с телеги.
Тот ответил на приветствие, и тогда старик неторопливо сполз с ящика, пеньковую веревку-вожжи перекинул через спину лошади, подошел поближе и опустился на корточки у полыхающего ровным жаром костра. Вытащил из кармана гимнастерки газетную бумагу, аккуратно разрезанную на четвертушки. Один листок дал незнакомцу, другой зажал в своих узловатых пальцах. Остальные бумажки спрятал обратно в карман гимнастерки. Затем из кармана штанов выудил щепоть махорки – больше, чем надо на одну добрую закрутку. Протянул незнакомцу, а тот подставил свой газетный клочок. Мишка снова запустил руку в карман и сыпанул табаку на свою бумажку.
Оба скрутили цигарки. Мишка возился со своей обстоятельно: медленно сворачивал закрутку, не спеша водил языком по кромке, чтобы как следует разглядеть незнакомца. А тот, взяв с краю костра обугленную веточку, выжидал, как и подобает, покуда владелец махорки не прикурит первым.
Старик сделал две-три затяжки, молча приглядываясь к чужаку, и лишь потом заговорил:
– Как тебе здесь, хорошо?
– Хорошо.
Мишка огляделся по сторонам: нет ли где пенька присесть. Пней поблизости не было, поэтому, устав сидеть на корточках, он опустился на колени, как и хозяин шалаша.
– Может, поедешь со мной уголь жечь? – спросил он, ткнув пальцем в сторону телеги.
– Куда мне ехать, за меня другие решают, – мрачно буркнул незнакомец.
– А ты парень послушный, куда ни пошлют, идешь?
– Понимай как знаешь.
Росточка старый углежог был небольшого, а стоя на коленях и вовсе казался карликом: этакий безобидный гном с седой, отливающей в желтизну бородою и незамутненно-голубыми глазами. Колючий ответ незнакомца не осердил его, Мишка и сам при случае ответит как отрежет.
– Я смотрю, ты заправский сторож: на честного человека кидаешься ни за что ни про что, а от жулика небось улепетнешь со всех ног.
– Может, улепетну, а может, огонька поднесу.
– Дело нехитрое.
– Да уж чего проще.
– Эта работа, – углежог опять ткнул в сторону повозки, – сноровки требует, не то что мешки с добром сторожить.
– Согласен.
– А вот ты сумел бы уголь жечь?
– Понадобится – сумею.
– Выходит, тебе уже доводилось этим заниматься?
– Доводилось смотреть, как другие делают, – язвительно процедил незнакомец.
– Смотреть – одно, самому делать – совсем другое. Я спрашиваю: сумел бы ты жечь уголь?
– Кое-как – сумел бы. Но мог бы и научиться у того, кто по-настоящему умеет. Для тебя это ремесло?
– Ежели учесть, что каждую весну я один тут жгу уголь, то, выходит, это мое ремесло. Но может статься, из меня такой же углежог, как плотник. Дом у меня теплый, а значит, вроде бы хороший. Правда, окна прорублены вкривь да вкось. По мне так сойдет, а другому смех смотреть, – весело проговорил Мишка.
Незнакомец ответил дружелюбным взглядом, а старик, уловив перемену, спросил напрямую:
– Что ты мне ответишь, ежели спрошу: согласен со мной уголь жечь?
– Если пошлют, я соглашусь.
– Тогда собирайся. Завтра на обратном пути прихвачу тебя с собой, да и вся недолга. Конечно, коли есть на то охота.
– Какая там охота… Но лучше уж… словом, уголь жечь я согласен. А у тебя такая власть, что дело это ты запросто уладить можешь?
– Никакой у меня власти нет, слава богу. Да тут ее и не требуется. Уголь жечь – это тебе, брат, не бумагу марать, тут и без блата обойдется. Перо в руке как ни держи, оно все норовит другому подмигнуть да на сторону сбежать, а пила, топор, лопата – что верная зазноба: не противятся, коль покрепче жмешь, и никуда от тебя не сбегут. Значит, считай, что я тебя назначил углежогом. Будем работать на пару, я – за начальство, а ты – рабочая сила. Тот, кто сейчас у меня в напарниках, глядишь, еще магарыч поставит, ежели его на твое место определят, караульщиком. Работничек из тех, кто за любое дело берется, лишь бы только ничего не делать да поспать всласть.
– Выходит, под твоим началом про сон и думать забудь?
– Это уж когда как. Ты ведь небось знаешь, что уголь и по ночам жгут?
– Такую премудрость даже я знаю.
– Вот видишь! А теперешний мой напарник… я таких стариков не встречал. Ему только в сторожах и место: дрыхнуть горазд, всех воров проспит, хоть самого на телегу грузи вместе с тем добром, что он караулить приставлен. Ладно, это бы еще полбеды. Но ведь он, даже когда не спит, палец о палец не ударит. А тут и всех-то делов: подсыпал лопату-другую в том месте, где огонь пробился, и заваливайся опять на боковую. Но этому и заваливаться без надобности, коли он не поднимался.
– Вот что, – раздраженно проговорил чужак, – лучше уж ты не бери меня в напарники.
– Да погоди ты, не ершись попусту! Никакой я тебе не начальник, ты что, шуток не понимаешь? По ночам за углем буду присматривать я, а ты спи себе. Но уж зато утром я хочу спать спокойно и знать, что ты не подведешь. На таких условиях согласен?
– Сказано тебе: самовольно я никуда ни ногой. Пошлют – пойду.
– Неужто я тебя не уломал? По-моему, все проще простого: ночь дежурю я, с утра до полудня – ты. После обеда вместе едем в лес за дровами.
Чужак молча пожал плечами.
– Вскрываем кучу под вечер, аккурат и похолодает, да и в потемках лучше видно, ежели где еще головешки тлеют. Новые кучи я обычно закладываю по понедельникам. Ну как, согласен?
Незнакомец молчал.
– Давай попробуем. Если мы с тобой не уживемся, должность караульщика от тебя никуда не уйдет. А углежогам платят больше.
– Я не против.
Мишка сощурил глаза. Устав стоять на коленях, он опять присел на корточки; склонил голову набок, отчего его изжелта-седая, прокуренная борода встала торчком.
– Дрова пилить умеешь? – принялся он испытывать будущего напарника.
Незнакомец ворошил веткой костер.
– Тебя спрашивают: пилить-то любишь?
– Нет!
– Тогда все в порядке! – рассмеялся Мишка. – Потому как и я не люблю. Ну прямо нож острый. Вся моя натура работе противится, а вспомнить, я два дня кряду отродясь не отдыхал. Вот так-то, брат. Трудиться – трудись, да смотри не надорвись, – певуче произнес он.
Незнакомец кивнул и улыбнулся.
– Договорились! – подвел черту старик. Он снова вытащил из кармана гимнастерки нарезанную бумагу и из-за неудобной позы с трудом втиснул руку в карман штанов. Они закурили по новой.
– Семья-то есть у тебя?
Незнакомец словно не слышал вопроса.
– Я имею в виду: дома у тебя, на родине. Жена, сын-дочь имеются?
Чужак уставился перед собой не мигая, точно желал проникнуть взглядом в раскаленные недра земли.
– Ладно, у меня ведь и в мыслях не было тебя выпытывать. Да и что тут словами скажешь… – Он запустил узловатые пальцы в бороду, явно раздумывая, как бы перевести разговор на другое. – Ты мне только вот что скажи, брат, – заговорил он чуть погодя. – Одно я про тебя хочу узнать, но сей момент, с места не сходя: что, характер у тебя не склочный?
Что-то вроде улыбки промелькнуло на лице незнакомца.
– Каждый всегда другого считает придирой.
– Святая правда! Вот ты спроси мою жену: «Что за человек Мишка?» Это я, значит. Ну она тебе и наговорит: «Лодырь. Деньги все как есть пропивает. Никакого с ним сладу нету». При том, что дома от меня и слова не добьешься, зато она за двоих языком работает. Нудит, зудит, как тупая пила. Ну а я знай себе помалкиваю – ей в отместку. Когда невмоготу становится, я – бац на боковую! Сапоги скину, повернусь лицом к стенке и пошел задавать храповицкого; это верней всякой пилежки действует. Конечно, ежели в доме спать приходится. Потому как зимой, к примеру, я на конюшне сплю, на зиму я к лошадям приставлен.
– Не худо дело.
– Не то что не худо, а самое что ни на есть наилучшее. Да и выгодное, я тебе скажу. Ежели лошадь имеется, то и дров, и корма домой вовремя завезешь. Ну, и слава по селу о тебе идет: «Какой работящий наш Мишка!» Мать ты моя родная… «Ни днем, ни ночью не дает себе роздыха!» Вот так-то, брат!.. Знамо дело, уход за лошадью требуется. Кормить, поить – все в положенный час, тут я слежу строго. Но скребницей пройтись, лоск навести – это уж увольте; этим пусть занимается тот, кому лошадь запрягать. Вычистит – хорошо, не вычистит – и так сойдет. Вот и стала лошадь что старая попона: хлопнешь по спине ладонью, и пыль столбом. Не нравится – не хлопай и вообще скотину не бей. Верно я говорю?
– Не знаю.
– Вот эта коняга, к примеру, – он обернулся к лошади, спокойно стоявшей позади, – ни кнута, ни тумаков не пробовала. Ежели выведет из терпенья, я только ейную мать недобрым словом помяну: для умной лошади этого и достаточно, хозяином к ней не дурак приставлен.
Незнакомец кивнул. Ему нравился этот словоохотливый старикан, и он рад был избавиться от должности караульщика: не работа, а безделье, и думы неотступно одолевают.
Мишка вот уже годы был единственным и, можно сказать, признанным на селе углежогом. Он занимался этой работой с оттепели и до уборочной страды, но два-три раза за «сезон» у него менялись подручные. Сама работа была не из легких, да и парней, кого помоложе и покрепче, сюда не заманишь: кому охота с утра до вечера с углем возиться, когда и вечера все заняты, даже субботние. Если в кучах, присыпанных землей, головешки еще не прогорели, то их и субботним вечером не оставишь без присмотра. Что же это за жизнь? Разве можно чувствовать себя человеком, если даже на субботу домой не выберешься, а значит, и в баню не сходишь! Сперва чтоб помыться, затем, плеснув на раскаленные камни холодной водицы, как следует попариться, затем, облачась в чистое исподнее, с раскрасневшимся, блестящим от пота лицом, прямо как есть – в рубахе и подштанниках – прибежать домой, опрокинуть стопку, а то и две, затем одеться честь по чести и посиживать дома – если зима, а летом сесть на завалинке да по сторонам глазеть. К соседу наведаться тоже недурно или под окошком у знакомого постоять и с каждым прохожим задорным словцом перемолвиться: кому шутку бросить, кого усмешкою подначить, – без такого удовольствия и пожилому не обойтись, не говоря уж о тех, кто помоложе. Ежели человек даже субботнего вечера лишен, тогда, выходит, медведю и то лучше живется, медведь в тайге по крайности хоть сам себе хозяин. Отрезанный от дома человек ничтожнее белки, живущей на дереве; белка, к примеру, заранее чует дождь и посвистыванием оповещает об этом своих собратьев и прочих таежных обитателей. Человек же и повинность в тайге только ради того отбывает, чтобы затем домой воротиться. Парню, у которого на селе зазноба осталась, небо с овчинку покажется, ежели целую неделю на отшибе бобылем сидеть…
Так что Мишке приходилось соглашаться на любого подручного без разбора. Однако ему самому тоже не хотелось по субботам в тайге торчать, поэтому он старался подгадать так, что с пятницы закладывал дрова в яму, по субботам с утра присыпал их землей – как положено, толстым слоем, иногда даже с лихвой, но поджигал лишь в воскресенье под вечер, а то и в понедельник.
Дрова должны были гореть медленно – тлеть, иначе из них получались не угли, а пепел. Иногда случалось так, что выгорал уголь только к субботе. В таких случаях Мишка лишь таскал дрова и складывал их в ямы, но не поджигал всю неделю – иначе уголь был бы готов аккурат к воскресенью. Если к нему приставали с расспросами, когда, мол, будет уголь, у него всегда был наготове ответ: «Почем я знаю, мать вашу?.. Это вам не фабрика: бывает, яму вскроешь, а там заместо угля одна зола!..»
Вот и случалось иногда, что в самый разгар страды кузнецы по два-три дня простаивали без дела. Конечно, углежога с работы не выгоняли: кем его заменить? Но он и сам чувствовал себя неловко из-за проволочки. А подыскать подручного, который бы согласился по субботам быть на подхвате, никак не удавалось. И без того на эту работу шли распоследние лодыри, кто норовил убраться от начальства с глаз долой, либо те, кому по душе было на досуге мастерить какие-нибудь поделки, либо же охотники поспать. Конечно, был выход из положения: субботней ночью присматривать за углем в одиночку, но на это Мишка не согласился бы ни за что на свете.
Ремесло углежога было не в чести, и это сказывалось даже на убогости жилья. А ведь избушка когда-то была построена добротно. Неподалеку, на дне пади, бил родник с чистой ключевой водой. Пол в доме был настлан из плах, положенных на толстенные сосновые бревна на высоте пяти ступенек от земли. Стены и потолочные балки тоже простояли бы хоть сто лет, конечно, если бы кто-нибудь взял на себя труд заново проконопатить пазы свежим мхом да надрать дранки, чтобы крышу починить, потому как крыша протекала. И ведь дерево подходящее нашлось бы, и дранку драть – дело нехитрое, но заброшенный дом быстро приходит в негодность, вроде того, как хиреет без любви человек. К дому были пристроены и сарай, и конюшня, правда, порядком обветшалая, но даже той ее части, что пока еще уцелела, хватило бы для двух-трех лошадей. Вот только человека не находилось, кто полюбил бы этот дом в десяти верстах от села.