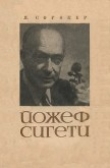Текст книги "Незабудки (Рассказы)"
Автор книги: Йожеф Лендел
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Лишь один человек с посинелым телом дрожит даже в прогретой бане. Он держит руки перед собою, оберегая огромную, провислую грыжу.
– Отсюда нас поведут на расстрел? – спрашивает он профессора.
Андриан не успевает продумать ответ, как грубоватый весельчак рядом успокаивает того, что с грыжей:
– Сдурел ты, что ли? Ради этого не стоило гнать в баню.
Профессор дружелюбной улыбкой отдает дань сей неотразимой банной логике.
Но в этот момент горячие краны прекращают подачу воды. Среди внезапно наступившей тишины раздается команда:
– Выходи!
Открывается дверь, и голые люди попадают в следующее помещение. Пол весь завален одеждой – горячей, ее только что выбросили из дезинфекционной камеры.
Хорошего настроения вмиг как не бывало. Суета, толкотня. Каждый суматошно роется в разбросанном тряпье, отыскивая свои вещи. Кто-то по ошибке взял чужую рубашку, его заподозрили в намеренной краже, вспыхнула ссора. И веселый гомон очередной партии, получающей за закрытой дверью по соседству свою порцию банных радостей, нисколько не тешит слух.
Многие еще не успели одеться, ищут рубашку или не могут подобрать парный ботинок, а охранники уже подгоняют:
– Шевелись!
Разбив на пятерки и десятки, их ведут вдоль длинных, безлюдных, гулких коридоров. Стены здесь белые, железные двери все одинаково коричневые.
У одной из дверей останавливают группу в десять человек. К конвоиру подходит коридорный надзиратель, вдвоем они отпирают ключами оба дверных замка, отодвигают засов. Старый профессор и девять его сотоварищей входят в камеру. Точнее, надзиратели заталкивают их, потому что войти в камеру невозможно: там нет места. Дверь захлопывается за ними.
Новички очутились в большом помещении с низким потолком, где все битком набито людьми. Тускло светят лампочки. Вонь, духота и неприветливые взгляды встретили вновь прибывший десяток людей.
– Эк вас угораздило именно сюда ввалиться!
На двадцати пяти железных койках и на полу между ними повсюду скорчившись лежали, сидели на корточках люди.
– Было сто двадцать один, стало сто тридцать один, – оповестил староста камеры.
– Где отведешь нам место? – спросил один из новичков, крепкий, рослый, уже немолодой мужчина. Вновь прибывшие по-прежнему стояли у двери, около вонючей параши на мокром, липком цементе.
– А вы садитесь, – отозвался вместо старосты человек, внешне похожий на крестьянина; он уже заметно оброс бородой.
– Где?
– Где стоите, – ответил староста, поворачиваясь к ним спиной.
– Каждый новичок начинает с места у параши, – пояснил все тот же мужик. – Так здесь заведено. Когда «старожилы» уходят, новенькие перебираются поближе к окну. Но можно и остаться на прежнем месте, – прибавил он. – Я, к примеру, остаюсь тут; спасаюсь от сквозняков.
– Я смотрю, четко у вас тут все налажено, – заметил рослый здоровяк, еще в раздевалке обративший на себя внимание необычайной сноровкой. «Бывалый матрос», – пояснил он. – Да, порядка у вас до черта, – повторил он.
– Староста у нас бывший главбух, – похвастался мужик.
– Оно и видно, – уронил матрос.
Вновь прибывшие с омерзением смотрели на липкий цемент у параши, куда каждую минуту, переступая через руки-ноги лежащих, подходил кто-нибудь из обитателей камеры. Возвращаясь, он разносил подошвами липкую вонь. Новички, только что прошедшие баню и одетые в чистое, нерешительно переминались с ноги на ногу.
Первым не выдержал человек с грыжей. Затем сел матрос. За ним Андриан. Затем поочередно опустились на корточки и все остальные и даже не прочь были бы поспать, если бы их не подняли к утренней раздаче хлеба. Лишь теперь они осознали, что уже целый день провели в заключении.
Есть никто из них был не в состоянии. Первую свою тюремную пайку хлеба они уступили старожилам. Андриан даже порцию сахара – два кусочка – отдал крестьянину. Матрос сахар сунул в карман, а хлеб – через поднятые руки, поверх людских голов – протянул какому-то тощему пареньку, который хлеба вовсе и не просил.
– Отец! Курева не найдется? – обратился к Андриану какой-то арестант с щетиной на подбородке.
Старый профессор оскорбленно вскинулся, но тотчас вспомнил, что находится не в институтской лаборатории. Улыбнувшись собственной забывчивости, он иронически протянул:
– К сожалению, курева-то я и не захватил.
Шли дни. И шли ночи, которые, возможно, войдут в историю под названием «тысяча и одна варфоломеевская ночь», что, кстати сказать, неверно. Ведь преследуемой оказалась не одна какая-то религия и не какая-либо партия, а совершенно разные люди – виновные и безвинные. Здесь собрались те, у кого не было на совести никаких грехов, и те, кто еще несколько дней назад сам доставлял сюда безвинных людей. Но люди безгрешные очутились здесь не в силу своей невиновности, а виноватые – вовсе не из-за своих преступлений. Многое тогда казалось непонятным…
Количество людей в 408-й камере, с появлением там Андриана и его сотоварищей составившее сто тридцать одну душу, вскоре выросло до ста семидесяти четырех человек. И для каждого нашлось место. Как ни странно, пожалуй, заключенных могло бы поместиться и больше, если, например, на двух койках и под ними спали бы не по пять человек, а по шесть. Но поскольку число вновь прибывающих и уводимых из камеры было примерно одинаковым, количество обитателей камеры, рассчитанной на двадцать пять коек, остановилось на цифре сто семьдесят четыре.
Правилами тюремного распорядка заключенным предписывалась получасовая прогулка в день. И книги для чтения им тоже полагалось получать. Но правила эти при всем желании невозможно было бы соблюсти, даже если бы такое желание существовало. Поэтому люди убивали время как могли. Например, мастерили из рыбных костей иглы и шили. Из рубашки – носовые платки. Из казенного одеяла – домашнюю обувку; ведь из-за невероятной скученности следить за сохранностью тюремного имущества было невозможно. Любители кропотливого труда выдергивали из подола рубахи нити и скручивали их, чтобы не рвались при шитье. Но большинство арестантов развлекались игрой в шахматы и домино. Шахматные фигуры лепили из хлебного мякиша, белый цвет достигался за счет зубного порошка, а на черных фигурах черный хлеб, захватанный грязными руками, становился еще чернее. Из хлебного же мякиша изготовлялись и вещи посложнее, вроде наглядных пособий по геодезии. Кто-то пустил слух, будто отсюда, из тюрьмы, людей погонят на строительство дорог, и в камере организовались курсы подготовки дорожных мастеров. Курсы насчитывали немалое количество слушателей, вот только подобия геодезических приборов каждый день приходилось лепить заново, так как по ночам их кто-то съедал. Злоумышленника поймать не удавалось, и в этом было его счастье: за воровство расправлялись без всякой жалости. Голод мучил людей. Шестисотграммовая хлебная пайка съедалась до последней крошки, и каждый радовался, когда по установленному старостой распорядку подходил его черед получить добавку – полчерпака капустной баланды. Радость была еще больше, если очередь выпадала на «рыбный» день, когда вместо «щей» на добавку можно было разжиться «ухой».
Курсы дорожных мастеров вел химик по специальности, бывший главный инженер фабрики резиновых изделий. Однако, по мнению профессора Андриана, он весьма неплохо разбирался и в геодезии, так что не было причин вмешиваться. Ему казалось курьезным, что здесь, в тюрьме, людям вздумалось осваивать новую специальность, хотя само по себе намерение, конечно же, было похвальным: лишние знания никогда не помешают.
Одни проводили время в жарких научных спорах, другие осваивали иностранные языки. В учителях и в учениках недостатка не было. Матрос поведал историю своей жизни, начавшуюся в Архангельске и продолженную в Кронштадте; пройдя фронты и заводские цеха, матрос бросил якорь в этой камере. Человек с грыжей, преподаватель литературы по специальности, пересказывал романы – с многодневными продолжениями и с такой поразительной точностью, что его с удовольствием слушали даже те, кому содержание было известно. Один молодой инженер дал полное описание «Куин Мэри» – крупнейшего в мире парохода, на котором он несколько месяцев назад совершил путешествие в Америку.
– Эта американская поездка и вменяется мне в вину, – добавил он, завершая свой рассказ. – А ведь я не напрашивался, меня послали. Перед этим проверяли, надежен ли я. И вот вам, нате… – Губы его скривились в горькой усмешке.
Люди перезнакомились, сдружились, как во время очень долгого путешествия по железной дороге. О прошлом вспоминали охотно, а о настоящем, о жизни в стенах тюрьмы, почти не говорили. Если человека одолевали мысли о жене, детях, матери или о работе, он ложился где придется и затыкал уши. Случалось, даже засыпал, если места хватало. Ведь даже на полу люди спали в четыре смены.
Но для тех, кто возвращался с допроса – измученных, истерзанных, – всегда высвобождалась целая койка. Это заключенным удалось организовать, хотя больше они ничем не могли облегчить участь своих товарищей. Скажем, создать тишину они были не в силах. Как бы ни было худо человеку, а шум вокруг не стихал ни на минуту. Актер в полный голос декламировал стихи. Рядом громко смеялись над анекдотами. Мужики вели нескончаемые разговоры о пахоте и жатве да о том, какие облака к какой погоде. Адвокат пересказывал курьезные случаи из судебной практики. Слепленные из хлеба квадратики домино со стуком впечатывались в дощатую постель и частенько рассыпались в крошки под ладонью азартного игрока.
По сравнению с остальными профессор легко переносил тюремную жизнь. Возможно, потому, что у него не было ни жены, ни детей, но главным образом потому, что хлебной пайки ему хватало, и даже кое-что перепадало соседям. Баланды в обед, утреннего пойла, именуемого чаем, и двух кусков сахара старому человеку было вполне достаточно; голода он не чувствовал.
Как только жизнь перестает ухудшаться, она вроде бы становится лучше. Один из сокамерников Андриана, лысоватый инженер, из крошечного кусочка проволоки, затачивая его о кроватную ножку и цементный пол, сделал иглу. Теперь он пытался просверлить этой иглой отверстие-ушко в другом кусочке проволоки. Андриана, который не был непоседливым или вертлявым, он просил весь день сидеть к нему спиной, чтобы надзиратель через «глазок» не заметил его трудов.
В награду он Андриану первому показал готовую иглу.
– Ну, что скажете?
– Превосходно, – с одобрением отметил профессор. – Вы и прежде конструировали приборы?
– Это как посмотреть. Я сконструировал первый в стране танк.
– Да, нешуточное дело. Жаль, что там… как бы это выразиться, в цивильной жизни мы не были знакомы. Но, впрочем, не исключено…
– Полноте, профессор, – прервал его инженер. – Оглянитесь вокруг.
– Пожалуй, вы правы…
– И постарайтесь перепроверить мои расчеты.
– Какие расчеты?
– Видите ли, плотность населения в нашей камере, груды хлебных паек, какие удается видеть у дверей других камер, когда по утрам идет раздача хлеба, затем рассказы заключенных, попавших сюда из других камер и из других тюрем, и наконец, средний срок пребывания в нашей камере – все это позволяет произвести определенные расчеты. Учитывая все доступные данные, я пришел к следующим результатам, – последовал длинный ряд цифр. – Этот контингент в среднем меняется в течение двух-трех недель. По моим подсчетам, средний срок пребывания – восемнадцать дней. Люди приходят и уходят, небольшими партиями, но изо дня в день. Другой вопрос: куда? Следующий вопрос: почему староста вот уже полгода сидит здесь? На мой взгляд, потому, что он доносчик, стукач.
– Не думаю. По-моему, он человек порядочный. Да и о чем ему доносить?
– А это неважно. Внедрение доносчиков – прочно укоренившаяся практика. Ее применяют, даже если в этом нет нужды. Но все это ерунда. Вернемся к цифровым данным.
– Если ваши расчеты правильны…
– Правильны, профессор, правильны! Придет пора, когда мои расчеты будут подтверждены документально. Давайте-ка лучше займемся контрольной проверкой. Например! Когда из соседних камер выводят на оправку, на каждого человека приходится полторы минуты.
– Эти полторы минуты на человека я тоже высчитал, хотя и не задавался этой целью специально, – чуть смущаясь, признался профессор.
– Ну а мне удалось также установить, что контингент нашего коридора соответствует средним данным всех коридоров да и других тюрем тоже.
– Мне представляется это логичным.
– Видите ли, даже по самым случайным, разрозненным сведениям можно…
– Я все понял. По-моему, ваши расчеты безупречны.
– Весьма польщен такой оценкой моих скромных результатов со стороны признанного специалиста по исчислению вероятностей.
– Что касается цифровых выкладок, тут все в порядке… Но как вы объясните причину явления? Саму причину?
– Взгляните на человека в углу, – инженер ткнул в темный угол камеры. – Вон тот, с отечным лицом – типичный сердечник, насколько я могу судить. Старый член партии, но и он не понимает, что происходит. Кстати сказать, староста все время за ним следит: этот человек однажды пытался покончить с собой.
– Разве можно препятствовать, если сам человек того хочет?
– Тюремными правилами запрещено.
Так протекала жизнь этого большого сообщества людей, вплотную притиснутых друг к другу. Глаза лихорадочно блестели, отросшая щетина на лицах и серо-зеленая бледность при тусклом свете круглосуточно горящей лампочки, тонущей в облаке испарений, смазывали индивидуальные различия. Все мужчины, раздетые до исподнего, сидели или пристраивались на корточках, поскольку ходить было невозможно и в переполненном помещении людей нестерпимо терзали жара и миазмы, сравнимые разве что с тропическими.
Некоторые заключенные пытались укрепить организм гимнастикой. О целесообразности физкультурных упражнений велись оживленные споры. Врач – мужчина крепкого сложения, но из-за потери очков совершенно беспомощный – утверждал, что при таком спертом воздухе гимнастика не столько помогает, сколько вредит. Некий учитель танцев, обучавший современным танцам публику в парке культуры и отдыха, горячо отстаивал противоположное мнение. Неподвижный образ жизни, говорил он, приводит к отеку ног и парализует всю мышечную деятельность; если же к месту заключения отправят пешим этапом – как тогда быть?.. Ведь на последнем участке пути их вряд ли повезут по железной дороге…
– Железную дорогу придется строить нам. То есть вам, – поправился он. – Меня-то, наверное, на тяжелые работы не пошлют, у меня вторая специальность – парикмахер. Так что попадем мы на строительство дороги, на шахту или на лесоповал – парикмахер везде нужен.
– Аккурат без парикмахера не обойдешься, – язвительно вставил матрос.
– Прошу прощения, папаша, мне лучше знать. Без парикмахера и без врача действительно нигде не обойдешься. Вот инженеры практически не нужны, а где и требуются, там их всегда с избытком.
– Ничего, зато моя спина нигде не лишняя, – сказал матрос. – Лопату, кирку, пилу, мешок – что хочешь взвалить можно. А ежели в руках будет не машинка для стрижки, а лопата, то хоть никто не позавидует.
Споры, перебранка, смех, сонный храп, тихие разговоры и громкая декламация актера – все смолкало, как только в замке поворачивался ключ и со скрежетом отодвигался засов. К тому моменту, как открывалась дверь, в камере воцарялась мертвая тишина.
Надзиратель не входит в камеру. Прямо с порога, приглушенным голосом спрашивает:
– Кто тут на букву «Б»?
Те, чья фамилия начинается на букву «Б», непослушными, дрожащими губами выговаривают свою фамилию один за другим в очередности, диктуемой темпераментом, и очень редко когда отвечают одновременно двое.
Наконец надзиратель, сверяясь со списком в руках, выуживает нужного арестанта и останавливает перекличку:
– Одевайся!
И тогда несчастный человек (еще минуту назад рассказывавший сам или слушавший чужие рассказы, игравший в шахматы или домино) трясущимися руками натягивает штаны, надевает пиджак и на подкашивающихся ногах идет к двери, переступая через тела. Одной рукой он поддерживает штаны, сползающие из-за срезанных металлических крючков и застежек. Но это единоборство со штанами длится лишь до порога. Едва переступив порог, заключенный слышит команду: «Руки назад!» Заключенный пожимает плечами и предоставляет брюки собственной судьбе…
– По-моему, и до меня сегодня черед дойдет, – высказывает предположение тот или иной из загостившихся в камере.
Захлопывается дверь за арестантом с фамилией на букву «Б». Кажется, первыми приходят в себя шахматисты, но вскоре раздается и смех, а храп возобновляется и того раньше.
– Почему они не вызывают людей по фамилиям? – поинтересовался профессор у инженера.
– Потому что они теперь и сами не знают, кто у них в какой камере сидит. Не справляются с потоком. Но если они выкликнут человека, которого в камере нет, мы нечаянно можем узнать, что кто-то из знакомых тоже арестован.
– Возможно, – согласился Андриан.
– Более того!.. Вы не обратили внимания, что иной раз вся буква прокручена, а надзиратель все таращится в список. И либо заставляет всех снова выкликать свои фамилии, либо закрывает дверь. Наблюдали такие случаи?
– Да.
– Вот видите! Они и сами не знают, кто где сидит, – торжествующе заключил инженер, испытывая в этот момент такое же удовлетворение, как в лучшие дни своей жизни.
– Вы правы. Но почему все это происходит, почему?
– Вот этого, профессор, я и сам не понимаю. Я спрашивал политиков, старых партийцев, в том числе и того, что сидел в дальнем углу. Так они либо признаются, что сами ничего не понимают, либо молчат. Но и молчат не потому, что понимают. Просто осторожничают. Лишь матрос вчера высказался, что надо бы сообщить товарищу Сталину, так как то, что здесь происходит, есть явная диверсия против коммунизма.
– Не может быть, чтобы никто не понимал.
– Понимать-то, пожалуй, и понимают. Но лишь в такой степени, как о бессмыслице мы знаем, что это бессмыслица. Видят, что «безумие, но в нем своя система», как цитирует наш актер «Гамлета». Сегодня, кстати, он обещал продолжить чтение, но что-то декламации не слышно. Смотрите, его колотит от страха: ведь его фамилия тоже на букву «Б»… Ну что ж, поживем – увидим. Если действительно в этом есть какая-то система, то я ее выявлю.
Старый профессор лишь молча кивал, соглашаясь.
Меж тем большинство заключенных успели прийти в себя. Шахматные фигуры из хлебного мякиша совершают глубоко продуманные, осторожные ходы, в кружке геодезии от освоения азов переходят к понятиям более сложным. И вновь открывается дверь.
– Кто здесь на букву «Л»?
На этот раз дрожат от страха все, чья фамилия начинается на букву «Л», дрожат, пока не кончится перекличка. А тот, на кого пал выбор надзирателя, готовится в трудный путь. Он пробирается к двери, перешагивая через море людских рук и ног, и ему со всех сторон протягивают папиросы или попросту суют в карманы. Большинство следователей разрешают курить во время допроса, некоторые даже сами угощают папиросой. Закурить во время допроса – огромное облегчение.
Оставшиеся в камере тоже поспешно закуривают. В особенности те, чья буква теперь на очереди. Влажный спертый воздух пропитывается табачным дымом.
Старый профессор в первые дни пытался переубедить людей. Говорил он спокойно, в отличие от прежней своей запальчивой манеры:
– Курить вредно, тем паче в наших условиях. Теснота, непроветриваемое помещение, недостаточное питание…
Его высмеяли.
Крестьянин смеяться над ним не стал, но припомнил пословицу кстати: «Снявши голову, по волосам не плачут».
– Самое милое дело отвыкнуть бы дышать, а еще лучше не пользоваться бы парашей, – сердито возразил тощий бухгалтер.
– Но ведь подумайте сами: как вы нервничаете, когда курево на исходе.
– Тут вы правы, – согласился матрос. – Но в сорок два года ломать себя… да пропади оно пропадом!
Профессор не стал настаивать. До чего же нелепым было его возмущение курящими студентами и война, которую он на пару со своим верным помощником вел в лаборатории! «Смешно и нелепо, как любая крайность». Да, кстати, как он там, его старый приятель? Чего доброго, подумает, будто бы у него, профессора, была какая-то двойная жизнь, за которую он теперь расплачивается… Нет, этому дядя Юра ни за что не поверит! Ну а студенты, которые сейчас готовятся к зачету? Не заподозрят же они его… «Какая чудовищная нелепость!..»
Громкий взрыв хохота вывел его из задумчивости. Слушатели курса геодезии и те, кто находился поблизости, покатывались со смеху.
– Что там такое? – спросил профессор у специалиста по исчислению вероятностей.
– Видите вон того коренастого человека? Он стоит рядом с химиком. Слесарь, его позавчера привели.
– Вижу. Ну и в чем дело?
– Оказалось, его посадили за то, что он в универмаге вслух возмущался качеством галош.
– И был не прав?
– По всей вероятности, нет. Но тот, кто читает лекции – вы ведь знаете, он был главным инженером на фабрике резиновых изделий, – утверждает, что, судя по всему, он не успеет завершить курс, – засмеялся и инженер. – Ведь его обвиняют в том, что он с вредительской целью выпускал некачественные галоши. Но если претензии к качеству галош считаются клеветой…
– В самом деле парадоксальная история… Ну и что же теперь будет?
– Ничего, дорогой профессор, ровным счетом ничего. Оба останутся здесь. Слесарь по пункту десятому получит за агитацию лет пять-десять. А инженер проходит по пункту девять, как вредитель. Ему так дешево не отделаться, тут пятнадцать лет обеспечены. Ну разве не смешно?
– Я этому не верю.
– Профессор, дорогой вы мой! Вас уже вызывали на допрос?
– Нет еще. Весьма удивлен этим обстоятельством и весьма сожалею, что это безобразие так затянулось. Уж я им докажу, что ни в чем…
– Докажете? Я просверливаю ушко уже в третьей иголке, но как доказать, что я не верблюд, способный пролезть в игольное ушко?.. А ведь от меня требуют именно этого. Ну да сами убедитесь… Кстати, не желаете ли хоть слегка почистить ботинки? По-моему, они явно в этом нуждаются. Ребята, что шьют бурки, уделили мне обрезки одеяла.
– Ах, благодарю! Вы очень любезны.
И профессор Андриан впервые после нескольких десятков лет вновь собственноручно чистил свои башмаки, как в бытность свою мальчонкой, когда он еще ходил в начальные классы. В их маленьком городишке едва стоило сойти с деревянной мостовой, как ноги по щиколотку увязали в грязи.
С курильщиками он тоже примирился. Поначалу всего лишь примирился, а затем и полюбил их: ведь они, бедняги, вследствие своего дурного пристрастия страдали больше, чем он. И любители выпить, и чревоугодники, и женатые люди, и многодетные отцы семейства – все они тоже страдали ни за что…
Дня через два надзиратель поинтересовался фамилиями на букву «А» и, когда профессор назвал себя, прекратил перекличку.
– Одевайся и пошли!
Старый профессор также трясущимися руками натянул брюки. Когда он сунул ноги в башмаки без шнурков, матрос шепнул ему:
– Может, найдем вам папироску.
Профессор отрицательно покачал головой. «Как хорошо, что я не курю», – подумал он. Папиросы в камере были на вес золота, уж это-то он знал.
Наверху, на втором этаже, он с наслаждением полной грудью вдыхал воздух, после камеры казавшийся таким свежим.
Его ввели в какой-то кабинет.
– Садитесь, пожалуйста, – вежливо предложил молодой человек, хозяин кабинета.
Воздух здесь тоже был приятный, только пахло одеколоном.
Лицо молодого человека – синевато-серое – слегка припудрено. Видно было, что его только что побрили. Запах одеколона шел от его волос, и профессор, пожалуй, вообще не обратил бы на это внимания, если бы сами жесты молодого человека не наводили на мысль о сходстве его с парикмахером.
– Фамилия, имя? – раздался вопрос по другую сторону письменного стола.
Профессор ответил.
– Год и место рождения?
Андриан дал и эти сведения.
Следователь откинулся в кресле и широко распростер руки, блаженно потягиваясь, похрустывая косточками. Затем за спинкой кресла свел руки вместе и пренебрежительным, скучающим тоном задал следующий вопрос:
– Вы говорили, будто бы наш вождь не является вождем всего человечества? – Он высвободил руки из-за спинки кресла и, облокотясь на стол, оперся подбородком о кулаки. Взгляд его неподвижно застыл на лице профессора Андриана.
– Нет, не говорил.
Молодой человек наклонился вперед и, притворяясь обозленным, выкатил глаза:
– Отнекиваться вздумали? Мы вам живо восстановим память! – Он погрозил Андриану кулаком.
Старый профессор рассерженно насупил брови и не удостоил дерзкого молодого человека ответом. А тот вновь откинулся на спинку кресла.
– Напоминаю. В университете во время заседания естественно-научного факультета… сейчас скажу точно, когда это было, – он выдвинул ящик письменного стола и заглянул в какую-то бумагу. – Седьмого февраля тысяча девятьсот тридцать пятого года. Присутствовали вы на этом заседании?
– Затрудняюсь сказать. Разве упомнишь такие подробности по прошествии трех лет?
– Не пытайтесь увильнуть от ответа, все равно не удастся. Были вы на заседании седьмого февраля тысяча девятьсот тридцать пятого года?
– Не помню. Но если в упомянутый вами день такое заседание действительно состоялось, то, по всей вероятности, я там присутствовал.
– Вот это другой разговор. А помните, как вам был напрямую задан вопрос: «Известно ли вам, профессор, что наш вождь является вождем всего человечества?»
– С какой стати кому бы то ни было понадобилось задавать мне этот вопрос?
– Зарубите себе на носу: вопросы здесь задаю я, а не вы! Но в порядке исключения отвечу: означенный разговор произошел в перерыве. Так как же?
– Не помню. Возможно, так оно и было.
– Ага! Надеюсь, и свой ответ теперь вспомнили?
– Нет.
– Старческая память подводит? Что ж, придется помочь. – Следователь снова выдвинул ящик стола. – «Эти вопросы не входят в мою компетенцию», – вот что вы ответили.
– Вполне возможно. Я по-прежнему утверждаю, что точно не помню, но если кто-то действительно задал мне такой вопрос, то я со всей очевидностью должен был ответить именно так. Это мой обычный ответ на аналогичные вопросы.
– Ах вот оно что! И что же вы подразумеваете под аналогичными вопросами?
– Если бы, к примеру, речь зашла о всемогуществе Господа, о премудрости Всевышнего.
– Вы человек религиозный?
– Помилуйте, как раз в том-то и дело, что я – человек не религиозный. В этих вопросах я не разбираюсь, а потому не считаю себя вправе отвечать прямо: «да» или «нет». Терпеть не могу, когда в диспуте стороны исходят из разных посылок. В таких случаях я почитаю за благо пресечь дебаты и обычно говорю: «Это не по моей специальности». Или: «Это не входит в мою компетенцию». Я, понимаете ли, физик. И диалектический материализм считаю правильным учением, поскольку он не противоречит постулатам физики.
– Гм…
Свежевыбритое лицо молодого человека выглядело помятым. Растопыренными пальцами он расчесал свою шевелюру, и от этого по кабинету вновь поплыли волны парфюмерных запахов.
– Ну ладно, – сказал молодой человек, который, на взгляд Андриана, был, видимо, не старше его студентов. Из ящика письменного стола он вынул чистые листы бумаги. – Вот тебе четыре листка, – сказал он. – Ступай в угол, садись за столик, вон туда, – он указал рукой, – и пиши чистосердечное признание. Подробно изложишь всю свою контрреволюционную, шпионскую, вредительскую и террористическую деятельность. Назовешь человека, который вовлек тебя в организацию, а также перечислишь всех, кого ты завербовал со шпионской, террористической и вредительской целью. В списке должно быть не меньше трех человек. – Он пододвинул старому профессору стопку бумаги и вытащил из ящика стола гибкую стальную линейку.
– Простите! Я стараюсь объяснить вам, что, кроме своей специальности, ничем другим не интересуюсь. Возможно, это ошибка, но ведь не преступление. Вызовите свидетелем директора института или моих студентов, справьтесь у руководства комсомольской организации. Кстати сказать, процитированный вами ответ лишь подтверждает мои слова…
– До сих пор все шло нормально, однако пора приступать к делу. Садись и пиши, а об остальном потом потолкуем.
– Мне не о чем писать.
– Пиши, говорят!
– Позвольте, но…
Гибкая стальная линейка обрушила первый удар на бритую голову старого человека. Удар не был болезненным, линейка опустилась на голову не ребром, а плашмя, и все же у профессора выступили слезы на глазах.
– Пиши!
– Я не знаю, что писать.
– Ах, не знаешь? Кто ты по специальности?
– Физик, преподаватель университета.
– Учитель, значит.
– Учитель.
– Ты бил учеников?
– Помилуйте, да это же взрослые люди!.. Чуть ли не ровесники ваши.
– Не бил, значит? Ну ладно. А тебя когда-нибудь били? Отвечай: били?
– Мать… однажды. Мне тогда было пять лет… Один раз.
– Всего лишь один раз?
– Да, – ответил Андриан самым решительным тоном. – Всего лишь один раз, да и то матери было так стыдно, что она никогда больше пальцем меня не тронула.
– И в школе тебя не били?
– Нет.
– Небось хорошо учился?
– Да.
– Ну тогда ложись сюда, на письменный стол. Придется мне стать твоим учителем. Я тебя научу писать.
Старый профессор не шелохнувшись сидел на стуле, куда его усадили в начале допроса.
– Ну как, не передумал? Может, теперь сообразишь, что от тебя требуется? Садись в угол и пиши!
– Да нечего мне писать! То есть, если вы желаете подтверждение в письменном виде, я могу написать, что никакой вины за собой не признаю. Политикой я не занимался. О преступлениях, в которых вы меня обвиняете, я и понятия не имею, они вообще чужды моим жизненным принципам. Я никогда…
– Не твоя специальность, так, что ли? – засмеялся молодой человек, размахивая линейкой перед носом старого профессора.
– В точности так. Не моя специальность. К политике не проявлял никакого интереса. Пожалуй, это недостаток… но…
– Это мы уже слышали. Кончай дурака валять! Будешь признаваться?
– Я все сказал.
– Тогда ложись сюда, на стол. Да поживее!
Старик, замерев, сидел на стуле и не двигался.
– Ложись! Ты, видно, все еще не понял, что со мной шутки плохи. – На лице молодого человека сквозь тонкий слой пудры пробился румянец гнева. – А ну ложись!
И тогда старый профессор медленно взобрался на письменный стол. Лег так, как, ему казалось, ложатся провинившиеся ребятишки в школе, только брюки спускать не стал. Ведь он даже в бытность свою школяром не видел экзекуции. У них, в сельской школе, была очень добрая учительница, и он лишь понаслышке знал, что учителя наказывают детей розгами. Он лег, как, по его представлениям, следовало ложиться в таких случаях, и закрыл глаза руками.
– Умеешь писать?
Андриан, уткнувшись ничком, молча качнул головой.