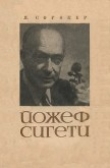Текст книги "Незабудки (Рассказы)"
Автор книги: Йожеф Лендел
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Йожеф Лендел
Незабудки
«Нужна еще и радость…»
У этого признанного мастера венгерской литературы XX века редкостная по драматизму биография. Он из плеяды тех, кто создавал Коммунистическую партию Венгрии, пережил триумф и горечь поражения Венгерской Советской Республики. Эмигрировав в 1919 году в Австрию, затем в Германию, не прекратил борьбы с силами реакции, фашизма. С 1930 года он в СССР. К этому времени за ним уже утвердилась репутация не только профессионального революционера-интернационалиста, но и талантливого публициста, поэта, критика. В 1932 году у него состоялся первый серьезный и, надо сказать, многообещающий дебют в прозе: вышла в свет повесть «Вышеградская улица» с предисловием Белы Куна. Теперь уже ясно: писательское перо стало его главным оружием борьбы. Увы, ненадолго. 1938 год – год крутого перелома в судьбе Йожефа Лендела: он арестован по ложному политическому обвинению. Ему суждено пережить ад тюрем, сибирских лагерей, ссылку. Из нормального человеческого существования вычеркнуто семнадцать лет. Семнадцать! 1955 год – год реабилитации, возвращения на родину. Йожефу Ленделу останется жить ровно двадцать лет. Он целиком посвятит их литературе. И еще борьбе за утверждение ленинских идеалов строительства нового общества. В 1963 году Йожефу Ленделу присуждается премия Кошута, самая престижная в Венгрии. Его имя обретает широкую известность не только у себя дома, но и за рубежом.
При жизни автора были лишь эпизодические публикации его работ на русском языке: уже упомянутая повесть «Вышеградская улица» (1932), роман «Беспокойная жизнь Ференца Пренна» (1959) да несколько рассказов в антологиях.
Первое более-менее цельное представление об уровне прозы Лендела дает сборник «Избранное», выпущенный издательством «Художественная литература» в 1984 году. В нем особо выделяется роман-эссе «Зиждители мостов», несомненно, одно из лучших произведений писателя.
Настоящая книга – принципиально новый для нас рубеж в познании творчества Лендела. Она открывает мир, имеющий отношение к нашему не столь уж отдаленному трагическому прошлому. В сборник включено многое из того, что написано им на так называемую «лагерную» тему. Все это публикуется на русском языке впервые.
У нас в стране мало кому известно, что Йожеф Лендел едва ли не первым из зарубежных писателей открыто заговорил на языке художественной литературы о жертвах сталинских репрессий, о суровых испытаниях, выпавших на долю людей самых разных национальностей в лагерях и ссылках.
Между тем это так. Повести «Сердитый старенький профессор», «Ведун», рассказы «Желтые маки», «Незабудки», другие вещи, включенные в состав сборника, вышли в Венгрии отдельной книгой еще в 1961 году, что было бесспорно пионерным прорывом в новый, еще не тронутый литературой того времени тематический пласт.
«Истории, о которых идет здесь речь, не выдуманы. Но это и не хроники, в точности воспроизводящие реальные события» – так говорит о своих произведениях сам автор.
Ничего выдуманного – именно таково самое сильное впечатление, когда читаешь Лендела, и веришь ему не потому только, что у него за плечами свой собственный, незаемный жизненный опыт. Ему веришь как художнику – рожденные его творческой фантазией ситуации и человеческие характеры предельно естественны, достоверны, они словно выхвачены из действительности авторской «скрытой камерой».
Повествования Лендела разносюжетны, а иные и вовсе бессюжетны – нечто вроде эскизных зарисовок с натуры, сделанных как бы мимоходом. И судьбы действующих лиц нигде не пересекаются.
Однако же при всей своей калейдоскопичности картина, созданная автором, поражает и масштабами, и многомерностью. Мы видим мир подневолья, почти зеркальное отражение общества, переживающего одну из самых трагических страниц своей истории. Он показан в динамике – через эволюцию в судьбах героев, в их мышлении, характере восприятия действительности, взаимоотношений с окружающими. Начало этой эволюции – в повести «Сердитый старенький профессор», в раздумьях скромного преподавателя физики и его сотоварищей по тюремной камере, угодивших под жернова чудовищной репрессивной мельницы, в раздумьях самого автора: «Шли дни. И шли ночи, которые, возможно, войдут в историю под названием „тысяча и одна варфоломеевская ночь“, что, кстати сказать, неверно. Ведь преследуемой оказалась не одна какая-то религия и не какая-либо партия, а совершенно разные люди – виновные и безвинные. Здесь собрались те, у кого не было на совести никаких грехов, и те, кто еще несколько дней назад сам доставлял сюда безвинных людей. Но люди безгрешные очутились здесь не в силу своей невиновности, а виноватые – вовсе не из-за своих преступлений. Многое тогда казалось непонятным».
Уйдет в небытие «сердитый старенький профессор». Уйдут вместе с ним многие-многие. Уйдут, так и не узнав правды. Отдав за нее самое дорогое – свою жизнь.
За путь к истине сполна заплатят и те, кому выпадет горькая участь узников заполярных концлагерей. Мы узнаем об этом, прочитав рассказы «Незабудки», «Желтые маки», «Все ближе и ближе».
Очень многое в них перекликается с солженицынским «Одним днем Ивана Денисовича» – тот же беспощадно-честный реализм в раскрытии механизма подавления и унижения личности, тот же неустанный поиск и возвышение человеческого в человеке, сострадание к нему, вера в его способность не только выжить физически, но и не сломаться духовно, сберечь в себе чувство достоинства и жизненную силу.
Иной материал, иной круг нравственно-философских проблем поднимает Лендел в произведениях «Ведун» и «С утра до вечера».
…Состояние души человека, находящегося на пороге освобождения, близко к эйфории, возникающей от одного сознания, что ты жив, выжил. И природа широко раскрыла ему свои объятия. И труд уже не прежний, а в удовольствие.
«Смысл жизни в том, чтобы жить», – говорит, словно убеждая себя, один из героев Лендела. Кажется, всем своим прошлым он заслужил право так думать, но он чувствует еще и другое: «Жить в одиночестве – это не жизнь, для жизни нужна еще и радость». Радость общения не только с природой. С людьми тоже. Но как жить с ними? Ведь он, человек, так настрадавшийся за годы своего подневолья, уже не тот, каким был прежде, и не сможет уже жить по-старому. А люди, общество, весь мир – какими они стали за те же годы? И зло не исчезло само собой. Оно ходит рядом, лишь сменив обличье.
Да, «нужна еще и радость». Разделенная с людьми. Но так, чтобы каждый человек оставался самим собой, свободным, защищенным от зла.
Может статься, на фоне того, что уже известно о нашей трагедии из документов, свидетельств очевидцев, наконец, из того, что уже сделалось предметом осмысления и у нас в искусстве, книга Йожефа Лендела, пришедшая к нам почти с тридцатилетним опозданием, не вызовет громкой сенсации. Но она вовсе не претендует на это.
C достоинством, присущим лишь истинно художественной, правдивой, несуетной литературе, пробуждает она в нас человеческую гордость, отвращение к рабству, сознание ответственности за все, что совершается вокруг.
В. Ельцов-Васильев
Сердитый старенький профессор. (Перевод Т. Воронкиной)
Утром, в шесть ноль-ноль, профессор Андриан совал ноги в шлепанцы и шел умываться. Будильник ему не требовался.
В шесть пятнадцать сестра профессора, седовласая старая дева, приносила в комнату брата начищенные до блеска черные башмаки с высокой шнуровкой и свежую рубашку. Сама она просыпалась без пяти пять и с открытыми глазами лежала в теплой постели еще пять минут, дожидаясь, пока зазвонит будильник. Вставала она ровно в пять.
В шесть тридцать профессор, чисто выбритый, румяный после умывания, с приглаженными мокрой щеткой непокорными белоснежными вихрами, входил в столовую, и в тот же самый момент распахивалась дверь со стороны кухни и появлялась сестра, неся горячий кофе и гренки с пылу с жару.
Оба садились завтракать. Помимо кофе и гренков, стол был сплошь уставлен закусками: профессор Андриан считал, что важнее всего как следует подкрепиться с утра.
Ровно в семь он выходил из подъезда дома. В хорошую погоду, летом, начищенные профессорские башмаки сверкали, костюм лоснился от долгой носки, а в особенности от частых соприкосновений со щеткой и утюгом. В ненастье, как этим февральским утром, тускло блестели его галоши и шелковый зонт, если вообще можно говорить о каком-либо блеске в предутренний сумрак. Пятнадцать минут бодрой ходьбы – и профессор Андриан оказывался у подъезда института. Он поднимался в профессорскую, и у него оставалось в запасе пять минут, которые он, как правило, посвящал чтению какой-либо из студенческих работ. При этом он, не отрывая глаз от тетради, давал ассистенту краткие указания по подготовке к внеочередному эксперименту.
В восемь ноль-ноль профессор Андриан переступал порог аудитории. Обводил присутствующих строгим взглядом, что, по его мнению, было совершенно необходимой мерой в отношении первокурсников. Когда шорох и перешептывания стихали, он приступал к лекции о законах движения, вращения и притяжения небесных и земных тел, а также о законах, нарушающих правила этих движений, об аномалиях, побуждающих пытливые умы к дальнейшим исследованиям. Следовать ходу мыслей профессора Андриана было нелегко; он и сам знал за собою этот грех, однако придерживался убеждения, что для студента лучше с первого же года избрать другое поприще, нежели через пять лет учебы накануне последнего экзамена осознать, что физик из него никудышный.
В восемь сорок пять он возвращался в профессорскую, куда его сопровождала стайка студентов, знавших, что сразу после лекции профессор Андриан бывает общительным и дружелюбным и охотно дает любые пояснения.
С девяти часов ровно и до без четверти десять, а затем с десяти ноль-ноль до десяти сорока пяти он читал лекции третьекурсникам и четверокурсникам. Тут он уже не выказывал строгости, чувствуя себя в кругу коллег среди этих молодых людей, из числа которых он подыскивал преемника. В этой аудитории каждая новая тема препровождалась доверительным: «У нас, физиков, принято считать…» Эти лекции оказывали на старого профессора прямо-таки бодрящее воздействие.
Но вот, без пяти минут одиннадцать, когда Андриан через лекционный зал направлялся к малой лаборатории, где должен был принимать зачет, он уловил густой табачный запах.
Лицо его побагровело: «Что за безобразие, какое свинство!» Широкий в плечах, однако же заметно не добравший ростом, старик в ярости затопал ногами, отчего к папиросному дыму примешалось плотное облако пыли.
Студентов – и тех, что курили, и тех, которые папирос сроду в рот не брали, – в мгновение ока как ветром сдуло. Они исчезли из лаборатории прежде, чем Андриан успел кого-либо из них запомнить в лицо.
Профессор продолжал бушевать в полном одиночестве, когда в аудиторию влетел факультетский сторож дядя Юра. Он мигом распахнул все окна и, сорвав с себя синий халат, принялся разгонять дым. Дядю Юру в таких случаях всегда охватывал страх, как бы старика – ох, уж эти окаянные курильщики! – от злости, не дай бог, не хватил удар. И тогда дядя Юра лишится не просто начальника, а человека, с которым вот уже сорок лет он проводил большую часть дня, который был его другом и крестным отцом его детей и состоять под началом у которого – большая честь для мало-мальски здравомыслящего человека.
Дым, не в пример профессорскому гневу, вскоре улетучился. Аудиторию выстудило. Профессор Андриан вошел в соседнюю лабораторию с пятиминутным опозданием.
Зачетники отвечали вяло, безо всякого интереса: знали, что на сей раз нет никакого смысла трепать нервы, волноваться. Если Андриан прогонит с зачета после первого же вопроса – считай, что тебе повезло. А не то последует второй вопрос, третий, один заковыристей другого, пока, наконец, не прозвучит привычно знакомый вердикт:
– Прошу пожаловать, когда начнете хоть чуть разбираться в физике, уважаемый!
Тогда студент поспешно обрывал свой несвязный лепет и с облегчением закрывал за собою дверь аудитории.
Экзаменацию подобного рода студенты называли «дымовой яростью», а иные эрудиты – «furor teutonicus», что можно было объяснить лишь невежеством физиков по части латыни. Однако несостоявшийся зачет не огорчал дерзких неудачников: они знали, что им не возбраняется через неделю явиться на повторную сдачу, и тогда старик будет кроток, как голубь. Если есть у тебя хоть крохи знаний, профессор сумеет вытянуть вразумительный ответ. К тому же это всего лишь зачет, а вот на экзамене старик всегда ставит справедливые оценки. Но зато уж в день экзамена студенты сами устанавливали дежурство, строго следя, чтобы никому не вздумалось закурить близ аудитории. К причудам профессора Андриана вот уже которое десятилетие подлаживались многие поколения студентов.
А дядя Юра после пережитых волнений поспешно спускался в институтский подвал и тотчас же раскуривал свою массивную глиняную трубку. Курильщик он был заядлый, хотя выход своей страсти давал лишь здесь, в подвале, сиречь подпольно. И, попыхивая трубкой, неизменно думал о том, что курение – привычка, не угодная ни богу, ни порядочному человеку, пагубная и порицания достойная, но, как видно, себя не переломишь.
Выкурив трубку, дядя Юра поднимался наверх блюсти порядок. Упаси бог, снова задымит какой негодник, ужо он, дядя Юра, с ним самолично управится. Профессор Андриан от гнева только наливается краской, а если дядя Юра в сердцах раскричится, то бывает слышно даже в других корпусах. И лицо его не багровеет, как у профессора, а приобретает лиловато-бордовый оттенок, вроде осеннего виноградного листа или кагора, каким он любил побаловать себя по большим праздникам. В обычное же время, но, конечно, не каждый день дядя Юра признавал лишь прозрачную, как слеза, «сорокаградусную».
Ровно в полдень профессор вышел из института; солнце заволокло густой сывороткой тумана, и все же приятно было пройтись пешком. Когда он вошел в прихожую, сестра подала на стол супницу. С обедом они управились быстро.
С половины первого до полвторого из кабинета раздавались устрашающие звуки: воинственные трубные сигналы послеобеденного профессорского храпа. Но в два часа Андриан вновь появлялся на улице: с несколько помятым от сна лицом, однако в отличном расположении духа он спешил к себе в институт.
Лекций у него после обеда не было, и он предавался ученым занятиям в «собственной» лаборатории, пользуясь услугами исключительно дяди Юры. Старик вот уже сорок лет помогал ему в работе. Он без слов понимал каждое движение профессора. Впрочем, он понимал также и суть этих экспериментов, что, по секрету будь сказано, давало совсем недурной приработок: дядя Юра натаскивал первокурсников по практическим занятиям. Иногда Андриан оставлял дядю Юру одного, а сам заглядывал в соседние лаборатории, проверял работу аспирантов и студентов. Дядя Юра знал, какими должны быть показания приборов и на что следует обратить внимание.
Время возвращения профессора домой не было приурочено к определенному часу. Хотя по уговору с сестрой Андриану полагалось быть дома к семи, случалось, что он мог уйти из института лишь в восемь или в полдевятого, а то и позже. Так и в этот день, когда он добрался домой, часы показывали половину девятого.
– Где ты пропадаешь на ночь глядя? – напустилась на него сестра.
Профессор не удостоил ее ответом. Облачился в халат и надел домашнюю шапочку черного шелка: согласно убеждению, распространенному в определенных профессорских кругах, она якобы предохраняет голову от простуды. Оставлять слова сестры без ответа означало высшую степень перебранки; низшей степенью считалась недовольная воркотня…
Однако стоило ему нечаянно наступить на одну из кошек, которых сестра его держала во множестве, как раздался истошный кошачий вопль, здорово напугавший старика. Этот инцидент и положил начало баталии, какие нередко разыгрывались в профессорском доме. Андриан запустил оберегающей от простуды шапочкой вслед кошке, спешившей скрыться с глаз долой.
– Вышвырну, всех разом за окно выброшу! Ни одной не пожалею, сколько их там ни будь: девять, двенадцать, полсотни, сотня!
– Тогда выбрасывай и меня заодно! – не заставил себя ждать столь же традиционный ответ. – А еще лучше с меня начни и мною закончи!
– Дура ненормальная! Блажная, как все старые девы!
– Тиран бессердечный! Из-за кого, по-твоему, я замуж не вышла? Может, у меня женихов не было, может, меня никто брать не хотел? А я и точно дура ненормальная, всю жизнь у тебя в прислугах состою, обстирываю тебя да грязь за тобой убираю. Что ж, выбрасывай меня, вышвыривай! Другой благодарности от тебя не дождешься.
На этой стадии перепалки старик успевал раскаяться в своей горячности. Он с кротким видом поднимал заброшенную в угол комнаты черную шапочку и, выдвинув из-под дивана миску, наливал туда молока.
– Кис-кис, – подзывал он настороженно следящую за ним из-под шкафа кошку.
Затем брал за руку все еще всхлипывающую и сразу подурневшую от слез старенькую сестру и вел ее к столу.
– Давай попьем чайку, если ты не против.
За ужином и за чаем сестра пересказывала Андриану новости обо всем на свете.
– Представь себе, сегодня на рынке не было свежих яиц.
– Уму непостижимо!
– Да и откуда же им взяться в феврале, в этакую холодину?.. Но яйца, что подолгу хранят в мелу, мне даром не нужны.
– Разумеется, ты права.
– И молока тоже не было.
– Ну конечно: в феврале, в этакую холодину…
– При чем тут февраль? Если уж сейчас молока нет, то чего же ждать в марте, в апреле! Ведь кормов пока еще должно хватать.
– Кормов? Ах да, конечно!.. Должно хватать. Когда бишь коров начинают выгонять? Я имею в виду – на пастбище.
– Когда как. Если верить пословице, то «в мае навали сена в кормушку да посиживай в избушке».
– Верно, в детстве мы это часто слышали. Память у тебя великолепная! «В мае… – неуверенно повторил он, – навали сена в кормушку и… сиди себе в избушке». Матушка наша частенько так говаривала…
После ужина он целовал сестру в лоб:
– Я еще немного поработаю…
– Ну что ж, ступай.
– Ты уже прочитала газету? – оборачивался он в дверях.
– Разумеется.
– Тогда дай, пожалуйста, я просмотрю.
С газетой в руках он проходил к себе в кабинет и усаживался в кресло. Но минут через десять откладывал газету и перебирался за письменный стол. Доставал из ящика зеленую папку и бумаги, исписанные всевозможными числами и формулами, раскладывал их перед собой. В час ночи Андриан, оторвавшись от работы, аккуратно складывал бумаги и убирал их в стол.
Пяти часов ночного сна и часа после обеда старику было достаточно для отдыха. Правда, на собраниях, если его все же удавалось туда заманить, он иногда задремывал, и тогда не дай бог было его внезапно разбудить. Старый профессор тотчас начинал аплодировать, думая, что настал долгожданный момент расходиться по домам. Или же поднимал руку в знак того, что и он присоединяется к мнению остальных. Впрочем, скорее всего эти истории были из области анекдотов, вымышленных и распространяемых досужими студентами.
На собраниях – к чему отрицать? – он действительно иногда засыпал. В церковь же не ходил и в прежние времена. Если сестра заводила разговор (правда, все реже и реже) о всемогуществе Господа, о всепроникающей мудрости божьей, каковая есть первопричина и начало всех начал, Андриан, как правило, коротко пресекал ее разглагольствования: «Эти вопросы не по моей части. Я ведь физик». Споры подобного рода проходили спокойнее, чем конфликты на кошачьей почве. По поводу общественных событий у профессора также было мало своих соображений. Семью, общественные интересы и многое другое ему заменяли любимая работа и те одаренные студенты, которые попадались на каждом курсе: профессор охотно беседовал с ними и привязывался к ним душою. Многие из этих студентов с течением времени стали преподавателями и учеными, многие обзавелись семьями, отличились на общественном поприще, иными словами, совершили то, на что самому профессору не достало ни времени, ни склонностей. Правда, некоторые в своей дальнейшей судьбе уподоблялись ему: старые холостяки, вспыльчивые и отходчивые, верные и преданные служители науки.
Андриан даже на летние каникулы никогда не уезжал ни к морю, ни в горы. Летом он каждый день ходил в институт, где они с дядей Юрой на пару продолжали ставить эксперименты. Счастье еще, что позади дома, где жил профессор с сестрою, находился небольшой сад. В жару он именно здесь проводил свой послеобеденный отдых: почивал в беседке, в тени глухой стены соседнего дома, обвитой диким виноградом. После сна так приятно было выпить стаканчик остуженного во льду лимонада или клюквенного сока. В особенности любил он клюквенный сок. Его сестрица каждый год заготавливала по тридцать шесть бутылей этого напитка, хотя сама она пила только крепкий кофе: помимо брата и кошек, кофе был ее единственной слабостью.
Вот так и текла год за годом – с минимальными отклонениями – жизнь в доме профессора Андриана.
Около трех часов ночи, а точнее, без семи минут три у двери раздался звонок. Была холодная февральская ночь – темная, без малейших признаков рассвета. Дверь открыла сестра профессора – тощая, взъерошенная, дрожащая от холода и испуга старая дева. В квартиру вошли двое: один в военной форме и при оружии, другой в штатском; еще один вооруженный человек занял позицию у входа. Судя по всему, их было трое.
Тот, что в штатском, без слов и объяснений пересек прихожую, вошел в профессорский кабинет и вручил старику какую-то бумагу: разбуженный звонком в дверь и топотом ног, тот уже сидел на краю постели. Пока седовласый старец в ночном облачении знакомился с ее содержанием, согласно которому квартиру надлежало подвергнуть обыску, а его самого – аресту, пришельцы – военный, а в особенности штатский – уже начали орудовать: раскрывали папки с бережно подобранными научными материалами и швыряли их на пол. Заглядывали в выдвинутые ящики письменного стола, кое-где посбрасывали книги с полок и, сунув в образовавшийся промежуток руку, проверяли, нет ли там тайника. Обыск проводился весьма поверхностно, безо всякого интереса и желания, лишь бы соблюсти видимость друг перед другом.
– Оружие есть? – спросил военный.
Андриан не ответил.
– Ну ладно, – со скучающим видом сказал военный и взглянул на коллегу. Тот кивнул.
Но тут сестра профессора, седовласая старая дева, вдруг заголосила. Этот плач в голос, напоминающий стародавние обряды, хотя пришельцы, должно быть, успели к нему привыкнуть и он не застал их врасплох, действовал им на нервы.
– Сейчас же прекратите этот гвалт! – сухо, однако же не без угрозы в голосе произнес штатский. Когда и окрик не помог, он скрипучим, механическим голосом добавил: – Это всего лишь проверка, пустая формальность. Два-три дня, и все выяснится…
– Где мои ботинки? – нервно спросил профессор.
Обезумевшая от горя сестра, не переставая голосить, как по покойнику, подала башмаки. Отыскала в шкафу самую теплую рубашку, новое кашне и принесла к постели. На том сборы старого профессора были закончены.
– Тут какая-то ошибка, недоразумение, – попытался он утешить сестру и сам веря в то, что говорил.
– Да, конечно, – с готовностью поддакнул тип в штатском. А военный опустил голову, уставясь в пол.
Однако плачущая женщина словно бы и не слышала, что ей говорят. Или же она улавливала не смысл слов, а лишь интонации и жесты пришельцев. Или же ей вспомнились чудовищные рассказы соседок… Как знать? Но одно она понимала: это не ошибка. Брата забирают, уводят навсегда… «Что ни ночь, подкатывают машины, – шепотом рассказывали женщины в подъезде, – и кого увезут, тот пропадает без следа…»
– Заверни мне с собой несколько бутербродов, – попросил старик.
Но старая дева, которая всю свою жизнь обстирывала брата, стряпала ему обеды, заготавливала клюквенный сок и до блеска начищала профессорские ботинки и только что проявила такую сметливость при выборе теплой рубашки и шарфа, сейчас впервые в жизни не отозвалась на просьбу приготовить брату бутерброды. Прижавшись лбом к стене, она выла как по покойнику.
– Ну, ладно… нет, и не надо, – Андриан махнул рукой. Он подошел к сестре, привлек ее к себе и поцеловал в лоб. Старая женщина, приникнув к руке брата, с каким-то ритуальным почтением запечатлела на ней поцелуй.
– Тогда, пожалуй, можно идти, – поторопил старик сопровождающих, боясь расчувствоваться.
– Можете присесть на минутку, – сказал военный и вышел в прихожую.
Старинная традиция предписывала перед дальней дорогой минуту-две посидеть молча и не двигаясь. Андриан сдерживался изо всех сил, и когда они сели, сестра тоже смолкла. Затем они еще раз простились, троекратно поцеловали друг друга – справа, слева и в лоб.
В сопровождении конвоя старик покинул дом, служивший ему прибежищем столько лет. У подъезда ждал комфортабельный легковой автомобиль, помчавший профессора и молчаливых охранников по вымершим заснеженным улицам.
Машина остановилась на какой-то незнакомой улице, у больших ворот. Ворота распахнулись как бы сами собой, автомобиль въехал внутрь. Впереди были еще одни закрытые ворота, а те, что остались позади, захлопнулись наглухо. Затем отворились вторые ворота, пропустив машину во двор, и тоже плотно закрылись за ними.
– А ну, вылезай! – крикнул кто-то, распахнув дверцу машины.
Сопровождающие сдали его другим охранникам. Старик обернулся к ним, как к старым знакомым, но его тотчас же повели дальше, и вскоре он очутился в каком-то большом зале.
Здесь было много людей, напряженно застыв, они стояли посреди зала, точно кегли. К другой двери выстроилась очередь в два ряда, как в войну перед булочной.
Старый профессор слышал, как кто-то обратился к нему с вопросом:
– Что здесь такое?
– Зал ожидания, – ответил вместо него кто-то поблизости.
Все время приводили новых людей – поодиночке и группами. Затем вдруг распахнулась дверь, перед которой стояла очередь, впустив сто человек в соседнее помещение.
– А там что такое? – полюбопытствовал опять все тот же голос.
– Черт его знает. Подойдет наш черед – увидим, – равнодушно ответил другой, но у отвечавшего, похоже, зуб на зуб не попадал.
– Давайте мы тоже станем в очередь!
К тому времени вместо скрывшейся за дверями сотни выстроилась другая очередь, уступив место вновь прибывшим; человеческая масса, заполонившая «зал ожидания», стала гуще, плотнее. Толчеей Андриана отнесло ближе к двери, отворявшейся каждый час. Никто не знал, что его ждет за той дверью, и все же, когда она открывалась, люди теснили, отталкивали друг друга, стремясь поскорее пробиться туда. Должно быть, такая же картина и у врат ада: будь что будет, а только лучше жариться на раскаленной сковороде, чем пребывать в ожидании пытки…
Входящего слепил резкий свет электрических лампочек. Цементный пол. Выкрашенные масляной краской стены сверкали. Десятка полтора немолодых людей в белых халатах уже поджидали очередную партию. Из-под белых халатов торчали сапоги. Взмахом руки сотне людей был дан знак выстроиться в ряд.
– Разде-вайсь!
Люди начали расстегивать одежду.
– Поживей, поживей! Раздеться догола!
Сто человек разделись донага. Перед каждым кучкой сложена одежда. Часть «санитаров» занялась проверкой вещей, остальные – осмотром людей.
– Руки поднять!
– Открыть рот!
– Наклониться вперед!
Тем временем другая бригада в белых халатах прощупывала одежду. Металлические пуговицы срезали и вместе с прочими металлическими предметами швыряли в кучу. Деньги и ценные вещи складывались отдельно. Сюда же бросали шнурки от ботинок и брючные ремни.
– Кто готов, забирай свои вещи.
Люди с вещами попадали в следующее помещение. Тут было жарко, запах потных тел и пара позволял догадаться, что это предбанник.
– Вещи сюда! – раздался голос из-за стойки.
Люди складывали вещи на стойку. Тот, кто принимал одежду, совал каждому кусочек мыла величиной с половину спичечного коробка. Некоторые изловчились получить по два кусочка – не в пример профессору Андриану, который отошел от стойки вообще без мыла.
– Ступай попроси свое мыло, – посоветовал ему кто-то. – Скажи, что тебе не досталось.
– Неважно. Я вчера мылся.
– Раз положено – надо брать. Если тебе не нужно, отдай мне.
Профессор недовольно отмахнулся и хотел было пройти в баню.
– Куда торопишься? Сначала иди сюда! – прикрикнули на него. Андриан удивленно оглянулся на голос.
Сотоварищи подтолкнули его в ту часть предбанника, где – до сих пор он этого и не заметил – шестеро потных надзирателей в рубашках с закатанными рукавами стригли новичков наголо, снимая заодно усы и бороду, если таковые имелись. Седьмой надзиратель – тоже весь в поту – сновал средь множества обнаженных людей, большим березовым веником сметая в угол состриженные волосы.
Несколько часов назад старый профессор представлял себе дело таким образом, что когда он прибудет в это таинственное учреждение, в этот ни разу не виденный им большой дом, то его либо сразу же расстреляют – тем самым приумножив и без того колоссальное недоразумение, – либо спросят, кто он такой. Тут он в свою очередь высокомерно поинтересуется: а по какой, собственно, причине он сюда доставлен, – и вопиющее недоразумение мигом выяснится. Ведь достаточно телефонного звонка ректору института или комсомольскому секретарю, и к полудню он сможет вернуться домой. Если вызывать свидетелей, то дело, конечно, может затянуться дня на два, на три, как и предупредил человек в штатском еще дома.
Однако оба эти предположения оказались ошибочными… Он сидел на колченогом стуле в чем мать родила, а стриженые волосы сыпались ему на спину, на колени, падали на цементный пол.
Парикмахер слегка щелкнул его по спине.
– Что это значит, уважаемый?
– Ступай, готово!
Старый профессор встал со стула, а большой березовый веник уже сметал в сторону его белоснежные, слегка вьющиеся волосы, мешая их с черными, каштановыми, белокурыми прядями, минуты назад украшавшие головы молодых парней. В углу помещения скопилась уже целая куча.
Теперь он мог пройти в баню. Его встретили гомон, гул и приглушенные паром голоса. Выкрики, грохот жестяных шаек о каменные скамьи и смех. Смех, как в обычной бане, и брызги расплескиваемой воды, и суетня – точь-в-точь субботним вечером в любой из городских бань: там так же намыливают и трут друг другу спины. Мельканье обнаженных тел, фырканье, хохот, празднество плоти, банный шум – такой знакомый, размягчающий душу и тело и в то же время бодрящий.
Старый профессор, набрав воды в шайку, мочит стриженую голову, обливает спину и грудь, стараясь смыть щекочущие волоски, улыбается в этом адском шуме и блаженном тепле и, когда вода в шайке кончается, снова идет к крану.