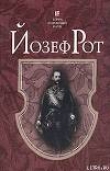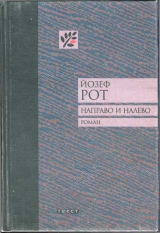
Текст книги "Направо и налево"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
XV
Пауль отправился в ресторан. Но не мог проглотить ни кусочка. Итак, состояние, в котором он находился перед визитом к Брандейсу, может длиться вечно. Кто знает, сколько придется ждать ответа Брандейса! Следующие дни и ночи будут отравлены. В эти часы ему не хватало хорошего друга, брата, матери. Домой идти невозможно. Лучше уж оставаться на улице. Как бездомному, бродить вокруг.
В первый раз осознал Пауль границы своего состояния. Он видел, как неудержимо приближается к опасным берегам бедности. До сего дня его окружал бесконечный океан богатства. Оказалось достаточным определить точный размер своей собственности, чтобы увидеть ее конец. За несколько коротких часов ему стало ясно, что его надежды, его необыкновенные дарования, его шарм, его безопасность – что все это было следствием материальной защищенности, плодами богатства, как растения в саду отцовского дома. Словно благодаря встрече с Ирмгард и ее дядей и ввиду перспективы бракосочетания с химической индустрией Пауль Бернгейм лишь познал всю меру горечи, которую в этом мире приносит обладание лишь небольшой суммой денег. Его двадцать пять тысяч марок, казалось, теряли всю свою фактическую ценность только потому, что почувствовали вблизи огромное состояние семьи Эндерсов. Визит к Брандейсу унизил его. Ведь Пауль Бернгейм, разумеется, принадлежал к числу людей, полагающих, что им не в чем себя упрекнуть, когда они ищут любви или дружбы, но сочетание таковых с материальной помощью наносят их достоинству ущерб. На шкале ценностей, усвоенной такими людьми в ранней юности раз и навсегда, деньги стоят выше по рангу, чем сердце и жизнь. Кровь, отданную ради спасения их жизни, они готовы принять с более легким сердцем, чем одолженную или подаренную сумму. Мало-помалу Пауль начинал ненавидеть Брандейса – ненавистью, которая заменяет благодарность и принимает ее имя.
Среди лиц безымянных мертвецов на доске полицейского участка Пауль Бернгейм увидел свое собственное лицо. Он вспомнил тот вечер, когда из озорства дал арестовать себя и затолкать в грузовик. Это стало его единственной встречей с другим миром, беззаконным, безродным, ночным. Его собственное будущее приняло облик неизвестных мертвецов на фотографиях. Еще ребенком играл он иногда с добровольной смертью, держа перед обнаженной грудью острие ножа – из тщеславия и в надежде, что его кончина вызовет всеобщий переполох дома, в городе, в целом мире. Он уже слышал плач родителей, надгробное слово учителя, испуганные и робкие перешептывания товарищей.
Сострадание, которое он тогда испытывал к самому себе, сегодня охватило его снова. Он хотел оплакивать себя и быть оплакиваемым. Нежное чувство товарищества погнало его к нищим на углу улицы, людям, выглядевшим голодными, бесприютными и опустошенными. Ни на мгновение не пришло ему на ум, что десятой долей своего состояния он мог каждого из его новых, внезапно обретенных друзей сделать богатым и беззаботным. Пауль Бернгейм не делал никакого различия между нищим, который протягивал руку за подаянием, и человеком, который искал у Брандейса «общественного положения», чтобы жениться на миллионерше.
Его потянуло домой – в мозгу роились смутные мысли о необходимости сделать приготовления к какому бы то ни было исходу. Он представил себе, как приятно вынуть из ящика стола револьвер, привести в порядок корреспонденцию, может быть, написать письмо и выполнить все ритуальные действия и ухищрения кандидата в самоубийцы. Он предвкушал тот таинственный час, когда, согласно завещанным предками традициям, ты сидишь перед письменным столом и прощаешься с жизнью. Час, сумрачная нежность и грустный отблеск которого напоминают зимний вечер в неосвещенной комнате перед пламенем камина.
Он снова стоял перед своей квартирой и сквозь решетку почтового ящика видел мерцание белого конверта.
Он медлил открыть ящик. Казалось, он еще не полностью заплатил дань унынию. Еще не испытал до дна наслаждение добровольной агонией. Даже не поверил по-настоящему в возможность окончательной смерти. А люди его сорта чувствуют необходимость на несколько часов преувеличить свое несчастье; они не хотят, чтобы им мешали, чтобы их утешали. Словно некая справедливость принуждает их поплатиться за беззаботную жизнь, которую они вели; будто судьба дарит им «кризисы», чтобы узнали они хотя бы ту беду, что случается в их воображении. Пауль Бернгейм желал страдать подольше, чтобы подпустить действительную смерть настолько близко, что спасение могло бы явиться лишь как дар небес или казаться даром небес. Это письмо, спасительности которого он опасался, пришло слишком рано, слишком обыденно, слишком просто. Оно приводило кризис к чересчур скорому концу. Ему было ясно, что визитом к Брандейсу он уронил свое достоинство. Своей женитьбой, своей жизнью, всем своим будущим – а он не сомневался, что оно будет великим и блестящим, – он обязан теперь Брандейсу. И возможно, лишь поэтому – что называется, «от стыда» оскорбленного высокомерия и ущемленного тщеславия – спасался он в мыслях в смерти. Но как ни был Пауль Бернгейм высокомерен и тщеславен, этих качеств было недостаточно, чтобы он предпочел добровольную смерть зависимой жизни! Нет! Их хватало лишь на уныние самоубийственного настроения.
Людям его склада, похоже, не позволено пережить до конца даже мнимое несчастье. Кажется, ангелы-хранители, которые всегда окружали Бернгеймов, заботились о том, чтобы их подопечные оставались вдали от большой беды, как и от большой радости, чтобы жизнь их протекала в умеренной атмосфере, в которой зима мягкая, а лето прохладное и где катастрофы принимают вид легких помутнений. Не суждено было Паулю Бернгейму покинуть улыбчивую благодать, которая лежала на его отце, его детстве, его юности, его Оксфорде, его талантах. Мирное счастье держало его в оковах. Не суждено ему было бежать из того мира, в котором владеют источниками наслаждения, вместо того чтобы наслаждаться, испытывают удовольствия, вместо того чтобы радоваться, терпят неудачу, вместо того чтобы быть несчастными, и в котором живешь так легко, потому что так пуст внутри.
Он открыл почтовый ящик. Это было письмо от Брандейса. Сообщение о том, что Брандейс будет рад видеть Пауля Бернгейма одним из директоров своей фирмы. Он нуждается во мне, прикидывал Пауль, так как рассчитывает на связи с Эндерсом. Он и в грош не ставит меня и мою энергию, которую в письме «высоко ценит». Я должен стать его орудием, все очень просто. А я не хочу!
Он не вошел в свою комнату, а повернул обратно с письмом в руке. Однако, когда он снова очутился на улице, письмо стало оказывать таинственное воздействие. Оно рассеивало, изгоняло тени смерти, среди которых Пауль обретался целый день. Равнодушно, как и прежде, Пауль проходил мимо нищих и отчаявшихся. Они больше не были его товарищами по несчастью. Он зашел, как ему всегда нравилось, в вестибюль большого отеля. Он полагал это единственным местом, где можно было чувствовать себя несчастным, не теряя достоинства. Скользнув в широкое скрипящее кожаное кресло, он еще оставался в убеждении, что способен поразмышлять, отвергнуть Брандейса, поискать другой выход. Но когда перед ним оказался кельнер, Бернгейм уже уверовал, что начал одолевать судьбу. Да, пока он заказывал виски с содовой – напиток уверенности в себе, мужского искусства жить, англосаксонской энергии, – у Пауля Бернгейма укрепилось чувство победителя, будто служебное рвение кельнера доказывало раболепие целого мира. В этом зале, заполненном приезжими – богатыми дельцами с карманами, набитыми неисчислимыми банкнотами, – Паулю казалось, будто он узнает свою законную родину. Всего полчаса отделяли его от готовности к самоубийству. Теперь же он не понимал своего отчаяния. Да, он одержал верх над Брандейсом. Он восхищался своей хитростью. Никто другой, даже умнейший человек в мире, говорил он себе, не убедил бы Брандейса. Стоило ему восхититься собственным умом, как Пауль не замедлил отдать должное и уму Брандейса. Он забыл страх, с которым поднимался к нему. Забыл, как считал ступеньки. Он не думал больше о том, что нужен Брандейсу как орудие. И когда Пауль опустил в виски первую соломинку, у него уже было прежнее, высокомерное и скучающее лицо – кокетливое, по-современному очерченное, с круто зачесанными со лба мягкими волосами и милыми зелеными глазами, устремленными в пространство и в богатое победами будущее.
Свой воображаемый смертный приговор он переносил в безмолвии. Однако праздновать в одиночестве воображаемую победу Пауль был не в состоянии. Ему не хватало доктора Кенига. Доктор Кениг был очаровательным противником, идеалом слушателя. Однако он несколько месяцев как исчез, исчез в этом Берлине, который, разумеется, не покидал, но в котором человек мог раствориться как в песках пустыни. Пауль Бернгейм решил снова найти Шандора Текели. В конце концов, встреча с Текели была для него благодатной. И он отправился в венгерский ресторан.
Постоянное место Текели находилось за ширмой, но напротив зеркала, которое держало в поле зрения вход и буфет, – предупреждающего зеркала. Текели выбрал это место из страха перед кредиторами, которые в свое время повадились разыскивать его в ресторане. И хотя опасаться больше было некого, место это он сохранил за собой из благодарности и уважения к нему – так американский миллиардер любит иногда посидеть на старых местах, где сиживал в начале своего пути, когда был, например, продавцом газет. Таким образом, Текели смог сразу увидеть входившего Пауля Бернгейма. Он поднялся и пошел навстречу гостю – в этом ресторане он имел права хозяина дома.
– Можно поздравить? – Будто он целыми днями дожидался здесь прихода Бернгейма, чтобы задать этот вопрос.
– Еще рано.
– Ах, я знаю, вы дожидаетесь ответа Брандейса.
– Я уже его получил, – сказал Пауль Бернгейм и пожалел, что пришел к Текели. Наглость с его стороны – все знать. Он не оставил Бернгейму удовольствия рассказать обо всем по порядку. С доктором Кенигом было бы по-другому. И чтобы поскорее забыть о том, что именно Текели способствовал счастливому стечению обстоятельств, Бернгейм быстро сказал:
– Если б я тогда случайно вас не встретил… Собственно, я вам очень благодарен.
– О, не так уж и случайно, – сказал Текели, который мгновенно угадывал неблагодарность. – Вы ведь меня искали. Я хотел попросить вас: когда будете говорить с господином Брандейсом о рекламной газете – я упоминал о ней в конце нашей встречи, – то замолвите за меня словечко.
– Да, да! – быстро пообещал Бернгейм и посмотрел на часы, чтобы подготовить скорое прощание.
– Вам уже нужно идти? – спросил Текели, который знал, что не следует задерживать спешащего, если не хочешь потерять его дружбу. – Так вы не забудете?
– Нет, нет! – сказал Бернгейм и вышел.
У Пауля снова возникло неприятное чувство, что его уложили на обе лопатки; он начал бояться зависимости от этого Текели. Он был недоволен, как всегда, когда вынужден был невольно разыгрывать неприятные, унизительные сцены. И до чего часто это с ним случалось! К счастью, он быстро забывал их. Помня в деталях лишь те моменты, когда играл блистательные роли, он обладал способностью таким чудесным образом размышлять о мучительных ситуациях, в которые попадал, что через несколько дней они приобретали смутный, но веселый облик. Единственное ужасное переживание, которое он никак не мог забыть, было связано с тем казаком во время войны; оно неизбежно всплывало в памяти каждый раз, когда Пауль получал очередное свидетельство своей слабости. Так при болезни вскрывается старая рана. Вот и теперь, оставив Текели, он вспомнил о Никите. На мгновение ему пришла в голову пугающая мысль, что Никита никогда не перестанет принимать разные обличия, что он идентичен Текели, идентичен даже Брандейсу и, возможно, господину Эндерсу, дяде Ирмгард.
Пауль искал какое-нибудь противоядие от этой мысли. По своему опыту он знал различные средства от гнетущих мыслей, как больной, который испробовал уже все лекарства против приступов боли. Он сел в автомобиль, приехал домой, быстро упаковал чемодан и направился на вокзал. Он поздравил сам себя с этим внезапным решением, которое спасало его от бессонной ночи. Ему захотелось к матери.
Увидев Пауля, прибывшего ранним утром, госпожа Бернгейм испугалась. Она стояла в кухне и присматривала за тем, как служанка готовит завтрак. Пауль вспомнил, что раньше, при жизни отца, ей подавали завтрак в постель. Она сидела прямо, с четырьмя подушками за спиной, под голубым балдахином, и играла в «королевское величие». Широкий поднос достигал ее груди, скрытой облаками кружев. В полутемной комнате, куда свет утреннего солнца попадал сквозь решетку жалюзи узкими яркими полосками, парил нежный аромат одеколона и лимона. Воспоминание об этих утренних часах хватало за сердце, как воспоминание об утерянном счастье. Теперь мать стояла в коричневом плюшевом халате; чтобы держать его запахнутым, госпоже Бернгейм приходилось скрещивать на груди руки. С войны, начав экономить, она каждое утро присматривала за служанкой, чтобы та не слишком много расходовала кофе.
– Возьми еще ложечку кофе, Анна, только не столовую ложку! – воскликнула она, когда вошел Пауль. Испугавшись неожиданного появления сына, госпожа Бернгейм в то же время обрадовалась, что он не приехал на полчаса позже. Иначе пришлось бы еще раз зажигать газ.
Над висками ее висели две пряди седых волос – два потока забот, две боевые тропы старости. Блестящий кафель придавал белому свету кухни безжалостную резкость и холод; в этом свете лицо госпожи Бернгейм казалось блеклым и распавшимся, будто разные его части можно было отделить друг от друга: крепкий квадратный подбородок от губ, нос от щек, лоб от остальной части головы. Поседевшие брови выглядели более старыми, чем волосы, будто возникли раньше их, а глаза, в которых светилась еще былая красота – без надобности и как непритязательный квартирант, – лежали между отекшими припухлостями, появившимися от слез и сна. Голос матери показался Паулю на несколько тонов выше; в воспоминаниях он был мягче, словно раннее утро стало причиной его ломкой звонкости и будто происходило это от жесткого блеска кафеля. На газовой плите холодно, словно за оконным стеклом, горел голубоватый огонек под кастрюлей. Пауль не помнил, чтобы когда-нибудь прежде ему приходилось бывать в кухне ранним утром. Это было маленькое разоблачение. Словно он напал на след печали этого дома, будто обнаружил источник его скорби – кухню.
Госпожа советница Военной высшей счетной палаты пришла позже, много позже. Утром она опиралась на трость, медленно приучая себя к ходьбе, к движению, к которому после неподвижности ночи принуждал ее день. Всю тяжесть ее старого тела приняла на себя трость, ноги лишь следовали за ней, поддерживая советницу. Она предстала перед Паулем как воплощение траура, который опустился на его родной дом. Он начал ее бояться.
Пауль позавтракал в большой спешке и отправился в город. Он хотел вернуться ближе к вечеру. При всей этой дневной суете ему казалось невозможным находиться дома. Пока он бездумно и устало брел по пустым еще улицам, время от времени озираясь, ему пришло в голову, что мать может сегодня умереть. Он представил себе мертвую мать и не испытал никакой грусти. Пытаясь объяснить себе свое равнодушие, он поймал себя на том, что хотел бы увидеть ее мертвой. Невозможно соединить ее с Ирмгард. Невозможно привести Ирмгард в этот дом.
Пауль вернулся на исходе дня. Он сообщил матери о помолвке, о своей предстоящей помолвке с Ирмгард Эндерс. «Эндерс?» – спросила мать и подняла лорнет, будто могла на лице Пауля прочесть сведения о происхождении семьи Эндерсов. Нет, она не была в восторге. Она не знала никаких Эндерсов.
– Это богатейшие люди в стране, – объявил Пауль. При этом он думал о тщеславии своей матери. И заблуждался. Что касается сына – это было из другой оперы, затрагивало другую ее страсть. Впервые за много лет госпожа Бернгейм выговорила:
– Деньги – это не все, Пауль.
Он был поражен.
– Это большая удача, мама, – сказал Пауль.
– Это можно будет сказать лишь через десять лет, – ответила она с мудростью, которая исходила не от нее, а, казалось, вытекала из материнства вообще.
Пауль обещал привести свою невесту.
– Приведи же ее, приведи! – сказала госпожа Бернгейм.
Однако он не привел ее. Никогда.
Между тем случилось нечто новое.
XVI
Амнистия позволила Теодору Бернгейму и его другу Густаву вернуться домой.
Они приехали в Германию пасмурным утром из солнечной и ясной Венгрии, где весна уже прочно обосновалась. Сама природа позаботилась о том, чтобы сохранить в возвращающихся тоску по приятному изгнанию. У Густава было загорелое лицо, быстрые и решительные движения. Возвращаясь в Германию, он лишь повиновался принятым правилам. Теодор был бледен и тороплив, его руки суетливы, стекла очков треснули. Для него это был не просто испорченный инструмент, а скорее поврежденный орган. Его слабые плечи тяготил груз перемен, связанных с возвращением на утерянную родину. В таком положении мужчина и истинный немец должен быть меланхоличным и веселым, испытывать чувство горечи и зрелой уверенности, полниться надеждами и энергией. Какая куча обязанностей! Время от времени Теодор посматривал на своих попутчиков, чтобы проверить, производит ли на них впечатление его драматическая фигура.
– Из всех этих соотечественников, – сказал он Густаву, – никто так не переживает, как мы. Они едут по своим делам, будто ничего не случилось; каждый думает о своей службе, и никто – о Германии.
– Не болтай чепухи! – ответил Густав.
Теодор замолчал. Давно уже – с тех пор как они покинули страну – возненавидел он своего товарища Густава. Собственно, Густав виноват в их побеге. Это Густав вовлек его в преступление и стал причиной изгнания. Густав-то чувствовал себя там прекрасно, Густав был невозмутим, Густава ни о чем не задумывался, Густав не читал книг, Густав не любил разговаривать, Густав высмеивал Теодора, Густав не питал к нему никакого уважения. Если бы Теодор мог отделить свои чувства от своего мировоззрения, ему пришлось бы признаться, что его единомышленник более ему ненавистен, чем любой политический противник. Однако он должен был все движения чувств, все переживания и события приводить в соответствие со своими убеждениями, с Германией, с евреями, с миром, с внутренними и внешними врагами, с Европой. Потому-то он был рядом с Густавом. По этой причине он каждый раз начинал дискуссии, на которые у Густава был вечный ответ: «Не болтай чепухи!» Не будь Густав таким молодцом, говорил себе Теодор, я стал бы его презирать. Но так как Густав был «такой молодец», приходилось его ценить.
На вокзале они простились. Ссылка нашла здесь свой конец. Общность убеждений и жизни на чужбине была все же не так сильна, как мысли об отцовском доме, которые возобладали в тот миг, когда они предъявили свои билеты. Родной город несся навстречу. Он состоял из тысячи безымянных запахов, которым не было дела ни до политики, ни до нации, которая его населяла, ни до расы его жителей. Он состоял из тысячи неопределимых звуков, которые, смешанные с детством, жили в памяти, не давая о себе знать до сего дня, и лишь теперь внезапно и мощно откликались на родственные шорохи и шумы. Родина посылала возвращавшимся одну за другой хорошо знакомые им улицы, в которых не было ничего общественного, ничего всеобщего, никаких идеалов, никаких убеждений, никаких увлечений, – ничего, кроме личных воспоминаний. Густав, более здоровый и простой, покорился им, забыл, почему он покинул родину и каким образом теперь возвращался. Теодор, однако, находил, что потеряться в личном – недостойно его. Он боролся с воспоминаниями, с шорохами, с запахами. И даже в этот час ему удавалось чувствовать себя фактором общественным, свое возвращение воспринимать как призыв нации, свой родной город – как кровью пропитанную и порабощенную землю, и когда Теодор наконец свернул на улицу, откуда виден был его дом, ему было только любопытно увидеть свою мать и узнать о скорби, которую могло причинить ей его долгое отсутствие, – не более чем любопытно.
Она вышла на порог, чтобы встретить сына. Она забыла все сцены, все часы, когда ее материнская забота о неудачном ребенке превращалась во враждебную и горькую насмешку. Сейчас она знала только одно – ее ребенок возвращается. Ничего больше. Час возвращения слегка напоминал час его рождения, оживлял давно уснувшую боль в лоне и сердце. Она обняла его, не целуя. Голова Теодора лежала на плече матери. Слезы наворачивались на глаза, сердце его колотилось. Сжав зубы, с раскрытыми глазами за треснувшими стеклами очков он старался остаться «мужчиной». Растроганность была ему некстати, как и любовь матери. Лучше бы мать встретила его так же холодно, как однажды дала ему уйти.
– Ты так похудел, – сказала мать.
– Должно быть, – ответил он не без скрытого упрека в голосе.
– Мы посылали тебе мало денег, – пожалела мать.
– Именно так, – подтвердил он.
– Бедное мое дитя! – воскликнула она.
– Без лишних слов, мама! Дай мне принять ванну.
– Скажи мне хоть слово, Теодор. Как тебе жилось?
– Как собаке – в дурацкой стране, с клопами. Мерзкие твари!
– Клопы? – вскричала госпожа Бернгейм.
– И вши, – добавил Теодор со злорадством.
– Боже сохрани! Теодор, ты должен сейчас же сменить платье!
Она пошла на кухню.
– Анна, приготовь ванну! Десяти полешек достаточно, но принеси еще угля из подвала, вот ключ! – С военных времен госпожа Бернгейм не давала служанкам ключа от угольного погреба.
Она проводила сына в ванную и не хотела его оставлять. Ждала, пока он снимет одежду, и искала случая ему помочь. Она была счастлива, когда увидела, что рукав рубашки Теодора почти оторвался от плеча.
– Я сейчас же пришью, – сказала она.
– А где другие рубашки?
С каким-то наслаждением ждала она, когда сын разденется. Казалось, она надеялась обнаружить в нем телесный недостаток, который можно будет объяснить отсутствием его дома, как и оторванный рукав рубашки. Теперь она видела сына нагим; в первый раз со времени своего детства он снова лежал перед нею в воде, прикрытый только очками – последний покров, который он не отважился снять перед матерью.
– Каким ты стал тощим! – сказала госпожа Бернгейм.
– И больным, – добавил ее сын.
– Что у тебя болит?
– Легкие и сердце.
– Ты по крайней мере благополучно доехал?
– Много евреев по пути. Слишком много для одной Германии.
– Будь разумен, Теодор! Оставь евреев в покое. Это твои друзья тебе внушили.
После ванны Теодор пошел в свою комнату. Он открыл дверь. Он не догадывался, что комната сдана. Из-за близорукости он не сразу заметил госпожу советницу Военной высшей счетной палаты. Маленькая, худая, укрытая шалью, она лежала на диване и, завидев Теодора, тихо вскрикнула. Это прозвучало как крик совенка.
– Кто вы? – спросил Теодор.
– Оставьте мою комнату! – закричала госпожа советница Высшей счетной палаты.
Теодор отпрянул назад. Он хотел проверить пистолет, который по недоразумению там оставил.
Он пошел к госпоже Бернгейм.
– Мне нужна моя комната.
– У нас нет денег, Теодор! Она сдана на год.
– Мне нужна моя комната! – повторил он.
– Будь добр, Теодор! – умоляла мать. Внезапно она упала в кресло, закрыла лицо руками и начала беззвучно всхлипывать. Теодор смотрел, как дрожат ее плечи. Непонятная сила толкнула его к матери. Он сделал шаг и застыл.
Я стал бы слабаком, сказал он себе. И: все женщины плачут, когда стареют! Он отвернулся, подошел к окну и выглянул в сад.
Внезапно он оглянулся и спросил:
– Где я буду спать?
– Анна будет спать на кухне, а ты – в комнате, где жил кучер.
– Ах так! – сказал Теодор. – Пауля ты никогда бы в комнате кучера не поселила. Я уже жалею, что приехал домой. Ну, погодите же! Погодите!
Днем он пошел к Густаву.
Густав сидел в кругу семьи, между замужней сестрой и тремя братьями, которые все служили почтальонами. Пахло праздничной кислой капустой и свежепожаренными зернами кофе. Торговец бумагой уже обещал принять Густава на службу. Через неделю он приступал к работе, рассчитывая получить профессию.
– Он ничего не хочет больше знать о политике! – сказал один из трех почтальонов. Они сидели в расстегнутых форменных куртках. На вешалке около двери, как тройня близнецов, висели их фуражки.
– Через год он пойдет в институт. Будет экономить. Мы все будем экономить, – сказал второй почтальон.
– Наш отец тоже никогда не интересовался политикой, – заметил третий.
– Мы не хотим ничего знать о политике, – сказала мать Густава, вперившись в Теодора взглядом.
Теодор понял, что семья друга его не любит. Каждое сказанное ему слово имело скрытый, враждебный смысл, которого он не угадывал, но которого боялся. Эти людишки вели себя так, будто считали, что именно Теодор ответствен за политические пристрастия Густава. Тот же сидел в окружении родственников, став вдруг аполитичным и неотличимым от них. Праздничный запах из кухни овевал всех и побуждал к пошлому, близкому и очевидному удовольствию. Теодор понял, что внезапно потерял единомышленника. У Густава больше не было политических убеждений. Он хотел идти честным, порядочным мелкобуржуазным жизненным путем.
Дурная раса, думал Теодор, пока его острый матовый носик вдыхал кухонные запахи. Он быстро простился. И, уже оказавшись на улице, почувствовал, что одиночество, которое всегда представлялось ему невесомым, стало вдруг тяжелым, давящим.
Я буду стараться, начну учиться, познавать, наметил он себе. По мне, так пусть Густав хоть почтальоном станет.
Дома мать принесла ему короткое письмо от Пауля. В нескольких фразах, звучавших как служебное уведомление, Пауль сообщал, что обручился с Ирмгард Эндерс.
– Везет парню, – заметил Теодор.
– Будем надеяться, – сказала мать.
– Проходимец, – пробормотал Теодор.
Госпожа Бернгейм вышла из комнаты. Со времени приезда Теодора прошло едва ли восемь часов. Между тем она уже устала от его присутствия. Это очень напоминало прежние мучения. Теодор вернулся как ревматическая боль, которая отпустила на несколько месяцев и забылась. Ах, она узнавала его, своего сына! Таким он всегда был, таким навсегда и останется.
Она дала Теодору ключ от дома и сказала, что он может уходить и приходить, когда захочет. Есть он будет в своей комнате. Обед ему могут оставлять и подогревать. Госпожа Бернгейм подняла на мгновение лорнет. Ее взгляд скрепил печатью и утвердил то, что она постановила. И с тех пор Теодор видел мать только при случайных встречах. Лишь через несколько месяцев, за два-три дня до бракосочетания Пауля, которое должно было состояться в Берлине, он обратился к матери с несколькими словами. Он спросил ее, когда она собирается ехать. Она ответила:
– Я не поеду. Нищая мать не смотрится на свадьбе.
– А вот я поеду, – решил Теодор.
– Я думала, ты не любишь брата, разве не так?
– Для меня это возможность завязать отношения.
Несколько секунд госпожа Бернгейм раздумывала. Затем сказала неожиданно резким тоном, каким обычно разговаривала с привратником:
– Я напишу Паулю. Он пошлет тебе денег, ты поедешь в Берлин и там останешься. Я не могу больше тебя содержать. Тебе действительно нужны связи. Пора зарабатывать себе на хлеб. Собирай чемоданы!
Впервые Теодор испытывал уважение к своей матери. Она стояла перед ним, бледная, старая, выше его ростом, левая рука на бедре, правая простерта в воздухе, указывая на коридор, где стояли чемоданы Теодора. Рука, казалось, хотела увековечить приказ. Она изгоняла сына из дома. В этом не было никакого сомнения.
Теодор отправился в Берлин. Он пошел в отель Пауля и назвал себя. Пауль попросил его подождать в холле. Теодор воспринял это как оскорбление и хотел уйти. Хорошо, сказал он себе, очень хорошо. Буду голодать, останусь без крыши над головой, начну опускаться. Ну и пусть! Но покинуть отель у него не хватило духу. Это был богатый отель. Этот молодчик, думал он, не пускает меня к себе, чтобы я не увидел, что он занимает целую анфиладу комнат. Ну ладно! Это «ну ладно!», которое он прошептал себе под нос, принесло ему некоторое утешение, будто имело какой-нибудь смысл, будто выражало собой какую-то ответную меру.
Наконец появился Пауль.
– Безукоризненная элегантность! – произнес Теодор вместо приветствия. Они протянули друг другу кончики пальцев. Затем молча сели.
– Что ты пьешь? – спросил Пауль в смущении.
– Во всяком случае, не липовый чай.
– Виски?
– Если больше ничего нет.
– Послушай, Теодор, – начал Пауль, – ты можешь, если будешь в настроении, навещать меня раз в месяц, когда мы вернемся из свадебного путешествия. Выбери себе определенный день. Насчет прочего – вот адрес моего адвоката. В течение полугода ты будешь получать пятьсот марок в месяц. За шесть недель начиная с завтрашнего дня ты должен найти работу. Вот адрес моего портного. Можешь сшить себе три костюма. И можешь прийти на мою свадьбу. Она состоится здесь, не в церкви.
Наступила долгая пауза. Оба пили виски с содовой. Затем Теодор встал, протянул брату вялую кисть и вышел.
Он тотчас пошел к адвокату.
– Ваш брат просит вас, – услышал Теодор, – послезавтра пораньше посетить господина Брандейса. Господин Брандейс ждет вас. – Ему отсчитали пятьсот марок.
На следующий день состоялось бракосочетание Пауля. Оно совершилось быстро, без особого шума; все прошло как по маслу. Теодор едва успел увидеть жену Пауля. Среди пяти гостей-мужчин он заметил и Брандейса.
«Этот молодчик скупит теперь всю Германию».
В холле Теодор увидел, как Брандейс сразу же отделился от группы других гостей и пошел прочь легкими шагами, странными для его грузной и крупной фигуры.
– Не хотел бы я с ним породниться, – сказал вблизи от Теодора один из гостей другому.
– Да, один из тех, кто нажился на инфляции, – ответил его собеседник.
Одного Теодор знал: это был господин Эндерс. Другой походил на господина Эндерса как родной брат. Оба состояли из одинаковой гладкой, округлой и твердой субстанции и напоминали деревянные, отполированные до глянца и раскрашенные шары. Они разговаривали так громко, что их можно было слышать во всем зале.
– Эти люди, – сказал господин Эндерс и остановился у колонны, словно подыскивая себе опору для долгого и утомительного доклада, – эти люди так же отличаются от нашего брата, как морские разбойники от обычных моряков. Это пираты!
– Совершенно верно, господин Эндерс. В то время как отцы наши приобретали состояние, трудясь в поте лица своего, эти люди получили деньги бессовестно и благодаря счастливому случаю. В этом и разница. И особенно повинен в том Восток, который дарит нам, как вы справедливо заметили, этих пиратов делового мира. Moral insanity.