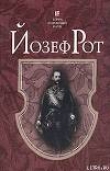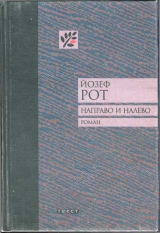
Текст книги "Направо и налево"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
– Это совсем другое, и вообще не имеет никакого значения.
– Ну, Феликс, прошу тебя, не будь таким грубым!
И Феликс задумывался, действительно ли он был так груб. Он молчал, а госпожа Бернгейм вскоре забывала о своей обиде.
– Ну, теперь пуговица будет сидеть вечно! – говорила она с ребяческой радостью.
И они шли спать.
О Теодоре, младшем сыне, редко заходила речь. Поскольку он больше походил на отца, чем на мать – по крайней мере, госпожа Бернгейм подчеркивала это при каждом удобном случае, – в доме его не считали гением, как брата. Ведь госпожа Бернгейм считала мужа баловнем судьбы. Она полагала его неспособным приобрести знания или развить в себе какие-либо дарования. К торговцам и сделкам она испытывала презрение, которое дочери иных добропорядочных семейств обретают к девятнадцати годам вместе с образованием, приданым, умением играть на фортепиано и любовью к литературе. По мнению госпожи Бернгейм, государственный чиновник по рангу стоял чуть выше банкира, а финансист был не способен воспринять «плоды культуры». Когда двоюродный брат госпожи Бернгейм стал адвокатом, она уверовала, что ее брак навеки останется мезальянсом. В более молодые свои годы она еще подумывала так или этак изменить мужу с академиком или офицером, чтобы благодаря адюльтеру с более достойным по социальному положению лицом получить удовлетворение за необходимость отдаваться обыкновенному банкиру. Кто слышал, как госпожа Бернгейм, у которой, естественно, «сдавали нервы», восклицала: «Ах, Феликс!», или как она жаловалась на «этот шумный дом», когда ветер стучал ставнем или дверью, или говорила мужу: «Будь поосторожней!», когда он случайно опрокидывал стул, – тот мог уловить в этих выражениях ту безмерную обиду, которую причинила его супруге судьба.
И все же она умела дать мужу на удивление хороший совет, предугадать опасность в рискованном деле, почувствовать злой умысел в действиях какого-нибудь человека, возбудить подозрения касательно некоторых служащих, сомнительных счетов, поставщиков, поддерживать порядок в доме, устроить летнюю поездку и вызывать уважение проводников, морских офицеров и служащих гостиницы. Госпожа Бернгейм обладала неким животным чувством дома и семьи; оно и было источником ее предусмотрительности, ее житейской сметки, а также порядка в усадьбе, обнесенной оградой из толстых железных прутьев.
Ко всему, что находилось за пределами этой ограды, она была неумолима, непреклонна, слепа и глуха. Она делала различие между бедняками, которые каким-либо образом получали доступ в ее дом, и нищими, слоняющимися по улицам. Госпожа Бернгейм умела так организовать свою благотворительность, что сердце ее отзывалось на беды ближнего в определенные часы определенных дней. Делать добро с равномерными промежутками было ее потребностью. Если ей рассказывали, к примеру, о несчастье, которое постигло чужую семью, то перво-наперво ее интересовали обстоятельства, при которых это несчастье произошло: случилось это, например, в среду или в четверг, ночью или днем, на улице или в комнате. И все же, несмотря на любопытство к деталям, она никогда не принимала беду слишком близко к сердцу. Она сторонилась несчастий и болезней, избегала кладбищ и необходимости выразить соболезнование. Повсюду ей чудилась опасность заразиться. Когда муж говорил ей: «Ланг… или Шнайдер… или госпожа Ваграм больны», – она всегда отвечала: «Только не ходи туда, Феликс!» Всякий фанатизм ожесточает. Фанатизм благополучия тоже.
Госпожа Бернгейм тосковала по своему сыну Паулю. Она по нескольку раз читала его сухие письма, никогда не понимая смысла написанного, и старалась вычитать между строк, здоров ли «ее ребенок» или утаивает какую-нибудь болезнь. Она ведь принимала его за «благородное дитя», которое молчит, испытывая боль. Она писала ему дважды в неделю: не для того, чтобы ответить или сообщить что-то, а только слова, буквы, призванные заменить поцелуи и прикосновения, установить некую физическую связь. Пауль мельком просматривал эти письма и сжигал. Он был недоволен матерью. Ему хотелось, чтобы его мать была «настоящей леди». В таковую он и превращал ее, когда приходилось рассказывать о ней посторонним. Иногда он мечтал о том, чтобы заново воспитать ее. Пауль представлял себе, как жил бы с нею в английском поместье. У нее белокурые волосы, она читает Гарди и пользуется большим уважением окрестной знати. В его рассказах она становилась такой, какой сама себя видела. Если он упоминал об отце, то слегка шаржировал его в манере своей матери. Однако Пауль редко говорил о своей родине и своем доме, поскольку правду рассказать не мог, а лгал неловко и чувствовал себя при этом неуютно.
Он должен был провести в Англии по меньшей мере полтора года, но как-то раз получил телеграмму, которая звала его домой.
Старый господин Бернгейм за несколько недель перед тем отправился в далекое путешествие – в Египет, лечить подагру. Однако умер, едва взошел на пароход в Марселе. При нем находилась юная дама, которую он выдавал за свою дочь и которая – кто знает? – могла послужить причиной его неожиданной кончины. Когда забирали тело покойного, то денег при нем не нашли. Кое-кто полагал, что эта молодая женщина и была той самой акробаткой. Людям свойственно романтически толковать простейшие события. Скорее это было вполне обычное влечение стареющего мужчины к молодой девушке, а верность его некой особе, которую и распознать-то было бы нелегко, просто-напросто выдумка. И все же его смерть на борту парохода, среди волн морских и на руках, будем надеяться, хорошенькой девушки была свободнее и достойнее, чем большая часть его жизни или, по меньшей мере, той жизни, о которой мы знаем. Вполне возможно, что господин Феликс Бернгейм никогда не вел вполне однозначное существование. Не исключено, что он и впрямь, как сказал его сын Пауль, был «молодцом» – заносчивым, здоровым, удачливым, беззаботным.
Его зять, ротмистр, забрал покойника. Пауль приехал прямо к похоронам.
Госпожа Бернгейм плакала у могилы – может быть, впервые в жизни. Она стояла в окружении своих детей. Ее красивые холодные глаза покраснели и напоминали окровавленные сверкающие льдинки. Господин Бернгейм был погребен в мраморном склепе. На широкой, с голубыми прожилками плите все его заслуги были перечислены строгими черными буквами – более солидными, чем в надписи «Сан-Суси» на фронтоне его особняка.
Однако печальный ангел, прислонившийся к кресту, был все же братом тех маленьких ангелочков, что украшали конек крыши дома Бернгейма.
III
Постепенно Пауль вновь обрел континентальный характер и облик, чему соответствовала и носимая во время траура по отцу строгая одежда темных тонов. О возвращении в Англию пока не было речи. В делах он мало смыслил. Пауль не знал, оставаться ли ему в банке или учиться дальше, да и не имел представления, что изучать. Его отец оставил три разных завещания, но все они написаны были в далеком прошлом. Стали толковать о некой тайне в доме Бернгейма и делах банка; пошли слухи, что состояние Бернгейма значительно меньше, чем можно было ожидать.
Пауль не высказывал ничего определенного о своих дальнейших планах. Он все еще распространялся об университете, но и теперь, уже побывав там, говорил то же самое, что и раньше, когда знал о нем только по проспектам. Он часами сидел за бюро отца, смотрел со скукой в гроссбух, разговаривал с секретарями и старыми служащими, пребывая в постоянном страхе обнаружить свое незнание и позволить другим злоупотребить им. В Пауле появилось что-то от недоверчивости его матери, от ее недалекой холодности. Никогда он не позволил бы обнаружить свою некомпетентность перед кем-нибудь из старых служащих! К тому же Паулю приходилось отбиваться от советов матери и ее братьев, с которыми старый Бернгейм всегда был в ссоре и которые постепенно стали вмешиваться во все дела.
Вот в таком неприятном положении и пребывал Пауль, пока на помощь ему не пришла война. С первых же минут его душевные порывы обратились на Отечество, лошадей и драгун. У госпожи Бернгейм, убежденной в том, что смерть поражает только бедных пехотинцев, снова появился повод гордиться сыном. Когда он впервые предстал перед нею в мундире – а он надел форму, хотя никогда не был военным, – она заплакала, во-первых, от радости: Пауль был красив, во-вторых, оттого, что ее муж не мог больше увидеть сына, в-третьих, потому, что военная форма всегда ее восхищала. (Она напоминала госпоже Бернгейм пору ее девичества.)
Верный традиции драгунского полка, которая, впрочем, в ходе войны несколько ослабла, Пауль отпустил усики, загнутые кверху. Он выглядел более по-боевому, чем его одногодки-добровольцы. Его искусство наездника, его осанка, образ мыслей могли произвести на постороннего впечатление, что Пауль Бернгейм принадлежит роду потомственных кавалеристов. Оказавшись в среде дворян, свое истинное происхождение он компенсировал внешностью и манерами, а фамилию с тех пор писал столь неразборчиво, что «Бернгейм» можно было прочесть как «фон Бернгейм».
Несмотря на все это, в соответствии с распоряжением, которое испугало его так же, как других – призыв на военную службу, ему пришлось оставить кавалерию. Государство из-за своих предрассудков потеряло великолепного офицера – возможно, героя. Нет никакого сомнения, что тщеславие Пауля Бернгейма стало бы источником патриотического энтузиазма. Однако, в соответствии с тем самым распоряжением, ему пришлось стать офицером интендантской службы.
Сколь многие хотели бы поменяться с ним местами! Пауль же, покидая драгунский полк, в течение часа превратился в ожесточенного противника войны. Казалось, ему открылся новый путь к обретению смысла жизни. Он стал общаться с пацифистами, писать в маленьких запрещенных оппозиционных газетках, выступать на тайных собраниях противников войны. И хотя не было у Пауля ни таланта журналиста, ни ораторского дара, он вызвал в обществе маленьких людей – простых солдат, дезертиров, революционеров – определенную сенсацию благодаря своему офицерскому чину, благородной внешности и известному всем происхождению из хорошей семьи. Блеск знаков различия, звон шпор – будучи офицером интендантской службы, он все равно состоял в коннице, – оливковая бархатистость кожи его лица, плавные движения рук и бедер очаровывали людей. Подарив противникам войны ту порцию героизма, которая предназначалась Отечеству, он обеспечил себе благодарность преследуемых изгоев. Они гордились им, и гордость эта проистекала из того же источника, который питал их ненависть к другим представителям правящего класса. Перебежчики всегда ценятся высоко. Этому закону Пауль Бернгейм был обязан своим положением в революционных кругах.
Интересно отметить, что мятежные настроения Пауля не смогли ослабить сияние его внешнего облика. Звон и блеск сопровождали его повсюду. Кокетство героизма было присуще ему в той же мере, что и мятежный образ мыслей. Несколько блях на шапке, шнуры на тесном мундире, кинжал вместо штыка на скрипучей красной кожаной портупее, мягкие желтые сапоги и широченные кавалерийские штаны – таким выглядел Пауль Бернгейм, бог интендантской службы. Его работа состояла в закупке и реквизиции скота и зерна в глубоком тылу, прифронтовых районах и в оккупированных областях. Он ездил по городам и деревням, ел и спал у владельцев усадеб, которые не знали удержу в своей любви к Отчизне и обхаживали Пауля ради разрешения на спекулятивные цены и поблажек при реквизициях. Ему были совершенно безразличны попытки его жертв подружиться с ним. Государство потеряло героя и приобрело неподкупного офицера интендантской службы. Ведь Пауль реквизировал зерно и сбивал цены с обидой и подспудной завистью революционера; его убеждения помогали служебному рвению, а страх, с которым его встречали жертвы, льстил ему в той же мере, в которой радовало восторженное признание пацифистов. Впрочем, его служебную добросовестность начальство тоже ценило. Она уберегала Пауля от каких-либо подозрений. Вот так и удавалось ему сочетать военные добродетели с антимилитаристскими взглядами. Когда-то он читал ученые книги, вел умные разговоры, а в компании девиц говорил пошлости, теперь же он болтал в офицерских казино и загородных поместьях, играл на фортепьяно попурри из оперетт, танцевал и одновременно готовился к закупкам продовольствия, размышлял о будущих демонстрациях и обдумывал речь на предстоящем собрании. Спутаны и переплетены в душе человека убеждения и страсти, и нет в них никакой психологической последовательности.
Однажды Пауль познакомился с Никитой Безбородко, управляющим имением в нескольких милях южнее Киева. Безбородко хвастался, что происходит из старинного казацкого рода. Сильный, бесстрашный, хитрый и смелый, Никита уже сумел отбиться от нескольких реквизиций, обсчитал на кругленькую сумму закупщика армии, саботировал приказы, занимался фиктивными поставками и вместо здоровых лошадей отправлял армии больных и слепых.
Впервые он встретил отпор со стороны Пауля Бернгейма, который написал на казака донос. Однако это не привело ни к какому расследованию. Однажды Пауль встретился с украинцем на вокзале в Жмеринке.
– Добрый день, господин лейтенант! – сказал казак.
– Вы разве не под арестом?
– Как видите, господин лейтенант. У меня есть связи.
Они выпили по рюмке-другой в импровизированном трактире – темном и холодном деревянном бараке с крошечными открытыми окнами, по которому гулял ветер и летали птицы. Вдруг казак сказал:
– У меня есть тут для вас несколько листовок, господин лейтенант!
– Я прикажу вас арестовать! – ответил Бернгейм и поднялся.
Казак стоял у двери, широко улыбаясь и держа нож в правой руке. «Руки вверх!» – воскликнул он со смехом.
Бернгейм не знал, шпик ли украинец и состоит на службе в тайной военной полиции, или он революционер, или листовки оказались у него случайно, или он просто болтал спьяну. Был вечер, ветер завывал вовсю. Пауль решил на всякий случай взять листовки. Потом он всегда мог сказать, что это был хитрый ход.
Казак бросил ему сверток левой рукой, все еще стоя у двери с ножом. В сумерках казалось, что он стал выше ростом. Серебряный блеск исходил от его пальто песочного цвета, темно-серой меховой шапки, желтых сыромятных сапог, серых глаз. Головой он достигал потолка барака. У Бернгейма появилось чувство, будто сам он съежился, а тот, другой, – вырос. Страх из давно забытых детских лет, воспоминания о привидениях из снов и жутких фантазиях в темной комнате охватили взрослого мужчину, словно множество липких холодных рук. Шнапс, который Пауль до того пил безо всякого вреда, сегодня ударил ему в голову, поскольку полдня он ничего не ел. «Как я оказался здесь с этим молодцом?» – единственная четкая фраза, которая пришла ему в голову. В его сознании мелькали лишь обрывки мыслей, и выражение «последний час» навязчиво вертелось и пульсировало, как боль, что на мгновение исчезает, но ты ее ждешь и встречаешь с радостью, ибо ожидание боли мучительнее ее самой.
Внезапно пришло Бернгейму на ум еще одно выражение, глупость которого в любое другое время не могла бы подвигнуть Пауля на какое-либо решение или действие. Одно из тех пустых выражений, которые, словно обрывки расхожих лозунгов, педагогических правил, образцовых учебников и адаптированных для детей героических сказаний, на всю жизнь угнездились в нашем мозгу и остаются неподвижными, как летучие мыши, пока мы бодрствуем, дожидаясь лишь первых сумерек нашего сознания, чтобы вновь в нас закружиться. Вот такое выражение и пришло на ум Бернгейму, оно означало: «постыдный конец». Представление, которое, каким бы детским оно ни казалось, может побудить и умного человека мобилизовать то, что называют «мужеством». В Пауле Бернгейме жили еще представления, в которых он, как противник войны и оппозиционер, не хотел самому себе признаваться – представления о «достойной смерти», например, – ведь даже кратковременная служба в кавалерии не проходит бесследно. Едва в его омраченном рассудке мелькнуло это словосочетание, как он сделал самое глупое, что мог сделать в его положении: он, словно герой, схватился за револьвер. В одно мгновение нож Безбородко вонзился в его правую руку. Пауль успел еще увидеть, как быстро открылась дверь барака и последний, зеленоватый свет вечернего неба ворвался в полное мрака пространство. Затем деревянная дверь вновь захлопнулась – Пауль Бернгейм услышал шорох… и снова стало темно. Безбородко исчез.
Пауль и не пытался вытащить нож из своей руки. Темнота в помещении, казалось, породила внутри него еще более густой мрак, который так же проникал из глазного нерва в зрачок, как темнота внешняя проходит сквозь сетчатку. Мрак был внутри и снаружи. Он не знал, открыты ли его глаза или закрыты. Боль в руке казалась звенящей, будто кровь, ударяя в сталь, давала металлический отзвук.
Несколькими часами позже Пауль очнулся – с перевязанной рукой, на диване, в комнате еврея – хозяина шинка, – чтобы тотчас же уснуть снова.
Через несколько дней он уехал из Жмеринки. Листовки исчезли. Все случившееся представлялось ему теперь сном, и он даже начал сомневаться – действительно ли рану ему нанес Безбородко. Тот тоже словно испарился.
И все же это событие лишило его той уверенности, в которой он пребывал прежде. Война длилась уже третий год. Кто может сказать, страх или совесть побудили Пауля Бернгейма отказаться от столь легкой службы и записаться добровольцем на фронт? Казалось, что смерть, пройдя вечером по бараку так близко от него, подарила ему ощущение своей красной, черной и страшной сладости и пробудила в Пауле страстную тоску по ней. Он не заботился больше о своих друзьях, их газетах, речах. Он дезертировал из их лагеря, как однажды дезертировал к ним.
Так уж многогранен и неуловим человек.
IV
Итак, Пауль Бернгейм отправился на фронт.
Пасмурным прохладным ноябрьским днем – лившийся с неба дождь смешивался с туманом, поднимавшимся с земли, – Бернгейм прибыл на поле боя.
Он был теперь лейтенантом N-ского пехотного полка, который в течение нескольких недель занимал позиции в южной части Восточного фронта. «Повезло тебе! – сказали ему офицеры. – Полк как раз перебрасывают на самый спокойный из фронтов. Явись ты чуть раньше – искал бы нас в Альпах, в ущельях!» Пауль предпочел бы найти свой полк в Альпах, где смерть была ближе к дому, чем на Востоке. То, что Восточный фронт можно было назвать «идиллическим местом», входило в некоторое противоречие с принятым им решением записаться в пехоту, чтобы окончательно отделить свою прежнюю жизнь от грядущей. Теперь он жаждал сильных переживаний, больших опасностей, суровых невзгод. Следовало, говорил он себе, так воспользоваться этим счастливым и редким состоянием безоглядной решимости, чтобы оно стало наконец постоянным. Он опасался, что состояние это пройдет, не принеся ощутимых плодов. Это свойство и раньше было присуще Паулю, оно кидало его то в историю искусств, то в Англию, то в кавалерию, то в пацифизм. Подобно тому, как раньше хотел он быть совершенным англосаксом, так теперь стремился стать совершенным пехотинцем.
Однако об этих тайных побуждениях сам он едва догадывался. Они были упрятаны под густым и тяжелым, как ноябрьский день, мрачным и туманным равнодушием. Уже несколько часов сидел он один в купе второго класса. Другой пассажир, проехав с ним два часа, давно сошел. Хотя вечер еще не наступил, в полусумраке уже мерцала засаленная лампа; желтая и маслянистая, она напоминала Паулю светильники у могил в день поминовения всех святых. Иногда он протирал рукавом запотевшее оконное стекло, желая убедиться, что поезд действительно движется. За окном виднелась серая пелена ноябрьского дождя над местностью, еще тыловой, но уже переходившей в прифронтовую полосу, а за этой пеленой – деревушки, покинутые и разрушенные хутора, женщины в платках, смуглые евреи в длинных одеяниях, желтое жнивье и желтые извилистые улицы, мерцающая сквозь дождь черная грязь, уцелевшие и сломанные телеграфные столбы, брошенные и наполовину потонувшие в нечистотах полевые кухни, марширующие обозные, бурые бараки, рельсы и полустанки, на каждом из которых поезд останавливался. Он, впрочем, нередко останавливался и между станциями, будто сам медлил, приближаясь к полю битвы, и пользовался любой возможностью постоять подольше, чтобы дождаться перемирия.
Так абсурдна была эта мысль, и так велик был страх Пауля приехать на войну слишком поздно, что он снова и снова думал о том, что мир уже не за горами и что он может оказаться в ужасном положении – вернуться к мирной жизни таким, каким был раньше, нисколько не изменившись, с навязчивым воспоминанием о постыдном эпизоде с казаком. Ему было настоятельно необходимо, чтобы война продлилась по меньшей мере лет пять. Он предвидел, каким беспомощным и растерянным вступит в мирную жизнь, вернется в свой дом, к матери, в банк, к слугам и служащим. Вспомнив, что еще совсем недавно он писал пламенные протесты и выступал против войны, Пауль не смог понять смысла прошедших лет. Непостижимые, они простирались позади ужасной и загадочной истории с Никитой. Этот человек угрожал ему, ранил его, одержал над ним верх и исчез. И далее – ничего. Все так, но этот человек, возможно, знает обо мне больше, знает обо мне все – больше, чем я сам. Он держит мою жизнь в своих руках; он может меня уничтожить – а я не вижу его, он исчез навсегда. Однако, утешал себя Пауль, пока я на войне, жизнь моя – в моих собственных руках. Каждое мгновение я могу умереть. Впрочем, если украинец что-то и знает, я буду все отрицать. Я стану героем, и мне поверят. Возможно, кто-то из моих прежних друзей и товарищей предал меня. Я буду все отрицать. Нет никаких доказательств. Нет ни одной статьи, написанной моим почерком; я все печатал на машинке под чужим именем. И в конце концов, все это не имеет значения.
Когда поезд останавливался, Пауля утешала упрямая, монотонная мелодия дождя, который с одинаковым терпением и мягкой настойчивостью поливал пространство на сотни миль вокруг и, казалось, смывал расстояния и делал одинаковыми пейзажи за окном. Мир состоял уже не из гор, долин и городов, а только лишь из ноября. И в этом свинцовом равнодушии тонули на время заботы Пауля. Он ощущал свое единство с какой-нибудь беззащитной былинкой на полях, отданных дождю, с мельчайшим, ничтожнейшим, безжизненным предметом – соломинкой, например, – которая покорно лежала там и дожидалась конца, полная блаженства, – насколько, впрочем, она была способна это блаженство ощутить. Ручей мог подхватить ее и унести с собой, сапог – растоптать.
Так Пауль впервые воспринял войну и, как миллионы участвующих в ней мужчин, испытал благородное равнодушие человека, который слепо вверил себя слепому року. Я, вероятно, погибну, думал он со сладкой отрадой. А когда наступил вечер и за окном поднялась стена мрака, а внутри вагона тусклый свет загорелся ярче, он показался себе на мгновение убийцей, убийцей в освещенном свечами склепе. Далеко позади остались заботы и радости, страхи и упования жизни. Он бежал от всего. Такому беглецу, как он, жизнь не давала более умиротворяющей цели, более надежного убежища, чем фронт и смерть.
Он вспомнил о завещании, которое написал незадолго до отъезда. В случае его смерти все оставалось матери и лишь ничтожная часть – брату, которого отец даже не упомянул в своем завещании. Мысль о Теодоре Пауль быстро отогнал, ему не хотелось вспоминать о брате. Хотя он добровольно и даже с охотой шел на смерть, его охватила мимолетная зависть к младшему брату, который уверенно шагал под защитой своей юности, спокойно жил до войны, переживет, несомненно, ее окончание и увидит лучшие времена. Он этого не заслуживает! – сказал себе Пауль. И снова отдался блаженству предчувствия смерти.
Пребывая в таком настроении, он преувеличивал богатство, продолжительность и полноту прожитой жизни. Эта же преувеличенность порождала в нем самодовольство. Я был богат, говорил он себе, молод, красив, здоров. Я обладал женщинами, познал любовь, повидал мир. Я могу спокойно умереть. Вдруг ему вспомнился Никита. Мне следовало, подумал он, пойти на фронт раньше. Нечего было примыкать к пацифистам. Теперь я иду на смерть не добровольно, меня туда гонят. И поделом мне.
Чем дольше длилась ночь, тем становилось холодней. Пауль попытался погасить лампу. Хотелось спокойно полежать в темноте, представить себя в могиле. Хорошо лежать в катящемся гробу и въехать в нем прямо на тот свет. Лампа не гасла, словно Вечный Свет она горела во спасение его души. Сон не приходил. Пауль попытался замерзшими пальцами записать что-то в блокноте. Письмо проясняет мысли, думал он. Однако не смог вывести на бумаге ни одной фразы и стал чертить на белом листке бессмысленные узоры, как раньше во время церковных служб. Ему вспоминались товарищи школьных лет. Он сумел нарисовать одно, потом другое лицо; так он изобразил весь класс, школьные парты, учителей.
За этим занятием и прошла ночь.
На следующее утро дождь превратился в мелкий град, и застывшие капли стучали в окно с нежным металлическим звоном.
Поезд подошел к последней железнодорожной станции. Это и был край света. Здесь начиналась узкоколейка с конной тягой, которая вела прямо к командному пункту полка.
Пауль приехал вместе с несколькими солдатами, возвращавшимися из побывки на открытой платформе. Будто сквозь толстую стену, он слышал их пение, сопровождавшееся отдаленной барабанной дробью. Ветра и колючего града Пауль почти не чувствовал. Он увидел первых раненых, под руку с санитарами ковылявших в белых повязках по длинной дороге, и кровавые следы, которые они оставляли на черной рыхлой земле и мягкой вязкой желтой глине. Бернгейм стоял на перекрестке в шинели с поднятым воротником – руки в карманах, взгляд неподвижно застыл на идущих к боевым позициям солдатах, на слепящей белизне бинтов, на лаковом блеске крови, на заскорузлой серости шинелей, на черной дорожной грязи. Выстрелы стали отчетливее, солдаты продолжали петь; новый день опускался навстречу сумеркам.
В расположение части он прибыл, когда уже наступила ночь, и испытал неожиданное счастье – счастье, как он его тогда понимал, и еще в неком другом смысле. В эту ночь ожидалась атака. Все товарищи писали письма домой. Не из внутренней потребности, а чтобы не выделяться, Пауль тоже написал матери. Она, наверно, будет плакать обо мне, подумал он и вспомнил похороны отца и сверкающие льдинками глаза матери. Своему брату Теодору он не послал даже привета.
Однако он не умер, Пауль Бернгейм! Штык проткнул его правую щеку. На следующее утро Пауля отправили в полевой госпиталь, где ему прооперировали челюсть. Пока рана заживала, он заразился тифом и его перевезли в инфекционную больницу. Будто Феликс Бернгейм отечески опекал своего сына, которым он и на небесах, вероятно, гордился; или как если бы удача, которая способствовала старику в выгодных сделках и отвалила ему главный выигрыш, хранила от смерти и юного его отпрыска. Ведь именно теперь, когда Пауль лежал в лихорадке в офицерском отделении барака вместе с четырьмя другими пациентами, именно теперь пробудились в нем страх смерти и жажда жизни, которая еще несколько дней назад была ему так безразлична. Он всеми силами души верил, что должен остаться в живых; он воспринимал удачную рану, полученную в рукопашной, как обещание судьбы сохранить ему жизнь. И хотя через день кто-нибудь из товарищей рядом покрывался мертвенной синью и застывал в жуткой недвижности, Бернгейм каждое мгновение, даже в самом беспорядочном бреду, знал, что не умрет.
Ему стало лучше. Он вышел из больницы, простудился, схватил воспаление легких и попал в другую.
Казалось, и эта новая болезнь была вызвана его желанием выжить и никогда больше не участвовать в боях. Происшествие с Никитой он постепенно отодвинул на задворки своих воспоминаний и вновь стал прежним Паулем Бернгеймом. Он лежал в кровати у окна, исполненный намерений перенести все и стать умнее всех на свете. Прежнее высокомерие, как добрый старый друг, вернулось и встало у изголовья. Голубоватый ночник горел над дверью. Беспокойное, торопливое, хриплое дыхание его больных товарищей казалось звуками, исходящими не от людей, а голосами странных, неизвестных животных. Голубое сияние лампы, напоминавшее лунный зимний свет, Пауль Бернгейм полагал последним препятствием, которое он должен преодолеть. Он негодовал на безвинную лампу. Лампа эта мешала тому, чтобы такой человек, как Пауль Бернгейм, с совсем иными, разумеется, потребностями, чем у обычных больных, мог зажечь свечи и читать, или писать, или рисовать. Мало того что день и ночь приходилось вдыхать запах карболки и йода – нельзя было читать, когда этого хотелось! Красивые, просторные комнаты родительского дома! Пауль Бернгейм в точности помнил узоры ковра, теплый золотистый звон гонга, зовущего к завтраку, мелодии Чайковского, которые они с сестрой разыгрывали в четыре руки. Между тишиной, царившей в больнице, острым запахом ее помещений, аскетической белизной врачебных халатов, стонами и бессилием больных, вечным шелестом крыльев смерти и бодрым, надменным и страстным желанием Пауля жить было различие столь же большое, как между больным человеком и здоровым. Пауль Бернгейм гордился тем, что медленно, но верно выздоравливает, точно это было его заслугой. Он презирал больных, словно они были неполноценными существами. Врачей он почти ни во что не ставил, поскольку карболка дурно пахла. Каждого врача, подходившего к его постели, он считал зубным протезистом, который только во время войны занялся врачеванием. Ведь по мнению Бернгейма, протезист был сошкой помельче, чем терапевт, – в табеле о рангах его матери государственный служащий тоже стоял выше банкира. С больничными сестрами он обращался как с бывшими служанками, чем тайком мстил за жесткий распорядок госпиталя, который уделял недостаточное внимание его особенным желаниям. Будто те несколько часов, когда он прощался с жизнью и когда собственная личность не так его занимала, как всю предыдущую жизнь, – будто эти немногие часы удвоили его высокомерие. Казалось, натура Пауля Бернгейма не смогла перенести этого мимолетного смирения и решила с лихвой возместить его. Ведь неправда, будто страдания, опасности, близость смерти меняют человека. Паулю Бернгейму все это уже не грозило.
Его выздоровление длилось столь долго, что всякая опасность снова оказаться на войне улетучилась. Выйдя из больницы, Пауль взял отпуск, и, прежде чем он истек, разразилась революция.