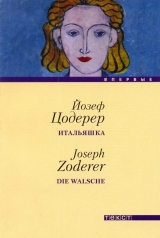
Текст книги "Итальяшка"
Автор книги: Йозеф Цодерер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Не всегда, но все чаще Ольга чувствовала тщету собственных слов, которые она, сидя или стоя подле Сильвано, выстреливала, как из стартового пистолета, в это спокойное, приветливое лицо. И чем яснее читала она внимание в глазах Сильвано, тем непонятнее, невразумительнее казались ей собственные слова, с помощью которых она пыталась ухватить суть очередного «как так?» или «почему?». Она ставила бутылку коньяка на столик под прилавком стойки, следила, как капает в чашку кофе, и не находила слов, чтобы высказать то, что ей хочется.
Ночами она чувствовала, когда он рядом с ней не спит, сама настолько сонная, что сил не было руку поднять. Он подолгу лежал неподвижно, чтобы ее не разбудить, потом все-таки тихо вставал и в темноте ощупью крался вдоль кровати к окну, она слышала его осторожную поступь по ковру и знала: сейчас он аккуратно, на небольшую щелку приоткроет ставни и струйка ночного воздуха потечет в спальню, смешиваясь с потным запахом его подушки. Когда он снова ложился рядом с ней, она своими волосами терлась об его щеку, молча, и он в ответ тоже ничего не говорил.
В утренних сумерках она просыпалась от скрипа двери и шлепанья его босых ног по полу. Тогда она вытягивала ногу, занимая освободившийся кусок постели.
В маленькой городской квартирке, стоя с матерью у кухонного окна и глядя вниз, вдоль фабричной стены, на кусок реки, она слушала, как мать пыталась объяснить, почему она от него, от отца, ушла, словно и сама до конца еще не поняла. Она ушла от отца, начинала мать, хотя конечно, вполне могла бы и остаться, собственно, она и не помнит уж точно, почему именно от него ушла, в конце концов, никого другого у нее не было. Просто он своей бесконечной суетой и разговорами все вокруг заполнил и ее жизнь напрочь своей заменил, причем ей эта его жизнь долгое время даже нравилась. Да и что хорошего было в ее прежней-то жизни, посев да покос, сажай картошку да копай картошку, она, по сути, батрачкой на брата горбилась, которому все хозяйство от родителей досталось. Так что отец для нее не просто надеждой оказался, но и избавлением, и все у них очень даже складно получиться могло, она бы без всякого за ним хоть на край света пошла, только он даже отдаленно не представлял, что ей чего-то недостает, не представлял, не догадывался и не желал догадываться – не говоря уж, чтобы всерьез, по-настоящему дознаться. Он только себя все время жалел, что ему, дескать, даже поговорить не с кем, хотя буквально с каждым, даже с первым встречным забулдыгой, часами мог говорить, а заодно и напиваться. Разумеется, он искал понимания, которого там, в горах, ни в ком найти не мог, тем более что и сам понятия не имел, что ему, в сущности, нужно, чего не хватает, вот и получилось, что молчаливость ближних своих он стал принимать за тупое, безмозглое упрямство и отплачивать за это ей, своей жене, таким же упрямством, только еще и какой-то холодной, рассудительной яростью.
Словно он в придачу с ней на всей деревне женился, именно так, поначалу почти неприметно, а со временем все отчетливей и злей он на нее стал напускаться, словно всю злобу на деревню, на все, что его тут не устраивает, на ней одной выместить можно. Так что в конце концов не его грубости, не его оскорбления и не его обидчивость ее доконали, а скорее то, что в глазах его она оставалась именно что деревней,и именно так он с ней и обходился, а не как с верной женой, которая всегда способна понять, ежели его что не устраивает. Чего она не смогла снести, так это его несправедливость и эту слепую ярость, и что ей как жене буквально за все отдуваться приходится. В конечном счете он ведь в том, что у него якобы такая пропащая жизнь, только ее, ее одну винить начал, дескать, в этой клятой горной глуши его лишь она одна и держит, а больше никто и ничто. Вот поэтому она и ушла, проговорила мать, задумчиво глядя прямо перед собой. Потому что сам он, она давно это поняла, не в состоянии подвести черту и уйти. Вот она и захотела уйти и его за собой потащить, а он в последний, решающий, самый важный миг взял и спасовал. Она не только надеялась, но и как в последнее средство верила, что он все это время не то чтобы чуда ждет, но какого-то потрясения, толчка судьбы, причины какой-то неумолимой, которая бы заставила его наконец стронуться с этого места, где нет ему подобающей жизни. Да вот беда – просчиталась она. Отец не видел в ней сколько-нибудь существенную, не то что там важную часть своей жизни, никогда не принимал ее всерьез, никогда не была она удостоена ни чести, ни счастья обращения с собой как с равной спутницей жизни, нет, она была ему только кухаркой, уборщицей, а еще – и в особенности – бессловесной куклой, на которой хорошо злость срывать и которой можно по-всякому пользоваться, в том числе и в постели.
Так вот и вышло, что она оттуда, сверху, уехала, куда ей захотелось, а он остался – там, где ему вроде как невмоготу, по крайней мере, по его словам, и невыносимо было оставаться, рассуждала мать.
Кухню в их городской квартирке она тоже побелила известью, но уже без всяких узоров. Только несколько открыток с видами моря, с Адриатики и с Балтийского побережья, присланные товарками из отпуска, были прикноплены к стене над столом, а рядом ее, Ольгин, детский рисунок: светло-зеленый домик с желтой крышей на сплошном зеленом фоне – без всякого намека на небесную синеву.
Когда она познакомилась с Сильвано, матери уже не было в живых. Вскоре после ее смерти Ольга съехала с квартирки возле фабрики и перебралась в угловую мансарду. С собой взяла только кровать, все остальное ей не хотелось видеть, и, странное дело, в этой берлоге под крышей ей никогда не было одиноко, наоборот. В изголовье кровати она поставила торшер, вокруг которого образовывался уютный, теплый световой шар, тогда как остальная, большая часть мансарды тонула в полумраке, ибо жалюзи она не поднимала даже днем, оставляя лишь слегка приоткрытые щелочки. В полумраке она шлепала босиком по паласу, в полумраке красной зубной щеткой чистила зубы. В полумраке, стоя, пила кофе. По стенам во многих местах торчали из штукатурки концы электропроводки, но она не вешала ни ламп, ни плафонов, только над туалетным зеркалом попросила укрепить коротенькую неоновую трубку искусственного света. В полумраке забиралась в душевую кабинку и подставляла тело струям горячего душа. Было так хорошо расхаживать в этих сумерках босиком по всей комнате, аккуратно избегая соприкосновений со световым нимбом торшера. Углядев в световом круге на полу пушистый клубочек пыли, она опускалась на колени и дула на него, следя, как он послушно укатывается прочь и исчезает в полумраке. Никогда прежде и никогда потом она не ощущала в себе столько надежды и почти полной свободы; казалось, сам воздух вокруг напоен безграничными возможностями, которые рвутся и льнут к ней откуда-то извне, из неведомого.
Иногда она несла юбку или блузку в химчистку-прачечную напротив, а когда из облаков пара снова выходила на улицу, серый асфальт принимал цвет стоячей воды, и вокруг, казалось, царил неизъяснимый покой, словно она одна очутилась на взлетной полосе, по которой можно идти и идти до самого горизонта. Буквально в двух шагах от прачечной можно было свернуть в аллею японских декоративных деревьев. В декабре – январе ей очень нравились их голые, искореженные ветки, казалось, это сотни выставленных во все стороны сжатых кулачков, но в феврале, который здесь, внизу, обычно уже бывал теплым месяцем, из черной коры высыпали лиловые бутоны и цветы, отчего у Ольги просто голова шла кругом – ведь эта весна сплошная туфта, на самом деле никакой весны еще нет, наверху, в отцовской горной глуши, наверняка еще метровые сугробы, там снег иной раз и в мае целыми днями сыплет. Медленно, без всякой цели, брела она под этими цветущими кронами, обычно после обеденного перерыва, на обратном пути в контору. Солнце сулило синеву и просторы, какое-то освобождение от всего, но путь ее неизменно вел все туда же – на работу.
Только познакомившись с Сильвано, она по воскресеньям с утра стала ходить по этой аллее энергичнее, ибо шла с определенной целью, в бар, где ее ждали, где со всех сторон ее тут же встречало громкое и дружное «salve!» [8]8
Привет! (ит.).
[Закрыть]. Разумеется, Сильвано был уже не один, а с друзьями, что толклись возле стойки, Гвидо спешил первым расцеловать ее в обе щеки, да и каждый норовил каким-то особым образом выказать ей свою приязнь, кто хватал за руки, кто любовно щелкал по носу, женщины целовали в губы, одним из последних подходил Сильвано, который тогда еще ютился в одиночестве в своей холостяцкой конуре, притягивал ее к себе и, обхватив ладонями затылок, слегка поворачивал ей голову и ласково дул в волосы. Ей больше всего хотелось присесть к столику у стеклянной стены и смотреть на набережную, но Гвидо и Микеле уже вертелись вокруг нее, выхватывали из объятий Сильвано и тащили к стойке, где гудящим пчелиным роем грудилась вся орава. Пока они там сидели, пригибая головы над чашечками кофе эспрессо или macchiato [9]9
С молоком (ит.).
[Закрыть]и перешучиваясь, то и дело являлся еще кто-нибудь из приятелей, часто не один, а со спутницей, и громкий обряд приветствия радостно повторялся, покуда кто-нибудь не выкрикивал «Счет!», и только тут начиналась настоящая театрализованная буря, furioso, ибо в тот же миг все опрометью кидались к бармену, отпихивая локтями соперников и со смехом тыча под нос Сильвано каждый свою, самую крупную купюру, а тот, в белом кителе, немного помешкав, выхватывал наконец одну из протянутых ему бумажек и с улыбкой бросал на прилавок сдачу. Только после этого кто-нибудь невзначай задавал вопрос, что бы такое сегодня предпринять и куда податься. Гвидо предлагал ресторан у бензоколонки на пересечении автострад к югу от города, только что открывшийся, народу вообще никого, там даже петь можно, новые хозяева на гостей просто кидаются. Однако Оттоне не хотел сразу «оседать на конечной станции», почему бы, вопрошал он, для начала малость не размять ноги, небольшой поход, а ресторанчик, чтобы посидеть, где угодно по пути найдется. Кое-кто радостно хлопал в ладоши, но Бруна, подружка Гвидо, недовольно морщила носик, ну конечно, вечно одно и то же, это же так заманчиво. В конце концов Микеле предлагал поехать в долину Нонсталь, там у его деда хутор, старый дом, уже несколько лет пустует, но в кладовке на случай воскресных вылазок припасов полно, они могут целый день стряпать, домовничать и вообще делать, что заблагорассудится.
А друзей Сильвано хлебом не корми, дай только всем вместе, пусть на короткое время, почувствовать себя семьей – вместе топить печку, готовить, убирать дом, трапезовать, все это под одной крышей, а еще лучше в одном просторном помещении. Разумеется, все немедленно ехали в Нонсталь, на хутор дедушки, там с энтузиазмом принимались таскать дрова к кухонной плите, чистить лук и чеснок, нарезать тонкими ломтиками грудинку и сало, драить стол и стулья, а потом все вместе, в том числе и Ольга, тесно сгрудившись за столом над огромной горой спагетти, хохоча и перекрикивая друг друга, отпихивая руки и вилки соседей, иной раз и опрокидывая бокал вина, выпивали, закусывали и веселились от души. Да, они были, что называется, веселой компанией, где все друг в дружке души не чают, и Ольга была со всеми заодно, вернее, как могла, пыталась быть.
Она старалась по возможности мыслить проще. Привыкла все говорить ясней и по возможности короче, а значит, с неизбежностью, и прямей, то есть в известной степени огрубленно, хотя и не избегая сложностей: преодолев первую скованность, она стала, на манер остальных, помогать себе руками, а если надо, и гримасами. Произнося итальянские слова, она тут же замечала произведенные ими недоразумения, она говорила и заранее ощущала приблизительность, неточность этих своих, в спешке выхваченных из чужого языка слов, лишь похожих на слова, которые ей хотелось сказать, и именно благодаря этой похожести вызывавших у Сильвано и тем паче у других, кто знал ее еще меньше, ошибочную уверенность, что они поняли ее совершенно правильно. Она пыталась подражать их жестам, молниеносному вскидыванию и всплескам рук, выбрасыванию пальцев, не исключено, что и губы ее теперь непроизвольно двигались и кривились в такт их мимике и речи. Иной раз хотелось отшатнуться, утешая себя мыслью, что это всего лишь шутка, настолько пугали ее их движения. Зачастую за мельканием рук она уже не способна была различить смысл слов, к которым вся эта канонада жестов прилагалась. По этой части все были сильнее, гораздо ловчее ее. Сами того не желая, они припирали Ольгу к стене, а стена эта вдруг проваливалась, и Ольга испуганно проваливалась вместе с ней, но ее тут же подхватывала следующая стена, тоже, впрочем, ненадежная, и ей было все трудней ощутить за спиной и под ногами опору, все казалось шатким, зыбким, предательским.
Она извинялась, объясняла – дескать, она совсем не то хотела сказать, но еще чаще прибегала к спасительной отговорке, что запросто могла бы растолковать все в точности, если бы не нужда искать иностранные слова, если бы этих слов у нее в распоряжении было столько же, сколько в родном языке. Однако все остальные, и Сильвано тоже, не понимали, о чем она, ухватив самый первый смысл ее слов, они уже не желали от него отступиться и уверяли, что вполне и совершенно правильно ее поняли, в сущности, они были даже признательны ей за ее языковые затруднения, находя произнесенные ею приблизительные слова вовсе не приблизительными, наоборот, забавными, она вообще очень забавная личность.
Со временем ей пришлось даже бороться с искусом приспособления к навязываемой ей роли, все чаще и чаще ее подмывало юркнуть в этот кокон косноязычия – ведь в нем было так удобно спрятаться, существуя для остальных как бы наполовину. Одновременно ей стало мерещиться, что вместе с упрощением речи меняется и ее физический облик, беспомощный язык влияет на тело, делая и его беспомощным, неуклюжим, бесформенным, собственные движения казались ей все невразумительнее и невнятней, по крайней мере, она себе это внушила. Прошло довольно много времени, прежде чем ей удалось хотя бы от этого представления избавиться, да и удалось лишь в той мере, в какой она сумела освободиться от себя прежней, как сбрасывает кожу змея, а некоторые вещи пришлось просто забыть – она и впрямь о многом забыла, даже не ощутив в себе боли этого забвения.
Новый священник, похоже, был по натуре спортсмен, моложавый, лет под пятьдесят, невысокий, подвижный, с резкими движениями, темно-каштановые волосы, будто смоченные водой, зализаны назад без пробора.
Все четыре года, с самого начала его службы здесь, судьба ее отца внушала ему сочувствие и горькие сожаления; заключив ее ладонь в свои руки, священник долго ее тряс. Впрочем, слова говорить легко, он и сам знает, как мало, если вообще хоть что-то, можно сказать словами. Похороны он назначил на послезавтра, на три часа пополудни, ее это устроит? Здесь все или почти все настаивают на семейном захоронении. Тут священник закашлялся, ловко отвернувшись и прикрыв рот рукой. Но семейные захоронения очень нарушают порядок на кладбище, для столь непомерных запросов, как семейное захоронение, погост у них давно уже слишком тесен, хоронить надо всех подряд, в общем ряду, это решило бы все трудности и избавило приходской совет общины от вечных споров. А то они уже два года дебатируют и никак ни о чем не договорятся.
Она не требует для отца семейной могилы, сказала Ольга. Чего же тогда она хочет, хищно, словно вот-вот клюнет, спросил священник, и ей показалось, что он даже шагнул к ней своим семенящим шагом. Ничего, обычные похороны, сказала она, могилу в общем ряду, ну, разве что место поукромней, не на юру. Если бы все были столь же благоразумны, улыбнулся священник, но, к сожалению, так только приезжие рассуждают, местные о захоронении в общем ряду и слышать не хотят, а ведь кладбище нельзя расширять до самого порога церкви, до которого и так уже каких-то пять шагов осталось, или, тем паче, до главной площади. А луг по другую сторону, что за кладбищенской стеной, это надел трактирщика, хозяина «Лилии», о нем и мечтать нечего, у трактирщика там самые богатые укосы, он его ни в жизнь из рук не выпустит. Вот и получается, что надо смириться с данностями и всем сойтись на новом порядке захоронения в общий ряд, потому как грунт на погосте песчаный, тело в этом грунте иной раз и за двадцать лет не успевает до конца истлеть, так, без обиняков, и приходится людям объяснять. Особенно там, где сухо, там земля вообще неживая, поэтому и разложение идет очень медленно, а с другой стороны, хвала Господу, в иной семье лет по двадцать – тридцать никто не умирает, вот и получается, что участок простаивает. То ли дело хоронить усопших в общем ряду, одного за другим, так сказать, по мере ухода из жизни. Какой был бы знаменательный знак равенства между усопшими, вздохнул священник и поднял на Ольгу глаза. Невзирая на лица и общественное положение, все мертвецы входили бы в одну общую семью и ложились бы рядком вокруг церкви, тогда и места на погосте всем бы хватило, потому что каждую из этих рядовых могил самое позднее через двадцать лет уж точно можно вскрывать и использовать заново.
С отца вполне хватит и того, что умер он там, откуда всю жизнь – и все вокруг это знали – не чаял как вырваться, сказала Ольга, да и где ему сейчас взять семью для семейной могилы, так что можно спокойно хоронить в общем ряду, только местечко бы подобрать вроде вот этого, чтобы на солнышке и без ветра.
Он отведет ее к смотрителю, кивнул священник, лучше того никто кладбище не знает, и, сколько ему известно, он уже присмотрел местечко, не далее как полчаса тому назад они с ним там, у могил, об этом толковали.
Уже на кладбище священник спросил, правда ли, что у нее в городе питейное заведение, да еще в итальянском районе, как он слышал. Бар в промышленной зоне, ответила Ольга.
За церковью, на узком участке кладбища, они сразу увидели Отто, смотрителя, с которым отец частенько играл в «Лилии» в карты. Хорошо, что она пришла, обрадовался Отто, а то он уж думает-гадает, куда ее отца положить, слава Богу, еще не всем родственникам это безразлично. Ему до всех этих споров насчет семейных могил и захоронений в общий ряд дела нет, заявил смотритель, пожилой, слегка за шестьдесят, мужчина почти без шеи – голова, казалось, растет прямо из плеч, – но не горбун. Он указал на поросшую травой прогалинку среди могил. В хорошую погоду солнце тут везде, либо с утра, либо к вечеру, да и от ветра все могилы укрыты, иначе зачем было вокруг кладбища стену городить. А здесь, вроде как посередке погоста, на его взгляд, место не такое одинокое, как где-нибудь в углу, под самой стеной. Если священник и она не против, он бы уже начал землю выбирать.
Ее это устраивает, сказала она, а когда и священник не нашел что возразить, подала ему руку и пригласила Отто на рюмочку крепкого в «Лилию». Но Отто решительно замотал головой – нет уж, покуда покойник в землю не лег, никому из родни нечего в трактире делать, сказал он, да и чтобы баба при всем честном народе его угощала, он никак допустить не может, что люди-то скажут, но, если она уважение ему оказать хочет, пусть к нему зайдет, у него и выпьют, старая Паула рада будет с ней поболтать, для нее как-никак развлечение, а с рытьем могилы и подождать можно.
Паула, в свои девяносто один год самая древняя старуха в деревне, нахохлившись, сидела за столом в низенькой горнице. Хотя полдень только-только миновал, света от двух подслеповатых окошек в комнате почти не было. На столе валялись хлебные крошки и корки сыра, на скамье горка грязного белья, носки брошены на полу возле стула. Только ей пусть ничего не рассказывает, буркнула старуха, словно очнувшись от дремы, своим скрипучим голосом. Отто, разливая в две рюмки самогон из темно-зеленой бутыли, несколько раз повторил, обращаясь к старухе, что это Ольга, дочка учителя, но Паула твердила свое: только ей пусть ничего не рассказывает. Итальяшки нашим в спину стреляли, когда война уже кончилась, заявила она, итальяшки войну лишь после того выиграли, как наши, по приказу кайзера, оружие сложили, всякому ребенку известно, что это измена была, предательство, и только молодежи нынешней на это начхать.
Ольга искоса смотрела на поблескивающую струйку слюны, свисающую со старческих губ, потом рывком повернулась к старухе вся, стараясь прямо и без страха взглянуть ей в глаза, в это трухлявое, как прошлогоднее яблоко, лицо, сморщившееся вокруг шамкающего, беззубого рта, в котором только снизу, над белыми клочьями то ли плохо, то ли давно выбритой щетины, сиротливыми пеньками торчали три резца.
Да, песчаный грунт у них на погосте и вправду, можно считать, диковина, заметил Отто. Вот прошлой осенью только пришлось ему могилу Майера Лойса раскапывать, бобыля-старикашки, которого он сам же еще в пятидесятые годы в землю положил, так он, можно считать, целехонький был, и костяк тебе тут, и зубы, и волосы. В первый миг человек все гораздо больнее чувствует, вздорным голосом перебила его старуха, и удар от пули, и огонь от выстрела, что они, дурнее других были, мальчишки наши, чтобы ни с того ни с сего боль чувствовать, кабы им ничего не сделали.
Когда-то давно, вспомнилось Ольге, она смотрела в свинарнике на чавкающих хрюшек, в носу до сих пор острая вонь свиного помета, скотской мочи, а еще кислое перегарное дыхание Отто и потный дух его изнуренного работой тела. С ней всегда так: прошлое она либо чувствует как наяву, либо его словно вовсе не существует.
Зрение у нее еще хоть куда, на ноги свои цельный день смотреть может, пробурчала старуха, а больше ей все равно делать нечего.
– Она меня совсем не помнит, – сказала Ольга. – Даже не узнает.
– Все одно по большей-то части все ерунда, – проскрипела старуха и, когда Ольга встала, протянув ей руку, посмотрела на нее неожиданно ясным взглядом, руку, впрочем, в упор не замечая. Так, не попрощавшись, Ольга и направилась к двери.
Дома, в горнице, сторожиха тем временем налила стаканы и стопки очередным молебщикам. Когда Ольга вошла, она, до бровей укутавшись в платок, расположилась точно на том самом месте, где накануне вечером сидела Ольга, а за столом, где вчера Филлингер Карл беседовал с Унтерталлингаром насчет трактора и схороненных денег, теперь горбился над своей стопкой шнапса Лакнер Фридль. Ольга направилась к нему, завидев ее, Фридль неторопливо поднялся в своих войлочных, из домашней овечьей шерсти, штанах, протянул руку. Ладонь у него оказалась маленькая, но жесткая, мозолистая, в углу рта почему-то вспухла шишка, края губ обметаны черным ободком. При виде его беспомощной, смущенной улыбки Ольга догадалась, что во рту у него жевательный табак, а еще успела подумать, что ему обязательно надо снова начать рисовать, хотя бы попробовать, пусть свиней своих рисует, а может, опять раздавленного крота или свою Анну на кухне за готовкой, да и в постели. Вместо того чтобы идти в мертвецкую, она присела за стол, где в толстой зеленой кофте, прислонясь спиной к стене, замерла в неподвижности отцовская сожительница.
– Флориан там? – спросила Ольга, указывая на дверь.
Женщина вздрогнула, словно кто-то внезапно шлепнул ее по лицу пыльной тряпкой, кивнула, но не вскочила, из горницы не вышла – осталась сидеть, скрестив руки на груди и тупо уставясь перед собой. Со стороны Ольга видела лишь ее округлый профиль, рыхлые очертания лица платком будто перетянуты, пуговичка носа едва выступает, на выпуклом лбу завитком топорщатся прихваченные платком волосы. В деревне ее звали «учителевой Марией».
Тишина стояла жуткая: ни слова не говорил Лакнер, ни звука не доносилось из мертвецкой, вообще ниоткуда ничего. Лакнер, выпив свою стопку, снова сел и уставился на дверь мертвецкой. Только тут Ольга заметила, что свою зеленовато-коричневую фетровую шляпу, старую, захватанную, насквозь просоленную потом, он положил рядом с собой на скамью, выставив всем на обозрение приличных размеров лысину.
Ну, она в кухню пойдет, прокашлявшись, нарушила тишину сторожиха и, вставая, так резко отодвинула от себя кухонный стол, что одна из его ножек ткнулась Ольге в колено. Через десять минут можно есть, сказала она Ольге и, не поворачиваясь к стене мертвецкой, а глядя куда-то в середину горницы, по сути дела – на Лакнера, громко позвала:
– Флориан!
За все годы в школе Ольга никогда не видела Лакнера Фридля в общей ватаге, ему было далеко, дольше всех, идти до дому, к себе на хутор, и вообще казалось, что он всюду и во всем своей дорожкой идет, наособицу. Ольга не припомнит, чтобы он участвовал в общей драке или танцевал вместе со всеми, нет, он всегда у стенки стоял, на отшибе. Однажды, после школы, то ли в ноябрьский, то ли в декабрьский день, она пошла с ним до самого его хутора, по первоснегу – она хорошо помнит птичьи следы на этом пушисто-белом, в палец толщиной снегу. Фридлю было уже, наверно, двенадцать, если не все тринадцать, ей в любом случае на год меньше, и он что-то хотел ей показать, что-то совсем невиданное, и повел ее сразу на скотный двор, к большой, в человеческий рост, клетке крольчатника, состоявшей из четырех секций, каждая со своей сетчатой дверцей. Одну из них он открыл и сказал: «Сунь руку!» Она решила, что он кроличьим выводком ее удивить надумал, осторожно сунула руку в темное нутро, боясь внезапно наткнуться на что-то теплое, копошащееся, мягкое, но ничего такого в ящике не ощущалось. «Ты глубже, глубже!» – подбадривал ее Фридль, и она решительней пошарила рукой по укрытому сеном полу, пока не наткнулась на два торчащих кроличьих уха, холодных, окоченело выставленных. Она отдернула руку, как укушенная, тогда Фридль невозмутимо извлек из клетки черного, уже закоченевшего кролика. Этого самца, объяснил ей Фридль, ему пришлось вчера отделить от остальных, потому что он однажды уже сожрал целый выводок, иначе он, Фридль, не стал бы его одного взаперти держать, а сегодня утром, когда корм задавал, он его уже вот таким же нашел, как сейчас: в сено зарылся, холодный весь, только ушки на макушке выставил, что твои рога.
Пока Флориан аккуратно, медленно, хотя в конце концов все равно с хлопком, закрывал за собой дверь, Лакнер Фридль поднялся со скамьи, не забыв прихватить свою шляпу. Если некому гроб нести, сказал он на прощанье, пусть зовут, он безо всякого придет пособить.
Кухонный стол был уже накрыт, возле Ольгиной тарелки лежал ее детский столовый прибор, хромированный, с монограммой, которую отец специально для нее (а для Флориана уже нет) в Бриксене заказывал.
Когда сторожиха, сняв с плиты большую сковороду мяса с рисом, подавала ее на стол, алюминиевая крышка вдруг соскользнула и с грохотом заплясала по кафельным плитам. Вместо того чтобы сразу поставить сковороду на стол, сторожиха, все еще со сковородой в руке, нагнулась, пытаясь ухватить и утихомирить непослушную крышку. При этом Ольге впервые удалось подглядеть, как она улыбается – это была странная, чуть смущенная ухмылка, быть может, с перепуга. «Да она играет!» – подумалось Ольге, но сторожиха в тот же миг подхватила крышку и уже снова выглядела как всегда: все та же змеиная линия лоснящихся губ, словно гримаса отвращения, с которым ей постоянно приходится бороться, делая все из последних сил, даже через силу. А остальное лицо, вплоть до кустиков бровей – сыромятная маска напускного равнодушия, за которым ни серьезности, ни смеха, одна только скрытность, подумала Ольга, если не слабоумие, да вдобавок эти ржаво-желтые пятна на щеках.
Пока сидели за столом, сторожиха съела не больше трех-четырех кусочков, вилка с подцепленной едой надолго, иногда на минуты, зависала над тарелкой, отправить ее в рот она забывала.
Едва ли не с радостью в голосе Флориан спросил мать, помнит ли та, как отец, который вечно норовил помочь накрыть на стол или убрать со стола, тоже вот этак крышку однажды уронил в горнице и, завидев, как крышка, встав на ребро, юлой вертится по полу, неистово гаркнул, после чего шмякнул на пол еще и сковороду, а потом, большим и указательным пальцем запустив крышку, словно волчок, сам принялся плясать между ней и валяющейся сковородой, топоча ногами и руки заложив за затылок, словно испанец. После выпивки, под хмельком, он иной раз был душа-человек, заметила сторожиха и отерла рот тыльной стороной ладони. Вот только в последние годы жизнь у него была – не позавидуешь, добавила она, принимаясь убирать со стола.
Да он всегда, наверно, такой был, мысленно возразила ей Ольга, она бы с удовольствием поведала Флориану, как во времена, когда отец еще не пил, трезвым как стеклышко он ложился на пол в ее комнате и, чтобы ее потешить, изображал извивающуюся змею: вихляя всем телом, полз на пузе от порога до самой кровати. Но перед сторожихой ей почему-то не захотелось об этом рассказывать.
Когда Ольга снова вошла в мертвецкую, отец лежал уже не на досках, а в светло-коричневом лакированном гробу, который столяр доставил после обеда. Мать, рассказывал Флориан, было спереди ухватилась, хотела помочь, но Фальт на самом-то деле в одиночку гроб по лестнице втащил, мать его только направляла слегка, чтобы он в стенку или в угол не ткнулся. В комнате стоял запах древесного лака. Отцовские ступни, заметила Ольга, до изножья гроба не достают, голова до верхнего края тоже, под голову уже подсунули подушку, маленькую подушку с печной завалинки, с вывязанным еще матерью узором из виноградных листьев, он клал ее под голову, когда ложился прикорнуть часок после обеда, а в последние годы и перед обедом, чтобы окончательно проспаться с похмелья. Гробовая крышка, прислоненная к стене, стояла тут же, неподалеку, на подоконнике лежали болты. А когда крышку завинчивать, это уж ей, Ольге, решать, сказала сторожиха.
Он давно уже отцу в глаза смотреть не мог, забубнил Флориан, стоявший рядом с ней у стены, отец ведь не только в последние недели сам не свой был, причем с каждым днем все хуже и хуже. Он, Флориан, вообще не знал, как это выдержать, даже подумывал совсем из дома уйти, у отца в глазах одно презрение и полное равнодушие, никаких желаний, от него, бывало, за целый день и слова не услышишь. Он, который прежде ему, Флориану, твердил, что за себя надо стоять насмерть, зубами и когтями отбиваться, как хорь, теперь, сидя дома, только в угол пялился. А оживал лишь в трактире, в «Лилии», где не однажды на потеху остальным гостям дурачился, перед стойкой вприсядку плясал, нелепо так, с подскоками, ноги-руки в разные стороны выбрасывал, а еще, как напьется, очень часто его, Флориана, изображал и передразнивал, молча, без единого звука, ему многие потом рассказывали. Ну, на других-то ему плевать, но отца жалко, за него, за отца, ему стыдно было, ведь он был уже больной человек, а к их сельскому врачу по доброй воле так ни разу и не пошел. Хотя именно в последние недели он в отце, как ни чудно, вроде как перемену одну заметил, к лучшему, что ли, – другие-то под конец в слабоумие впадают, а у него, наоборот, как будто внезапный какой-то возврат к прошлому ощущался. Они, конечно, почти и не разговаривали друг с другом, хоть ссор между ними никаких не было: отец ведь даже в подпитии, а вернее, особенно в подпитии с ним обращался как с неполноценным человеком, но все равно он, Флориан, подметил, что отец как-то прямее ходить стал и вид у него был уже не такой обиженный, как прежде, а, наоборот, снова внушающий уважение. И когда месяц назад его из школьного департамента заказным письмом уведомили об окончательном увольнении в связи с выходом на пенсию, он вовсе не сидел, как громом пораженный. Он этого письма словно и не читал вовсе: как ни в чем не бывало, будто он по-прежнему директор школы, обходил с проверкой классы и свои уроки продолжал вести. За столом он теперь лишь изредка позволял матери налить себе стакан вина, да и тайком к бутылке перестал прикладываться, по дыханию было заметно. В «Лилии» много дней, а то и недель не показывался, отправился туда, сколько Флориан знает, только вечером накануне. Еще после обеда в тот день он ему стихи читал, в горнице, причем Пастернака. Отец ведь от своих сибирских воспоминаний все никак отделаться не мог, снова и снова про свой плен рассказывал, словно для него это не страдание было, а самая главная его радость в жизни. Но в тот раз, ни слова ни о чем таком не говоря, он просто читал стихи, одно за другим, причем трезвый как стеклышко, зато после к ужину уже не вернулся. Мать сразу же его, Флориана, отправила отца искать, вернее, сразу ему сказала, чтобы в «Лилию» заглянул, но его вдруг, впервые в жизни, какое-то недоброе предчувствие обуяло и вроде как робость, прежде совершенно неведомая; ему, кто годами за отцом шпионил, в тот вечер это показалось совершенно недопустимым, и он остался дома, хотя до «Лилии» идти-то всего два шага, и эти два шага, возможно, отцу бы жизнь спасли. Он тогда подумал – сегодня-то ему кажется, будто это скорее отговорка была, – что отцу вроде как лучше с людьми посидеть, что как раз теперь, после письма из школьного департамента, это его отвлечет. Что плохого, если он в воскресный вечер сходит в трактир, в картишки перекинется – а дело как раз в воскресенье было. Теперь про тот вечер всякое болтают, сказал Флориан, одни рассказывают, будто отец с самого начала хотел затеять свару, другие, наоборот, утверждают, что по нему сперва вообще ничего такого не было заметно – наоборот, он даже, против обыкновения, картами по столу не шмякал, когда выигрывал, а ему в тот вечер везло, он много выигрывал, практически все время в выигрыше оставался, и единственное, чего никто толком не помнит, – сколько именно литров он выиграл и выпил. Их общинный врач осмотрел отца самое позднее через час после того, как его нашли, он двоих свидетелей из «Лилии» позвал, Наца и одного из каменщиков, которого они Пепи называли. С помощью матери им пришлось отца раздеть, ну и врач в заключении о смерти написал «сердечная недостаточность». И вот тогда он, Флориан, впервые увидел, до чего отец исхудал, просто жуть, кожа да кости, кроме живота, на нем мяса вообще не осталось. Тогда никто не додумался отцу глаза прикрыть, а он, Флориан, вообще хотел, чтобы они открытыми оставались до самой последней секунды, покуда гроб крышкой не накроют. Через сорок дней после смерти, так им сказали, надо заявить в магистрат о снятии с учета.








