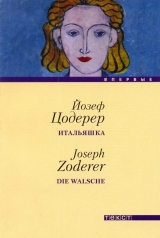
Текст книги "Итальяшка"
Автор книги: Йозеф Цодерер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
«Мы все заодно» – вот к чему все они стремились, да и другие мечтали о том же. Все они, и друзья Сильвано тоже, хотели чувствовать себя общностью, вот и надували щеки, вот и играли бицепсами на обоих языках.
Как ей хотелось выкрикнуть: «Флориан, ну почему я не чувствую горя!» Но ее братец, ее сводный полубрат, глядя куда-то поверх желтых восковых свечей, сидел с отсутствующим видом, и лицо его, которое она всегда помнила только дергающимся, оставалось чужим и неподвижным.
– Флориан, – произнесла она тихо, но все равно это прозвучало так неловко для обоих, так неуместно, что он сделал вид, будто не услышал. Только скрестил руки и еще ниже опустил голову на грудь.
Хотя бы этому человеку все высказать, поговорить по душам как с единственным нормальным здесь – да он, похоже, по сравнению с остальными, и вправду самый нормальный.
Но она только посмотрела на него и ничего не сказала, вместо этого вернулась к воспоминаниям об отцовских речах и планах – как он снова и снова вслух мечтал разом все бросить, оставить как есть и навсегда уйти куда глаза глядят из этого идиотского, отупляющего мира. А его жена, ее мать, много лет верила ему на слово, пока напрочь не утратила способность здесь хоть чему-то – а меньше всего его, отцовским, словам – верить, и, прихватив Ольгу, сама все бросила, оставила как есть и уехала, чтобы в городе, на фабрике, начать новую, свою жизнь.
Она, Ольга, взвизгнула от радости, когда поняла, что мать не оставляет ее в горах, а забирает с собой в город, где для нее наконец-то начнется жизнь или хотя бы начнется что-то другое, новое. Наконец-то стало можно просто слоняться, бродить по асфальтовым и бетонным просторам, и никто не спросит тебя, с какого ты хутора и сколько у отца голов скотины. Только теперь, постепенно, она и вправду привыкла делать что хочется, хотя поначалу ей пришлось долго учиться вообще чего-то хотеть.
Вероятно, у ее отца попросту не хватило духу признаться себе, что люди из города, да и южане, ему гораздо ближе, чем, допустим, эти скалистые стены вокруг, от которых никакой радости, кроме головокружения, но все-таки худо-бедно чувство защищенности, укрытости в каменном мешке, а значит, опоры и даже какой-никакой надежды. На похороны матери на городское кладбище он явился сторонним зрителем, за гробом шел не впереди, среди близких родственников, рядом с ней, дочерью, а вместе с материнскими подругами и товарками с фабрики, и, едва дождавшись последних слов священника, молча, не прощаясь, исчез. Это были не похороны, а позор, последнее оскорбление одиночеством и покинутостью, ведь пришедших, всех скопом, не набралось и двадцати человек. Словно кто-то решил наказать мать даже напоследок, хотя ей, должно быть, это было уже все равно, как и отцу сейчас наверняка безразлично, явится на его похороны вся деревня или только половина.
Должно быть, в последнее время, когда все его существование в горах обернулось полной безысходностью и бессмыслицей, в душе отца ничего и не осталось, кроме смутного, неосознанного стремления к самоубийству.
Это он-то, в ком с возрастом, а особливо по мере нарастающей тяги к спиртному появились униженность и раболепство, так что под конец за каждый поднесенный стакан он по многу раз кланялся и благодарил, истово твердя «Спаси Господь!», это он-то с тем большей заносчивостью и раздражительностью, готовой прорваться по любому пустяку, стал презрительно, даже брезгливо относиться ко всему итальянскому, хотя до ближайшего итальянца, начальника полиции, надо было час вниз в долину спускаться. Она сама, своими глазами видела, как в городе на почте или у окошка билетной кассы на вокзале он из принципа требовал почтовую марку или билет исключительно по-немецки и совершенно выходил из себя, если служащий-итальянец его не понимал и со словами «io non parlo tedesco» [6]6
Я не говорю по-немецки (ит.).
[Закрыть]подзывал сотрудника, способного объясниться по-немецки.
Этот человек, выросший среди чужих и привыкший в себе самом видеть чужака, с годами все нетерпимее восставал против всего чужого и чуждого. Этот, можно сказать, прирожденный чужак – тут она чуть не засмеялась, – с одной стороны, то и дело проповедовал уход в дальние страны, с другой же – ни о чем так страстно не мечтал, как быть вместе и заодно с местными, своим среди своих, но неизменно и до последнего часа, как никто другой во всей округе, так и оставался для земляков и соседей чужаком, белой вороной.
Ольга ощутила странную тоску, оттого что не в силах просто обнять Флориана, пожалеть, приласкать и погладить, как погладила бы плешивую отцовскую псину. Да и как расскажешь ему то, что она видела своими глазами: как отец, будто аршин проглотил, чопорный и напыщенный до смешного, вместе с ней и Сильвано через церковную площадь направляется в трактир «Лилия», а у самого поджилки трясутся от страха и вид неприкаянный и жалкий, будто он и не человек вовсе, а дерьмо собачье. У отца, когда она вместе с Сильвано приезжала его навещать, было как будто два лица: одно обрадовано-опешившее и заискивающе-преданное, как у собаки, и второе, когда он отправлялся с Сильвано в трактир, – вот эта напускная, отталкивающе-неприязненная вежливость.
– Он наверняка чувствовал себя приспешником итальяшек, когда дал мне денег бар обустроить, – вдруг сказала она.
Она глянула на Флориана, этого мальчонку, которого школьная сторожиха и уборщица прижила с отцом уже годы спустя после материнского отъезда, и только сейчас заметила, что и у него, как у отца, белокурые волосы наполовину закрывают уши. А он, почти не шепелявя и даже не дернувшись, только и спросил:
– Почему? – И тут же повторил: – Почему?
Но Ольга не ответила, она смотрела на светлый прямоугольник на стене, оставшийся на месте вынесенного шкафа, потом перевела глаза в угол, где между оконной стеной и шкафом была ниша, в которой она частенько пряталась, усадив перед собой на зеленый в крапинку линолеум пола любимую плюшевую кошечку, которую укрывала носовым платком. За дверью, в горнице, слышны были шаги матери. А когда была еще совсем маленькая, любила прокрадываться сюда, в родительскую спальню, по воскресеньям после обеда, и, юркнув к отцу под одеяло, слушать отцовский храп.
Как же недостижимо далеко осталась та маленькая Ольга! И внезапно ее со всею остротой пронзило осознание отцовской кончины. Она смотрела на серые вязаные носки, в которые упрятаны отцовские ступни, на эти неугомонные ноги вечного колоброда, теперь торчавшие из-под простыни с какой-то укоризненной неподвижностью. Все, почти все, по чему бродили, обо что спотыкались эти ноги, для нее теперь стало другим, если вовсе не умерло.
Она отодвинула стул и задула свечи, хоть Флориан и вскрикнул:
– Нет, нет, пускай горят!
И, наклонившись над отцовским челом и выпятив губы для прощального поцелуя, ощутила необычную тяжесть во всем теле. Она вспомнила, как фотографировала отца в шахматной комнате их бара рука об руку с Сильвано. Раза два, а может, и больше он приезжал их там навещать. И сейчас, решительно натянув простыню на отцовское лицо, она пожалела, что не может сфотографировать его еще раз. А отцовское тело она и вовсе забыла.
– Иди спать, – бросила она Флориану, который напоследок решил обойти вокруг отцовского одра и двинулся, при каждом натужном шаге приволакивая ноги и судорожно дергая руками. Эта вихлявая замедленная походка и дергающиеся руки, в такт которым все лицо перекашивалось гримасами, заведомо и всегда делали его вечным нарушителем покоя, превращая в источник тревоги для окружающих.
Она погасила свет в горнице. Обивка стен, эти панели светлого дерева, действовали на нее угнетающе. В темноте на нее разом навалились все истории, которые отец здесь, в этой комнате, ей читал или рассказывал. Больше всего хотелось сейчас оказаться внизу, у Сильвано, вдохнуть перед распахнутым окном теплый воздух улицы, услышать, как взревет за углом мотор машины, или еще какой-нибудь самый обычный уличный шум, пьянящий голову дурманом свободы.
В комнатке, своей детской, она разделась и критически оглядела свою наготу, прежде всего живот. Как-никак тридцать пять уже, но на пузо и намека нет. Довольная, ущипнула себя за ляжку.
От простыней и одеяла веяло холодом и затхлостью. Пряди волос щекотали щеку, чтобы поскорее согреться, она обхватила плечи руками. «Не хочу ни о чем вспоминать». Через три дня она снова будет стоять за стойкой, разливать и подавать.
Утро встретило ее белесым, тускловатым небом, с разнообразными оттенками серого цвета и парочкой темных, словно от куриного помета, разводов. Из окна своей комнатенки Ольга увидела заросли бурьяна вдоль дощатого забора, за забором луг до самой рощи, подернутой дымкой первой, едва раскрывшейся зелени.
Заметив на подоконнике гусеницу-уховертку, машинально раздавила ее ногтем, и тут же ей вспомнился мертвый отец, она видела его то ли во сне, то ли наяву, когда уже почти проснулась: беспомощный, жалкий, он стоит возле своей кровати, и его подштанники, как всегда, бесформенно болтаются на тощих ногах, пока он влезает в халат, она – еще девчушка лет пяти – хочет юркнуть в теплую отцовскую постель, но он уже ни о чем, кроме своего кофе, думать не может. Завтрак – это для него было святое, первый глоток утреннего кофе, лишь после этого глотка у него находилось время и на нее, дочурку: щекотал под подбородком и за ушком, ласково теребил волосы. Утром его можно было заинтересовать чем угодно, даже плюшевой кошечкой.
Иногда, причем всегда улучив самую неожиданную секунду, он вдруг сгребал Ольгу в охапку и с лукавой миной победителя подбрасывал в воздух, чтобы тут же уверенно поймать. Она еще увидит, какая прекрасная у них будет жизнь, говорил он. И она радовалась этому его уверенному голосу, заранее восхищаясь всем, что он, ее папа, однажды совершит и кем однажды станет, и как все разом вокруг переменится, когда все увидят и поймут, каков он в самом деле.
Да, когда-то и он спины не гнул, но, чтобы с годами от тяжести не переломиться, мало-помалу ссутулился и стал ходить согнувшись, как большинство людей на свете. Беда только, что большинству распрямиться было уже не дано, настолько окостенели они в своей понурости. А вот отец – он мог, ни с того ни с сего тщательно зашнуровав ботинки, вдруг пойти в трактир с высоко поднятой головой.
Отступив от окна, она вслепую нашарила на полу свои туфли на шпильках и, все так же вслепую, влезла в них и для пущей уверенности даже слегка попрыгала, чтобы как следует наделись. В доме не слышно было ни звука, и ее это радовало. Флориана будить ни к чему, с какой стати. Порывшись в дорожной сумке, она извлекла оттуда халатик, алый и пушистый, и как можно туже затянула поясок.
Так, в халатике, она и присела на ближайший к дверям стул в мертвецкой, пропахшей палеными свечными фитилями, стеарином и воском. Оказывается, вчера, когда она накрыла отца простыней, одна седая прядка успела выбиться наружу. Глядя на серые нейлоновые носки, подумала: «Может, еще мама покупала». А теперь вот его накроют крышкой, вобьют в крышку гвозди и закопают, раз и навсегда.
– Тут уж ничего не попишешь, – проговорила она и, отвернувшись от нейлоновых носков, вышла вон.
Ей только-только шестнадцать сравнялось, когда она попала в город. Стены торгового училища, что за плотиной, по низу, примерно по плечо, были выкрашены в голубой цвет, а выше сияли ослепительной, лаково-глянцевой белизной. Сильвано объявился на ее горизонте лишь много позже. Как-то раз она сошла с крыльца прямо под хлещущий ливень и, без зонтика, покрепче обхватив стопку учебников, стянутую резинкой, побежала к плотине. Внизу, покачиваясь в такт шагам, проплывали голые кроны декоративных деревьев, только на магнолиях уже вовсю набухали пухлые почки, и сквозь переплетение голых ветвей, словно сквозь сетку от мошкары, видны были гладкие серые камни в ложе реки.
Хождение по главной улице – все равно что бесконечное путешествие в неведомые, впервые открываемые края: даже когда витрины не обновлялись, все здесь оставалось чуждо-диковинным и в то же время приятно близким. Вот сейчас, нежданно-негаданно, кто-нибудь ее окликнет: «Ольга!» Иногда она до самого вечера просиживала в кино – в «Корсо» или в «Риме».
В ту пору она еще регулярно, не реже двух раз в месяц, на почтовом автобусе ездила наверх, к отцу, и все еще в уме что-то прикидывала и сравнивала, в глубине души, вопреки всякому разуму, что-то еще привязывало ее тогда к родным местам, – так оно потом там, наверху, и осталось.
Да и красиво было, аж дух захватывало, когда автобус, взбираясь по серпантину шоссе все выше и выше, примерно на полпути вгрызался, наконец, в полосу тумана, клочьями застрявшего в соснах, и по оконным стеклам медленно, словно мухи, начинали оползать тяжелые дождевые капли. Ей почему-то особенно хорошо запомнился этот призрачный, бесплотный, без вкуса и запаха туман: должно быть, потому, что и все вещи в родительском доме – стол в горнице, плита, ее кофейная кружка, ее кровать в детской – тоже как будто лишились запахов, окружавших ее прежде, когда она здесь жила и была своей. А теперь, когда среди этих вещей невозможно стало спрятаться и схорониться, они словно отступили от нее, сделались чужими, и ей уже не хотелось брать их в руки, касаться их или нюхать, и чем больше она внутренне от них отстранялась, тем неприступнее становился для нее весь быт в доме сельского учителя и тем нестерпимее резали слух отцовское брюзжание и особенно отцовский крик – ведь прежде он никогда на нее не орал. Она смотрела на его рот, заглядывала в глаза, которые, словно живя своей, отдельной от раздернутых криком губ жизнью, изучали и как будто расспрашивали ее с жадным, но и боязливым любопытством. И никогда, ни разу он так и не спросил о матери, о той, на кого орал прежде, обрушивая на нее все свое ожесточение, а под конец и безысходное отчаяние: ведь она как никто другой знала, чего ему надо, и лучше, чем кто-либо другой, могла и должна была понимать причины его крика. Этот его истерический крик до сих пор стоит у Ольги в ушах нестерпимой пыткой, хоть она и понимала: это крик от гнева, но не со зла. Чем чаще и чем неистовей принимался он орать из-за любой ерунды, чем громче и дольше продолжались его приступы ярости, тем понятней становилось, что истошными воплями он норовит перекричать и заглушить стыд собственной никчемности – ведь такой человек, как он, непременно и всегда хотел быть хорошим, даже изводясь от отчаяния при мысли, насколько он далек от желаемого и насколько мало тут одного хотения. Да, он был неисправим, но злым не был – даже когда, словно в сомнамбулическом трансе, ронял на кухонный пол склянку с огурцами или банку с вареньем, им двигала вовсе не злость и тем более не злоба. И тем не менее, при всей неистовой жажде любви, она всегда чувствовала в нем какую-то бессердечность, а при всех бесконечных разглагольствованиях о разуме – какое-то упрямое, детское неразумие.
Он с самого начала принял Сильвано в штыки, был вообще против того, чтобы она жила в городе, а уж тем паче жила в городе с итальянцем, а уж тем паче держала на пару с этим итальянцем бар. Он перечил ей во всем, ни на секунду не соглашаясь признать свое прозябание здесь, наверху, несчастьем и ошибкой, пядь за пядью он отстаивал это свое призрачное, бессмысленное, непутевое житье-бытье, ради которого ему пришлось себя через колено переломить и угробить, – он оборонял все это с яростью старого больного пса, иногда, из последних сил, кидаясь на своих обидчиков. Разумеется, он ничего против нее, родной дочери, не предпринял, наоборот, в трудную минуту даже поддержал деньгами и финансовым поручительством. Однако семейной идиллии между ними не было никогда, скорее, напротив, постоянная мука и для него, и для нее.
Но стыдиться он из-за этого вряд ли стыдился. Выйдя из школьных ворот, она сразу же ощутила под тонкими подошвами туфель жиденький, почти напрочь заросший травой гравий и сразу вспомнила, что настоящей дороги здесь нет, вернее, дорога именно здесь, возле школы, начинается и кончается – отсюда она сбегает вниз в долину и, образовав нечто вроде длинного раскрытого мешка, петлей приползает обратно в деревню. В раскрытой горловине мешка большим ломтем застряла главная деревенская площадь, а на ней – церковь, кладбище, школа. В центре площади, перед трактиром «Лилия» и магазином самообслуживания, раскидистый клен, высаженный, если верить старожилам, еще в честь Муссолини, гостеприимно предлагал любому прохожему передохнуть под своей сенью. При виде нескольких женщин, что направлялись мимо клена ей навстречу, Ольге захотелось прислониться к невысокой кладбищенской стене и, дождавшись бывших землячек, что торопились к утренней мессе, посмотреть на каждую в упор, глаза в глаза, ее так и подмывало это сделать, но прихожанки, не дойдя до стены несколько шагов, все, как одна, спешили войти в открытые двери храма, отворачивая от нее лица.
В магазине самообслуживания, куда она чуть ли не каждый день бегала по поручению матери купить то муки и стирального порошка, то вермишели и пуговиц, то обувные шнурки и гуталина и где потом, на скопленные деньги, приобрела себе первые в жизни шелковые чулки, по-прежнему сидела Агнес, что выскочила замуж за Франца, арендатора магазина и владельца горнолыжного подъемника, все такая же белокурая и такая же тощая, и не сводила с Ольги глаз, пока та расплачивалась за пакет молока у кассы. В свое время Ольга ужасно завидовала ее окулярам – Агнес, единственная из девчонок во всей деревне, носила очки, настоящие, с огромными желтовато-коричневыми стеклами, и считалась в «Лилии» самой красивой официанткой. Казалось, все лицо ее только этими стеклами и одухотворено, и это возвышало ее над остальными, в очках она являла собой нечто особенное, не чета остальным, в том числе и ей, Ольге, не чета.
– A-а, жизнь все равно ни к черту, – протянула Агнес, собирая со столика возле кассы мелочь, которую Ольга туда положила, не рискнув сунуть монетки в протянутую чуть ли не прямо ей в лицо горсть. – Старикам уже все безразлично, от смерти все равно никуда не денешься, а молодым и вовсе ни до чего дела нету. Как пятница, так обязательно вечером или ночью кто-нибудь в поворот не впишется на своей колымаге, за которую кредит и наполовину не выплачен. А у Эггерхофов младшая девчонка и вовсе безо всякой болезни, без всякого несчастного случая как-то утром взяла и померла: вошли к ней, а она и не дышит.
И хотя Агнес уже порядком за сорок, на ее гладком лице почти не видно морщин, и белокурые волосы наверняка свои, некрашеные. И по-прежнему вечно приоткрытый рот, как у карпа.
– Старика Визера, – продолжала докладывать Агнес, – свои же в лесу нашли, с голоду помер, до этого несколько месяцев, говорят, почти ничего не ел, аппетита не было.
Миновав сперва клен на площади, потом трактир «Лилия» (очередной сарай), Ольга свернула на луговой проселок, и капли росы тотчас же окропили мыски туфель, да и внутри даже сквозь нейлоновые чулки она мгновенно ощутила влагу. Поеживаясь в своем замшевом пальтеце, она стояла на почти сплошь заросшей тропке, по обе стороны которой сочная, свежая, весенняя мурава зеленым ковром сбегала к змеистой ленте Церковного ручья, до серой, крапчатой стены береговых зарослей ивняка, ольшаника, молоденьких березок. Но вместо журчания воды она услышала только тарахтение бетономешалки со стройки да настырный рокот подъемного крана, что по другую сторону ручья деловито разворачивал свою стрелу вверх по-над склоном. Повернув обратно к площади, она споткнулась о кусок бетона, перерезанный полосками ржавых следов арматуры.
Зайдя в «Лилию», она попросила Наца пропустить ей кофе с молоком через машину «Эспрессо» и теперь прихлебывала его у стойки среди каменщиков и разнорабочих, зашедших выпить первое за день пиво или стаканчик красненького. Между забрызганных шпатлевкой лиц она различила Филлингера, да и остальные физиономии тоже не показались ей совсем уж незнакомыми. Она кожей ощутила на себе их взгляды, косые, осторожные, исподтишка. Когда вошла, одни, как ни в чем не бывало, не прервали разговор, другие не прервали молчания, и стоявший в трактире негромкий ропот она решила счесть их общим дружным приветствием в свой адрес. У Филлингера Карла рожа была красная, почти как вино в его стакане. Завидев ее, он только слегка приподнял левый ус, как бы давая понять, что обещает хранить нейтралитет. Пожалуй, сама того не желая, она коснулась локтем его рукава, на нем был пиджак, когда-то воскресный, а теперь разжалованный в спецовку, весь перепачканный известью и краской.
Нет, не в этом и не в каком-либо ином трактире в деревне, а всегда где-то на стороне, в соседних деревнях и селах ей чуть не каждый субботний вечер и каждое воскресенье приходилось наблюдать драки, начинавшиеся обычно как под копирку: какому-нибудь пожилому батраку у стойки, подкравшись сзади, натягивали на голову его же собственную хламиду, и, пока бедолага, путаясь в ней и крутясь в поисках обидчиков и собственного пива, тыркался в разные стороны, кто-нибудь успевал заехать ему кулаком в рожу – ну, и пошло-поехало. И когда кто-нибудь из пришлых решал за ней приударить – что на празднике пожарных, что на танцульках, что у них в деревне, что в любой из соседних, – ей опять приходилось смотреть, и она смотрела, как парни в кровь квасят себе пьяные морды, Ханс из Хильберхофа, чтобы за ней приударить, и Исидор из Теллерхофа, чтобы за ней приударить, и Мартин из Моарамвега туда же. Гром духового оркестра и мокрые от пота щеки, которыми они к ней прижимались, и сивушный дух от каждого, и эти окосевшие от пьянки глаза с дурной, бешеной поволокой. Иногда, лишь бы в эти глаза не глядеть, она сама прижималась щекой к чужому лицу, чувствуя сквозь юбку похотливые, все более нахрапистые прикосновения чужих пальцев. Зато не запомнилось ни единого слова, ни одной путной, осмысленной фразы, пьяное бормотание – это да, сколько угодно, и тисканье, прежде всего это пыхтящее тисканье, когда тебя, сопя и раскорячив ноги, таскают взад-вперед по танцплощадке, жадно лапая под музыку.
Вот она и взвизгнула, себя не помня от радости, когда мать и ее пожитки тоже запаковала, не стала ее тут оставлять, а взяла с собой в город, в съемную комнатенку с видом на текстильную фабрику и кусочек протекающей по городу реки. На фабрике мать медленно, но верно урабатывалась насмерть, и уработалась на самом деле довольно скоро, только она, дочка, материнских стонов по утрам и вечерам почти не слушала. Главное – отключиться, в городе она очень быстро научилась отключаться. И хотя по первости ну совсем ничего привычного вокруг не было, для нее эта утрата привычного обернулась только новизной: она радовалась, что может теперь беспрепятственно бродить по бетонному и кирпичному приволью.
В первое время, когда она приезжала, отец только и знал, что ее баловать, он буквально изводил ее своей привязчивой любовью и, главное, своим все более и более гнетущим безмолвием, когда сидел и молча слушал все, что она, хоть никто ее об этом не просил, рассказывает о матери. И с каждым разом все противнее, все сильнее от него несло винищем. Все немногословнее, а под конец и вовсе немыми, становились их совместные прогулки, которые, по правде говоря, она и раньше никогда не любила: вечно одни и те же поля, луга, лесные просеки, вечно одни и те же соседи, с которыми надо поздороваться, постоять, потолковать о погоде.
Непредсказуемо коварным, необозримым и страшным показался поначалу ей город, но все равно он был прекрасен. Люди здесь друг друга не знали, даже не здоровались. Прямо посреди улицы у нее на глазах человек с лампой во лбу отодвинул чугунную крышку и сгинул в черной дыре, а возле люка двое его товарищей в высоченных резиновых сапожищах как ни в чем не бывало продолжали курить. В мясной лавке, когда она покупала то ли сто, то ли пятьдесят граммов колбасы, две итальянки потребовали отрезать себе по кусочку от каждого сорта развешанных окороков, и молоденький помощник продавца, торопясь выполнить их заказ, от усердия и по недогляду отхватил себе лоскуток кожи с большого пальца широченным мясницким ножом, что соскользнул с косточки оковалка. А парнишка даже не заметил и, заворачивая ей колбасу, положил глянцевую бумагу прямо на кровавые кляксы, которые потом небрежно стер с прилавка рукавом. В одном из окон ей махнула седая старуха с морщинистым, но совершенно младенческим лицом, ярко-розовый халат, в широко распахнутом вороте которого торчала тощая и дряблая старушечья шея, придавал ей что-то мертвецкое. Ольга смотрела, как, откинув одну из секций дощатого настила над мраморной чашей бассейна, торговка в белом пуловере и белом фартуке коротким подсачником ловко выуживает из воды форель, бросает на прилавок и, мгновенно запустив пальцы под жабры, одним точным движением усыпляет трепещущую рыбу. Совсем рядом, в соседнем переулке, стояла францисканская церковь, где, спустившись по низким ступенькам, ты оказывался перед несметным множеством свечей, зыбко мерцающих в изножье каменной лежачей статуи какого-то мертвеца – то ли святого, то ли святой, может, даже и Богоматери. Ольге казалось, такую прорву воска и фитилей можно переводить только ради Богородицы этого мира, Богородицы асфальтовых улиц и плиточных тротуаров – наверно, около этой церкви и ступать надо с особой осторожностью. Но, выйдя на улицу, она никакого особого почтения в прохожих не замечала и шла как все.
Повсюду были гостеприимно распахнутые двери баров и ресторанов, она видела за ними пеструю чехарду людских рук и ног, вытянутых и согнутых на все лады. Мужчины обычно восседали у бара, спиной к стойке, лицом к улице – кто оживленно жестикулируя, кто неподвижно застыв с бокалом в руке, они глазели на прохожих, как из аквариума, а один несколько раз игриво ей подмигнул, словно догадываясь, до чего ей все там, внутри, любопытно. Иногда ей казалось, что прямо у нее за спиной кто-то вдруг громко рыгнул, она испуганно сворачивала в первый попавшийся закоулок, темными подворотнями неслась по узким, темным, без окон, проходным дворам, нередко утыкаясь в конце двора в двери мужского туалета. За памятником победы она проходила мимо припаркованной машины, внутри сидел мужчина и читал газету, но, только пройдя мимо, она осознавала: на раскрытую газету он выложил все свое мужское хозяйство. За витринным стеклом цветочного магазина она углядела подвешенный венок из цветков бессмертника и хлебных колосьев – впервые она видела, чтобы колосья собирали не для еды, а для украшения.
Небо здесь всегда казалось ей дымчато-синим и как будто угарным, руку протяни – и тотчас согреешься ровным теплом, исходящим от него, словно от кухонной плиты. На фоне этого неба, на фронтоне одного из зданий, ей бросилась в глаза золотисто-голубая извивающаяся змея. Она ползла над окнами верхних этажей, а Ольга, застыв на тротуаре и раскрыв рот от изумления, пыталась то ли свистнуть, то ли дунуть, как будто всерьез рассчитывая таким образом прогнать змеюку.
В одном из проулков она хотела поскорей пройти мимо какого-то пьяницы, но тот, отделившись от стены и оказавшись настоящим верзилой, приплясывая и размахивая уже почти пустой двухлитровой бутылью, преградил ей дорогу. Он что-то радостно пел и протягивал ей бутылку, вино в которой почему-то напомнило ей детскую кровь. В дверях бара элегантно одетый господин небрежно положил руку на плечо полицейскому в белом мундире и, продолжая дружески его уговаривать, ласково втолкнул в заведение. На берегу реки установили карусель, девчушка, как ей казалось, лет восьми-девяти, не больше, с ярко накрашенными губками сидела в окошке кассы и спокойно продавала билеты.
Тогда, в первые дни, она носилась по всему городу, как угорелая, в жадных поисках все новых и новых неожиданностей. Многое из того, что поражало ее тогда, она позже просто перестала замечать, хотя оно никуда не исчезло. А в первые дни она, например, частенько ходила на вокзал, подолгу стояла на перроне возле поезда или пристраивалась в очередь к одному из окошек билетной кассы, слушала объявления из репродукторов про время отправления и прибытия, про опоздания пассажирских и курьерских, объявления безупречные и четкие по-итальянски, а по-немецки – до смешного, будто нарочно исковерканные.
Во дворе больницы прямо перед главным корпусом, дотягиваясь до окон третьего этажа, росла тощая пальма с длинными, как птичьи клювы, острыми листьями. Ольга часто ходила на нее посмотреть, наверно, оттого, что отец любил повторять: как пальму увидишь – считай, ты на юге.
Днем, когда мать была на фабрике, Ольга иногда обедала на втором этаже в дешевом пансионе около овощного рынка. Поднималась по каменным, стоптанным посередке ступеням широкой, темной и холодной лестницы. Толкнув кончиками пальцев матовую стеклянную дверь и ощутив жадными ноздрями влажный аромат спагетти, она спрашивала себя: интересно, кто сегодня окажется со мной рядом. Зал столовой был тесно заставлен квадратными столиками под белыми, вечно заляпанными скатерками, на столах матерчатые салфетки, которые полагалось приносить с собой, или бумажные – эти стояли колпачками. Оказавшийся ее соседом старикан из Гроссензасса, обсуждавший со своим сыном, которому тоже было уже за сорок, права постояльцев пансиона, задавая вопрос, всякий раз вынимал из уха вату и в ожидании ответа склонялся к ней, хотя она ничего говорить не собиралась. Но он, опершись подушечкой ладони о кант стола и зажав ушную вату между большим и указательным пальцем чуть ли не над ее тарелкой, продолжал напряженно вслушиваться.
А больше всего она любила стоять возле кабинок телефонов-автоматов и наблюдать за звонящими: как те за стеклянными дверцами жестикулируют, от волнения даже норовят расхаживать, крутят в руках телефонной шнур, закатывают глаза и хохочут, прижимая к уху массивную черную трубку, или кричат, или сгибаются, словно у них живот схватило, и начинают вдруг что-то страстно в трубку шептать, бросая вдаль, в сторону незримого собеседника, заговорщические взгляды. Однажды какой-то мужчина, распахнув дверь кабинки, вышел из автомата весь в слезах, стоя на тротуаре, отер лицо рукой и вдруг, встретившись с ней глазами, ей улыбнулся. Ее, кстати, то и дело приглашали на чашечку кофе, «синьорина! синьорина!», а парень-мотоциклист, около нее притормозивший, когда она сказала ему «grazi!», вдруг показал ей язык.
Не прошло и нескольких недель, как главная улица, этот узенький, всего каких-нибудь пять метров в ширину, променад от овощного рынка до моста, с его какофонией запахов, где ароматы парфюмерного салона перемешивались с колбасно-куриным чадом жаровен и острой вонью сырной лавки, винно-сивушной волной из кабаков и нафталинной дезинфекцией из магазинов тканей, – эта главная улица от последней забегаловки до выставляемого на тротуар голубого, из жести, рекламного плаката медикаментов «Монастырская мелисса» была знакома ей вдоль и поперек, ничуть не хуже родимой деревенской площади с трактиром «Лилия». Уже вскоре она чувствовала себя здесь как дома, даже различала в уличной толпе знакомые лица, потому-то и испугалась от неожиданности, когда супружеская чета по-итальянски спросила у нее, как пройти к монументу победы. Впрочем, показать дорогу простым взмахом руки в сторону моста было делом совсем нетрудным, этот высоченный комод с двумя широко расставленными ногами торчал за мостом на другом берегу реки у всех на виду, она уже не однажды успела подумать, что победа одних, в честь которой он воздвигнут, для других означает поражение, и она, Ольга, как раз к этим другим относится, к побежденным, и вообще, почему обязательно люди должны делиться на победителей и побежденных и с какой стати в честь победителей, еще до войны, на той стороне реки возвели памятник, целый храм с белыми колоннами, украшенный зачем-то связками прутьев, из которых торчат топоры. Во всей округе ничто и близко не могло сравниться с этим памятником, но лишь годы спустя, когда его от самых нижних ступеней опоясали высоким железным забором, да еще и сигнализацию провели, она поняла, почему этот монумент торчал у всех как бельмо на глазу, застя куда более живописные окружающие виды.








