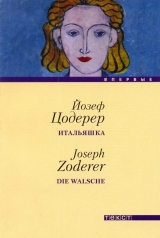
Текст книги "Итальяшка"
Автор книги: Йозеф Цодерер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Ель, – произнесла Ольга. Или что он там сочтет нужным. Ель или сосну. А размеры он, наверно, и без нее знает.
Да уж, рост своего учителя он как-нибудь помнит, сказал Фальт, а в ширину его никогда особо не разносило. Так что мерку снимать не нужно, и время еще холодное, но все-таки, заметил он, если она не возражает, он на всякий случай нейлоновую пленку проложит, раньше-то просто золу сыпали, а еще лучше – опилки, толстый слой опилок, и ни в жизнь ничего не случится.
– Золу, – сказала Ольга. Пусть из своей печки золы наберет и в гроб насыплет.
– Только не зола! – запротестовал Флориан. – Пластик!
И повторил несколько раз «Пластик! Пластик!», как будто иначе, чем канючаньем, от нее ничего не добьешься, и Ольга кивнула Фальту – дескать, ладно, пусть проложит гроб пластиковой пленкой. Ей казалось, она поняла Флориана: ведь не хочет же она, в самом деле, портить выходной отцовский костюм – что опилками, что золой.
Хоть она сама видела, сама слышала, как отец орал на мать: «Помолчи, что ты в этом смыслишь!», как он, можно сказать, ноги об нее вытирал: «Мне бы твои мозги, чтобы отродясь не думать и горя не знать!», Ольга твердо знала, что жену свою – пусть на свой лад, пусть даже каким-то постыдным для себя образом – он все равно любил. На ней, старшей дочке с Фурклеровского хутора – отличный хутор с дивными, ровными, что твой стол, лугами – он, вернувшись с войны, женился с ходу, хотя, может, до того они и успели парочкой полевых писем обменяться, кто знает. Не будь отец из бывших фронтовиков, ему бы в послевоенной нищете да разрухе разве что батраком горбиться, он бы тогда смотрел на Марианну снизу вверх, как на хозяйку, а так он учителем стал, то бишь после священника первым выучившимся, образованным человеком во всей деревне. И мать, видимо, была для него на все времена доказательством и порукой, что он здесь не чужой, что здесь его место, что он чего-то стоит. Разумеется, мать им гордилась, даже страданиями его гордилась и любила рассказывать, как он в плену на каком-то полустанке в Сибири грузил вагоны и тайком муку, полузамерзшую муку из дырки в мешке выковыривал и в рот отправлял да по карманам рассовывал, а мука к бороде коркой примерзла, часовые и заметили, ну и все, с погрузкой вагонов было покончено, и отправили его на перевозку леса, это его-то, с детства слабака и доходягу. Ольге хорошо помнится молчание, даже безмолвие, сопровождавшее жизнь отца с матерью: вечно порознь, она на кухне, он у себя в классной комнате, потом в трактире. Да, он женился на дочке Фурклеров, но в его жизни, в мире вокруг него все осталось как прежде. Только уверенность появилась, гарантия, что из школы его теперь не выставят под предлогом, что он не местный. Это единственное, чего ему теперь здесь сказать не могли. И ради этого он торчал, прозябал здесь всю жизнь.
– Этих предстоящих дней мне не пережить! – сказала она. Внизу, в городе, подле Сильвано, она подумала не так, а гораздо проще: «Я этого не выдержу!» Казалось, тоска и скука приобретают здесь запах, и запах этот постепенно заполняет окружающую пустоту, превращаясь в нестерпимую вонь. «Мне нехорошо», – говорила она Сильвано, ложась на кровать, и лежала, глубоко дыша, десять, двадцать минут, а то и больше, совершенно неподвижно, закрыв глаза и чувствуя, как мускулы плотно закрытых век начинают подрагивать от напряжения. Потом кое-как поднималась, садилась на стул. Это ужасно трудно – часами ни о чем, нарочно ни о чем не думать; иной раз она начисто не помнила, чем была занята полдня, а то и весь день, помимо того, что просто существовала – ела, пила, спала.
Чтобы хоть как-то почувствовать себя живой, иногда садилась на корточки и, слегка раскачиваясь взад-вперед, чтобы не затекали ступни, резко сбрасывала щеколду, распахивала печную дверцу и смотрела в серо-черное жерло топки. Ржавые гвозди в золе, приятно было чувствовать их между пальцами, как и мучнистую мягкость самой золы. Когда они с Сильвано, спиной к спине, отвернувшись друг от друга, лежали вместе, она, бывало, думала, что и несчастье отца, и ее жизнь с Сильвано – все это, наверно, можно считать и счастьем, просто они об этом не знают.
Они рассказывали друг другу всякую ерунду, например: что, если бы в их спальне вовсе не было окон и они бы в такой темной комнате жили, не ведая ни голода, ни жажды, ради одной-единственной цели, одной задачи – непрерывно думать друг о друге и ни о чем больше, а еще – само это непрерывное раздумье в себе ощущать.
Когда отец начинал выговаривать матери, негромко, но все яростней и быстрей, Ольга неизменно наблюдала оцепенение, тенью расползающееся по материнскому лицу сверху вниз, со лба к губам, которые так и замирали приоткрытыми, беспомощно выставив напоказ кончики резцов. Даже когда он на мать орал – и то было лучше, хотя Ольга и не могла бы объяснить почему. Она просто кожей ощущала это растущее оцепенение матери, которое распространялось по всему телу от головы до пят.
С другой стороны, отец всегда и всюду, даже во хмелю, на лестнице ли, в комнате, в коридоре, неизменно пропускал мать вперед. Она, Ольга, не раз этой его подчеркнутой вежливостью пользовалась, успевая первой прошмыгнуть в распахнутую перед матерью дверь.
Он убирал в горнице со стола, относил на кухню кофейные чашки, самый этот проход из горницы на кухню, из кухни в горницу, который он столь торжественно проделывал – кувшин с водой в одной руке, сковородка с омлетом в другой, – ему вообще ужасно нравился.
Нередко ей казалось, что отцу, по-видимому, просто не хватило в жизни близости, нормального, кожей осязаемого человеческого тепла, тепла прикосновений – ведь что до вещей, то он обожал их трогать, брать в руки, а иной раз и потискать. Зато соприкосновений с людьми он, похоже, боялся, испытывал перед ними чуть ли не панический страх – а может, наоборот, слишком долго и истово себя сдерживал? Как бы там ни было, но всякой телесной близости он избегал, словно соблазна, чреватого опасной переменой, и неспроста, должно быть, в минуты досады восклицал: «Ну прямо хоть из кожи вон лезь!»
А больше всего ей хотелось, чтобы с ними жили еще какие-нибудь, совсем другие люди и отец говорил бы с ними, как говорит с ней, – чтобы, по крайней мере, противоположный от нее конец стола не зиял такой дырой и не приходилось бы ей оставаться одной между отцом и матерью.
За столом отец очень любил раздавать еду, разливать суп, раскладывать гарнир, за завтраком разливать по чашкам кофе, с удовольствием разрезал мясо у нее на тарелке – будь его воля, он бы и для матери мясо на кусочки резал. Ольга разглядывала древесные узоры на стене над головой отца, смеяться не разрешалось, за едой отец не терпел никаких посторонних отвлечений и с сосредоточенным видом, словно исполняя ответственное задание, жевал. А мать сидела рядом и, казалось, мучительно пыталась припомнить нечто произошедшее с ней не вполне осознанно и помимо ее воли. Словно в подтверждение этого ее чувства на столе и вправду вечно чего-то не оказывалось – то солонку забывали поставить, то кувшин с водой, то ножа недоставало, то половника, и отец, недовольно бурча, иногда даже вставал и сам топал на кухню, но обычно мать его опережала.
Спускаясь лугами вниз, словно в горловину забытья, они с Флорианом все больше повергали друг друга в смущение, ибо шли, не говоря ни слова. Однако не успела она толком это осознать, как Флориан тут же прервал молчание, предложив завернуть к Ланерше, вдове с хутора Ланеров, она ведь слепая, нехорошо будет, ежели она одна, без провожатых, к школе пойдет, а он не знает, дочка ее, Фрида, дома или нет, чтобы отвести мать на поминальную молитву.
Слепая Ланерша сидела на кухне на стуле перед нетопленой печкой, всем прямым незрячим туловищем подавшись в сторону двери, откуда, еще с крыльца, Флориан ее окликнул.
– A-а, пацаненок учительский, – негромко буркнула она себе под нос, куда-то в лоснящийся от жира передник, – Флориан.
Флориан спросил, дома ли Фрида. Слепая в ответ молча отодвинула стул, блеснула заляпанными солнечными очками и неожиданно уверенно двинулась из кухни в сени – Ольга успела заметить, как она мимоходом проводит ладонью по стене, – а потом, наконец, ответила, мол, да, Фрида траву косит, короб для травы у стены не стоит, если б стоял, тогда другое дело, а он не стоит, значит, Фрида на лугу. Ольга не стала говорить, что, когда входила, заметила опрокинутый короб возле самого крыльца.
А она кто такая? – спросила слепая, которая для всей деревни была просто Ланершой и только для Ольги – жалкой, всеми заброшенной, незрячей инвалидкой. Разве она ее по голосу не узнает? – спросила Ольга, она часто с Фридой играла, да и Фрида к ним в дом учителя нередко захаживала, вместе с Анной Лакнер. Она не стала говорить, какое безотрадное впечатление произвела на нее сама Фрида своим слюнявым ртом, невнятным бормотаньем, а потом и дергающейся, словно на ходулях, походкой – походкой калеки на высоких каблуках.
Она, продолжала Ольга, дочка учителя, ну, которая из города, снизу. Ах, так она Ольга, воскликнула слепая неожиданно молодым, певучим голосом. Можно ей лицо ее потрогать, пусть не боится, руки у нее чистые, она руки раз по десять на дню моет. Да, конечно, ради Бога, позволила Ольга. Коров-то, сообщила старуха, она пока что каждое утро и каждый вечер сама скребет и моет, и вообще в коровник ходит в охотку, не то что Фрида, так что ежели у нее, Ольги, минутка свободная есть, может хоть сейчас с ней в коровник пройти и убедиться, до чего чистые у нее коровы, а если погладит, сразу увидит: ни крошки грязи или дерьма на руках не останется.
Правда, в доме-то, наверно, малость попахивает, продолжала слепая, хоть они с Фридой каждую неделю и сени, и кухню мыльной водой обдают, но все равно, раз уж они из дома в коровник да из коровника в дом беспрестанно шастают, то и коровье дерьмо сюда заносят, она и сама чует, хоть для нее это и не Бог весть какой нехороший запах, ну, в смысле, что не вонь, но, конечно, ей неприятно будет, ежели люди станут думать, будто она с немытыми ногами, с коровьим дерьмом между пальцев, и в спальню к себе заходит или, чего доброго, в постель ложится. Так что ежели кто про нее такое говорит, то это просто наглая, бесстыжая ложь.
Под чуткими прикосновениями старухиных пальцев лицо Ольги, казалось, медленно зарастало паутиной. По плотно закрытым векам эти пальцы пробежали легкой щекоткой. Словно намереваясь писать портрет, слепая тщательно ощупала лоб, щеки, подбородок, а потом, почти неощутимо, провела рукой по линии губ. Она никогда в городе не была, призналась слепая, и лица такого, как это, в жизни не видела – она так и сказала «не видела», но потом поправилась: «не трогала». У нее там, в городе, должно быть, очень уж чудная жизнь, потому как она, ясное дело, узнает в ней Ольгу, из тысячи других различит, а вот понять ее – нет, не понимает, сказала Ланерша, лицо у нее могло бы быть мягким, только очень уж много в нем всего намешано.
Может, она с ними хочет пойти, нерешительно спросил Флориан, все еще стоявший в открытой двери на пороге горницы, ну, на поминальную молитву. Ей это наверняка безразлично, слепым все безразлично, пронеслось в голове у Ольги, для них кромешная тьма – не вместилище страха, а просто привычка.
Да-да, она еще сходит в школу, ответила старуха, и для Ольги эти ее слова прозвучали в том смысле, что ей, слепой, для того, чтобы каждого нового мертвеца помянуть, из дому выходить вовсе не обязательно. Она сходит, но попозже, вот Фрида с травой вернется, ее и отведет. Флориан тем не менее предложил в проводники себя, но Ланерша очень твердо сказала: нет-нет, она пойдет после обеда, с Фридой. А ей вроде как не хочется знать, что отец умер, отметила про себя Ольга.
Когда же Флориан подчеркнуто громко сказал «Ну, тогда пошли!», ей показалось, что она и раньше, до отцовской смерти, уже хорошо его знала: это вдумчивое, невзирая на все дерганья, неизменно внимательное лицо, этот угрюмый лоб, эти зубы, посеревшие от многочисленных уколов в десны.
Сойдя с крыльца, он спугнул своим неуклюжим топаньем черную несушку. Ольге вспомнилось, как во время ее внезапных наездов к отцу Флориан немедленно, не задавая вопросов, вставал из-за стола в горнице и уходил, без единого слова привета или прощания, но с неизменным выражением обиды в глазах. Однажды отец неловко попытался чмокнуть его в щеку, но Флориан дернулся, отпрянул, и поцелуй пришелся куда-то в кадык.
День был почти теплый, один из тех приветливых, осененных небесной лазурью дней, какие здесь, наверху, выпадают в октябре, а иной раз и в ноябре, когда пригревшиеся на солнце мухи с жужжанием бьются об оконные стекла, а потом замертво падают кверху лапками. Ольга заранее радовалась мгновению, когда солнце скроется за кромкой леса. Сейчас эта ослепительная яркость была ей невмоготу. Прикрыв глаза козырьком ладони, она изучала траву у себя под ногами, обнаруживая в ней все новые бурые прошлогодние стебельки. В ушах лениво смешивались редкие звуки – кудахтанье несушки и далекий стрекот ручной бензопилы. Когда чуть позже она углядела на дальнем конце улицы мужчину на велосипеде, тот показался ей вырезанным из дерева человечком – до того неестественно прямая была у него посадка.
Флориан, который, идя рядом с ней, изо всех сил старался не дергаться и тем не менее то и дело выкидывал очередное коленце, вдруг сказал, что до отца он больше не дотронется, не то чтобы ему страшно прикоснуться к отцовскому лицу и даже поцеловать его, совсем наоборот, но он и при жизни отца, считай, что с малолетства, никогда не целовал, а чего живому недодал, того уж с мертвым не наверстаешь. Но все равно он не очень уверен, правильно ли надумал, верно ли это будет. Отец-то никогда по-настоящему до него не дотрагивался, как будто он не настоящий его сын, и даже когда по голове вроде как гладил, на самом деле только рукой сверху проводил, а касаться не касался. Отец, правда, часто ему улыбался, не насмешливо, а так, словно он, Флориан, в стеклянной колбе и отец на это стекло снаружи дыхнуть норовит. Ему, по правде сказать, куда милей было бы, если бы отец наорал на него или за шиворот схватил, но он с ним всегда как с калекой обходился, жалел. Она и сама, наверно, помнит, как отец вокруг него расхаживал, словно он стеклянный, а в хорошем настроении даже вокруг него приплясывал, но чтобы хоть пальцем дотронуться – это никогда.
Флориан ковылял рядом с нею по траве.
– Я по большей части ничего не замечаю, как слепая, – сказала Ольга.
Редкие, известняково-белые облачка напоминали ей расплющенные прессом остовы машин на автосвалке. Конечно, Флориан заслуживает совсем другой жизни, хотя она и не могла бы толком сказать почему. Поднимаясь вверх то бок о бок с нею, то забегая вперед, он то и дело бесхитростно тыкал пальцем вниз, в долину, что в эту пору еще тонула в молочном тумане.
– Там, внизу, – сказал он, – такого голубого воздуха в жизни не увидеть, у них же всякое утро хмурое, настоящее голубое небо только у нас.
Наверно, когда он маленький был, другие ребята его обижали, спросила Ольга. Все равно, он хотел быть вместе с остальными, ответил Флориан, так хотел, что про страх забывал. К тому же правой рукой он мешок на двадцать – тридцать кило картошки завсегда поднимет, и камни швырять, да и сучья сызмальства тренировался. Конечно, когда из школы к себе на хутор лесом возвращался, всегда приходилось быть начеку: то из куста тебя вдруг палкой огреют, то со всех сторон еловые шишки полетят. Он сучьями отстреливался, да и камнями тоже, если какие под рукой были, а когда повалят, он и кусаться не робел, если, конечно, получалось, кого укусить. Короче, они всегда знали, что с ним небезопасно связываться, правда, их это только еще больше подзадоривало, к тому же по большей части они всей оравой на него накидывались, потому как один на один с ним шутки плохи. Но все-таки тут, главное, именно шутка была, забава. Всерьез они против него ничего не имели – как-никак они ведь частенько и играть его принимали, а это, ну, чтобы вместе с остальными побыть, для него было важнее всякого страха. В сущности-то, они между ним и собой никакой особой разницы не делали, сегодня одному достанется, завтра другому, у мальчишек без этого нельзя, вот они и дурачились, вот и дрались, как все в этом возрасте.
Тогда, в марте, когда беспрерывно лил дождь, она встретила Сильвано на вокзале, прямо по перрону навстречу ему пошла, хотя и не была уверена, что правильно делает. Может, лучше было, не встречая, сразу его к себе домой позвать и шаги его слушать, тяжелые, один за другим, по скрипучей деревянной лестнице, когда он поднимается снизу до самой мансарды, где она после смерти матери одна поселилась. Но потом все-таки решила сама пойти встретить, для уверенности свою сумочку-плетенку взяла – ее успокаивало, как эта сумка в такт шагам покачивается, – и через перронную толпу прямо ему навстречу пошла, сумка в правой руке, словно язык колокола, туда-сюда так и ходит, она даже обнять Сильвано толком не смогла, левой за шею ухватила, а правой как бы невзначай пальцем по губам провела. А он саквояж свой поставил, и она ощутила ласковую тяжесть его ладоней у себя на затылке. Вокзальный шум почему-то ее взбудоражил, как будто вот сейчас, здесь, под этими серыми сводами, происходит нечто важное, быть может, вообще самое главное в жизни, ей даже не захотелось сразу уходить, и она спросила Сильвано, не выпить ли им кофе. И Сильвано ответил, мол, да, с удовольствием, и потом они сидели в тускло освещенном и пустом – вообще ни души, если не считать какой-то женщины за стойкой бара, – вокзальном ресторане, отрезанные от шума, как в аквариуме, и пили жиденький капуччино. Она и сейчас еще иной раз будто со стороны себя видит, как с покачивающейся сумкой-корзинкой навстречу Сильвано идет, этот медленный проход с сумкой враскачку и стал началом всему, а стук дождя по мансардной крыше – это уж потом было. Она пошла навстречу Сильвано так, словно он по пути, пока ехал к ней из Милана, все-таки преобразился, другим стал. Точно так же ей потом мечталось, что он заставит себя забыть про нее другую и раз и навсегда запретит ей ездить наверх, в родную деревню. Утром она исцеловала каждый миллиметр его лица, умоляя о прощении, потому что во сне заехала ему кулаком в глаз, который тут же заплыл, и бедняга Сильвано, разом окривев, смотрел на нее, смешно моргая этим заплывшим глазом. Ей хотелось трогать его лицо, любую пядь этого лица, словно от ее прикосновений все остальное вокруг них двоих вот-вот без следа исчезнет. А он в ответ зажимал ее ладонь между подбородком и шеей и рычал, изображая медведя, и в такие секунды между ними не было ни отчуждения, ни чувства покинутости. Она взъерошивала ему волосы, он торопился раскрыть книгу, но она опережала его, щелкнув выключателем, и говорила «извини». В навалившейся тьме за опущенными жалюзи Сильвано неподъемной глыбой лежал с нею рядом, они просто дышали и, смежив веки, слушали дыхание друг друга, и им было хорошо.
Вероятно, раз двадцать, если не тридцать, она слушала, как Сильвано выступал на площади Манцони, стоя возле голубенького «фиата-500» с репродукторами на крыше, по субботам утром, когда на него оборачивались женщины, обступившие овощные прилавки, и мужчины выходили из баров, зажигая сигарету или дожевывая последнюю оливку от аперитива. И хотя он прекрасно знал, что среди этих слушателей полицейских агентов в штатском куда больше, чем настоящих рабочих и домохозяек, он говорил все как есть, называя вещи своими именами, и не только об американских президентах, нет, и говорил очень ясно, гладко, пожалуй, даже чуть-чуть слишком гладко. Но рассуждения у него были всегда очень дельные и основательные, и заканчивались обычно призывом «Solidarieta fra operai tedeschi ed italiani!» [7]7
Да здравствует солидарность немецких и итальянских трудящихся! (ит.).
[Закрыть]И ей очень нравилось, что он произносил это спокойно, без напускного воодушевления. Он вообще не был похож на проповедника, наоборот, ей казалось, что он – воплощенная деловитость, человек разума, он и трубку свою посасывал спокойно, способен был, не перебивая, выслушивать других минутами, а то и дольше, прежде чем что-то самому сказать, и во всех дискуссиях о стратегии и тактике стоял за то, что «возможно осуществить практически». А когда сам или кто-то из товарищей предлагал очередную листовочную акцию, он первым, хоть и с заспанными глазами, тащился на окраину в промзону к началу утренней смены и вставал там с пачкой листовок у каких-нибудь заводских ворот.
Какое-то время она и сама не понимала, с какой стати ходит вместе с Сильвано на все эти собрания и встречи, часто скучает там, иногда слушает, а иногда и нет, и многое кажется ей совершенно нереальным, и от этого даже как будто мурашки по спине. Какие-то обрывки и куски из того, что она слушала, казались ей кусками собственного, только вроде как похороненного существования, а теперь она заново открывала эти мысли и чувства, как будто извлеченные из-под земли, – они, оказывается, просто есть на свете независимо от ее возможностей и возможностей других людей, и они-то в конце концов пробудили в ней любопытство не только к Сильвано, но и этой совершенно иной жизни.
Она позволяла Сильвано брать ее с собой, не таскать за собой, а именно брать, под своды этого просторного подвала, столь не похожего на высвеченные красноватым или голубым неоном злачные места в центре города. А потом вдруг и ей самой захотелось что-то сказать, чтобы не оставаться совсем чужачкой среди этих незнакомых лиц, – например, о том, что это за жизнь у нее такая и что она про свою жизнь думает, или о своем итальянском паспорте, хотя она по-итальянски почти не говорит, да и по-немецки только – или почти только – на диалекте.
Прежде она бы сказала – «рехнуться можно» или «это совсем надо чокнутым быть», чтобы вот так, ни с того ни с сего, перед посторонними людьми о себе распинаться, себя наизнанку выворачивать, мучиться, стесняться, слова подбирать, короче, из кожи вон лезть, но рассказывать. Конечно же, тут рехнуться можно, а все-таки это значит поставить свою жизнь в ряд с остальными, и постепенно она начала себя спрашивать, а вот все эти «левые», все эти «товарищи» – они-то как и почему выдерживают это, с позволения сказать, существование, одинаково безысходное что за нейлоновыми занавесками в дешевых муниципальных квартирках, что за новенькими двойными рамами перестроенных крестьянских изб. Может, другая жизнь вообще лишь внизу, на равнине, легко дается, возле реки или вообще только в городе, на его улицах и площадях?
Глубоко за полночь они падали в постель, но чаще всего тут же кидались друг на друга, безмолвно, яростно, с одной-единственной целью. В самые страстные минуты Сильвано мог вдруг заговорить о смерти, лишь бы усилить ее наслаждение, и постепенно она научилась многое в этой маленькой смерти ценить, упиваться ею с ним вместе, ощущать родными его пальцы, его плоть, его дыхание. Вместе с ним она вкусила плотский голод, неистовую взаимную алчность языка, зубов, губ, и не было такой любовной стрелы, включая самые простецкие, из тех, что мелом на заборах рисуют, которая не пронзила бы им сердце, они оба изнемогали от наслаждения и усталости, изнуряя друг друга неистовостью этой невероятной, лицом к лицу, близости, исчерпывая ее и себя до дна, – но и в такие мгновения многое в их мыслях и даже в их чувствах оставалось до конца не исчерпанным, еще возможным.
Через поле к деревне светло-серой лентой тянулась дорога, Ольга видела, как местами ее асфальтовая спина проглядывает из сочной луговой муравы, словно извивающиеся кусочки только что разрезанного дождевого червя. А если сощурить глаза, асфальт вообще кажется белым. Конечно, она знает, помнит, как здесь было красиво – и трава, и камни у дороги, и телята за электрическим ограждением. Но ее чувства почти никогда не знали здесь цели, тут не было ничего и никого, кого можно любить и ненавидеть. Разве что одиноко стоящему деревцу порадоваться.
Ей очень хотелось о многом расспросить Флориана – не столько из любопытства, сколько просто чтобы не молчать. Как тому жилось вдвоем с отцом и как отец относился к его матери, сторожихе… Но потом она все-таки раздумала и спрашивать не стала. Было неприятно вживаться в мир калеки, и она внушила себе, что лучше промолчать, избавить и его и себя еще и от этого душевного надрыва. Его настырная, с шепелявым придыханием, манера рассказывать сразу стала действовать ей на нервы, так что когда они с луговой тропки свернули наконец на дорогу к деревне, Ольге уже больше всего на свете хотелось дать ему пинка под зад.
За шпенглеровской мастерской у Плозера прежде был большой луг, и на этот луг Ольга, когда ей было лет девять-десять, как-то раз поехала навоз разбрасывать. Это случилось во время прогулки с отцом – она вдруг вспрыгнула на обогнавшую их подводу, на которой позади сидела Ленка Плозер, выставив напоказ свои заячьи зубки и болтая ногами. Одним прицельным прыжком и соответствующим ловким маневром зада она взлетела на подводу и пристроилась рядом с Ленкой, беззаботно ухватившись рукой за плетеный борт. Тракторов тогда в их местах еще не было, подводу с навозом тащила взмокшая от натуги кляча. Ольга помахала отцу рукой, словно сама, на свой страх и риск, решила пуститься в то дальнее странствие, о котором он так часто распинался. Она махала отцу, наблюдая, как на его обескураженной физиономии изумление постепенно сменяется смехом. Сейчас эта картина вдруг снова встала у нее перед глазами с такой отчетливостью, словно внезапно отразившись в каком-то зеркале.
Проходя мимо парикмахерского салона, который Елена открыла несколько лет назад, на волне туристического бума, Ольга вдруг, сама не зная почему, свернула к дверям и вошла, сразу решительно опустившись в одно из вращающихся кресел искусственной кожи.
– Под мальчика, – сказала она, – и как можно короче.
Тощее лицо Ленки кивнуло ей в зеркале, Ленка узнала ее и поздоровалась, но не улыбнулась. На Ольгу снова глянули Ленкины большие глаза и резко выступающие вперед, даже наполовину не прикрытые губами зубы, и все это в темно-фиолетовых недрах зеркала, словно в раме, на картине. Не хочет ли она снять замшевое пальто, спросила Ленка, и Ольга, не вставая с кресла, только слегка приподнявшись и подавшись вперед, позволила стянуть с себя пальто. Как можно короче, повторила Ольга, можно и ручной машинкой, фасон ей не так важен.
Флориан ее отпустил, а сам остался. Может идти куда угодно, сказала она ему, но нисколько не сомневалась, что он отправился прямиком в мертвецкую. Она-то от всего сердца пожелала ему другого: захотеть зайти в «Лилию» и у стойки выпить вместе с другими пива или винца.
Ей были приятны прикосновения Ленкиных пальцев, они теребили ее волосы, поворачивали ее голову то направо, то налево, потом строго, слегка прижав, возвращали на прежнее место и снова пускались в свой перепляс, легкие, почти неощутимые, как паучьи ножки. Пожалуй, нигде и никогда прежде не доводилось Ольге видеть столь уродливую мастерицу красоты. Лицо тощее, вроде как совсем без мяса, кожа да кости, будто после ожога, только без следов и шрамов, да и кожа сама по себе нормальная, мягкая, розовая. В школе Ленку иначе как Ленка-Зайка и не звали, причем обычно эта кличка как бы удваивалась, превращаясь в дразнилку: Ленка-Зайка, Зайка-Ленка. И вдруг, в один прекрасный день, Ленка-Зайка является в школу остриженная наголо, и на лысой голове, под крохотными волосиками зияют струпья, как после гнойных болячек, и пятачки проплешин совсем без волос, это где струпья опали, – с тех пор ее уже никто Ленкой-Зайкой не звал, только вшивой Ленкой, да еще с присказкой: «Хороши вошки у Ленки на бошке!»
Такую модную прическу – и снимать, сказала Ленка, обращаясь не к Ольге, а к ее отражению в зеркале, это ж только с прошлой осени фасон, до следующей зимы запросто носить можно, а она остричь вздумала, нет, этого Ленка решительно не понимает, и ни в одном модном журнале о коротких прическах ни слова, к тому же эта прическа так подходит к воротнику ее пальто. Но Ольга в ответ лишь бросила:
– Стриги под мальчика, тебе говорят, полсантиметра оставишь, не больше.
Лишь после этого пряди волос посыпались наконец на белую парикмахерскую накидку.
Ленка, по-прежнему безмужняя – по крайней мере была в последний раз, когда Ольга отца навещала, – так и осталась куковать со своими двумя внебрачными детьми на плозеровском подворье. А как она теперь-то с детьми управляется, когда у нее пансион вместо дома? – поинтересовалась Ольга.
Так им же уже больше десяти обоим, ответила Ленка, вполне сами по хозяйству помогать могут, мальчишка на кухне иной раз пособит, а дочка вообще уже почти заправская горничная, отец ей отличную каморку в полуподвале оставил, из окна английский газон видать и бассейн. У них в подвале для детей постояльцев что-то вроде спортзала, настольный теннис и все такое, ну, так ее дети там тоже иногда играют. Времена-то изменились, сказала Ленка, ловко щелкая ножницами над Ольгиной головой, вроде как получше стало, теперь вот и салон кое-какие деньги приносит, она, как говорится, на своих ногах теперь стоит, без посторонней помощи. Ленка говорила, обращаясь исключительно к Ольгиному лицу в зеркале и почти ни на секунду не покладая ножниц. А ей-то в городе еще не обрыдло?
Широкой стороной гребня она медленно провела по Ольгиному затылку, ловко остригая торчащие между зубьями волосы. Да, ее смелости позавидовать можно, вот этак что хочешь, то и делать, да еще и на людей, которые, ясное дело, всегда найдут, к чему прицепиться, только поплевывать. Она ведь все еще живет со своим неаполитанцем? – спросила Ленка. Раньше-то вроде помнила, как его зовут, но сейчас запамятовала. Вообще-то надо признать, она молодец, хоть он и не Бог весть какая партия, но она, по крайней мере, осталась свободным человеком, да и без детей, значит, все еще вольна поступать, как заблагорассудится, а что с отцом беда приключилась, так тут и она ничего бы поделать не смогла, уж он-то наверняка не из-за неаполитанца в трактире до смерти накачивался. Словом, она ей сочувствует и соболезнует от всего сердца, тут Ольга может не сомневаться. Ольга смотрела в зеркало на свою наполовину остриженную голову.
Когда демонстрации и выступления на собраниях как-то незаметно и сами собой стали сходить на нет, у Сильвано возникла идея арендовать в промышленной зоне бар. Вероятно, задумка эта осенила его как последнее прибежище от очевидного и неминуемого краха: надо было срочно создать постоянное место встречи для разбегающихся товарищей, compagni, место дружбы, душевной близости, только вот какой и во имя чего? Может, во имя общего прошлого или просто ради совместного отдыха, раз уж листовочной солидарности с тружениками конвейеров не получается. Спроси ее кто-нибудь прежде, она бы, не задумываясь, сразу сказала: мало кто настолько не подходит на роль хозяина заведения, как Сильвано, которого она могла вообразить занимающимся чем угодно, но уж только не разливающим вино и шнапс или тасующим картишки в компании подвыпивших гостей. Однако, как выяснилось, она ошибалась – по счастью. Вот уж, действительно, по счастью, думала она иной раз, потому что Сильвано и вправду ожил, прямо расцвел, словно все, что в ее глазах было прежде его сутью – трезвый расчет, рассудительность, логика, неизменно нацеленная на деловую и объективную оценку и на стремление облечь эту оценку в правильные слова, из которых можно и нужно потом сделать правильные выводы, – на деле оказалось лишь временным отречением от его истинной натуры. Он, казавшийся ей человеком сугубо книжным и рассудочным, призванным, стоя около машины с репродукторами, облекать свои мысли в важные слова, теперь как ни в чем не бывало стоял за стойкой, иногда облокотившись на кофейную машину, и выслушивал своих посетителей – рабочих, что повадились ходить в его бар и постепенно становились завсегдатаями, так же как он постепенно превращался в трактирщика. Он слушал, как они костерят то мастера, то, наоборот, нерадивого подсобника, а сам вдруг почти перестал разговаривать. Он, агитатор, который поначалу, да и потом еще некоторое время буквально подкарауливал возможность вовремя вставить нужное словцо, теперь все больше молчал, глядя прямо перед собой, и все больше слушал, зато радостно смеялся их шуткам и анекдотам, а со временем и сам стал анекдоты рассказывать, да так здорово, что они теперь все чаще и чаще его об этом просили. Когда его присутствия за стойкой не требовалось, он отходил к шахматному столику и молча наблюдал за партией. И единственное, что способно было теперь вызвать его возмущение, это когда кто-нибудь уходил, позабыв расплатиться за кружку пива или бокал вина.








