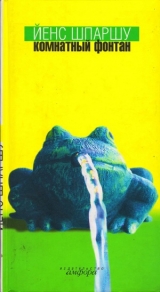
Текст книги "Комнатный фонтан"
Автор книги: Йенс Шпаршу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Дверь отворилась: госпожа Мануэла. (Я думаю, что это был, если можно так выразиться, ее творческий псевдоним. Называя ее этим именем, я не разглашаю поэтому никаких тайн. Тем более что гражданское имя этой особы мне неизвестно.)
Итак, госпожа Мануэла. Она посмотрела на меня.
Под этим взглядом я весь непроизвольно как-то сжался. А как она посмотрела на украшавшую меня коробку! Я счел за благо незаметно передислоцировать ее в тыл, то есть за спину, пытаясь одновременно вынести корпус вперед, поближе к незнакомке, используя собственное тело в качестве живого подвижного щита между коробкой и дамой.
– Прошу, не стойте на пороге, – пригласила меня наконец войти госпожа Мануэла уже знакомым мне голосом, который, признаться, на телефонном расстоянии звучал как-то роднее и ближе.
Я протиснулся мимо госпожи Мануэлы, которая, как я теперь увидел, заполняла собою значительную часть проема, и очутился в прихожей. Мама дорогая! У меня отвисла челюсть: обстановка тут была один к одному как на космическом корабле из детского сериала «Enterprise».
Госпожа Мануэла заперла дверь и в ту же секунду одним рывком (этот звук до сих пор стоит у меня в ушах) избавилась от пояса, который держал в узде ее халат, или мантию, или что там на ней еще было надето: наружу выехали отдельные участки тела, задрапированные местами изодранным в клочья мундиром, и заиграли в холодном мерцающем синеватом свете. На лиловом торчащем соске болтался хищно растопырившийся орден. Облегающие сапоги-ботфорты сверкали адской чернотой. И вообще… Вообще…
Ясное дело, я сразу смекнул, куда меня занесло. Я даже улыбнулся несколько смущенно, или, во всяком случае, попытался это сделать, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Моя задача была теперь, не выходя за рамки деловой беседы, быстренько прояснить недоразумение, которое свело нас, и…
Не хочу вспоминать, как – не успел я рта раскрыть – мадам огрела меня невесть откуда взявшейся плеткой и тут же, несмотря на мой решительный протест, стеганула еще, потом еще, приговаривая: «Вот так, вот так, хорошо, вот как нам хорошо», а я, как последний придурок, вцепился в свою коробку, за судьбу которой я, по непонятным причинам, беспокоился больше всего, тем более что мне действительно чуть не пришлось ее лишиться, когда после вопроса «А что это у нас там в коробочке такое, какие маленькие шалости?» последовала попытка отобрать у меня ее силой, чего, конечно, я не допустил, оказав яростное сопротивление, будто речь шла о моей собственной жизни; как я выкрикивал одну и ту же фразу: «Ну это верх всего!» – и был по-своему прав; как на мои решительные действия госпожа Мануэла развернула еще более широкую атаку, обрушив на меня весь арсенал пыточных средств, изощренность которых, кажется, не имела пределов, в чем я убедился на собственной шкуре, ибо на каждое мое «Нет!», «Да отстаньте вы от меня, наконец!» она отвечала чем-нибудь новеньким, так что временами я не выдерживал и, оставив всякое сопротивление, с тихим стоном валился без сил, отдавая себя на растерзание; как я на ее неожиданный вопрос «Неужели не нравится?» ответил упорным молчанием, после чего, загнанный в угол, приготовившись к неминуемой гибели, в последнюю минуту вспомнил нужные слова – «лицензия на трудовую деятельность» и «полиция», услышав которые госпожа Мануэла сразу угомонилась и на какое-то время пришла в себя; как наступила временная передышка, которую я поспешил использовать для запоздалого объяснения причины моего нахождения в этом помещении, на что мадам тут же запахнула халат; как мы стояли, тяжело дыша, друг против друга, оба в растерянности, – такого у нее еще никогда не было, заверила госпожа Мануэла и добавила, что ей страшно неловко, а потом вдруг рассмеялась; мне же было не до смеха, тем более что она вдруг посерьезнела и сказала: «Но свое я все-таки отработала, не в полном объеме, конечно, но…», на что я ответил: «Да, разумеется, вне всякого сомнения!». И чтобы положить конец этому затянувшемуся представлению, выложил сто марок (четверть того, что я заработал в Ютербоге!), после чего она вдруг засомневалась, правильно ли она меня поняла и не затеял ли я тут какую новую игру, а я постучал себя по лбу, давая ей понять, что у нее, наверное, не все дома, и, радуясь тому, что еще легко отделался, выскочил как ошпаренный из комнаты…
В носках! Я обнаружил это только в коридоре и тут же рванул обратно, чтобы забрать свои ботинки у госпожи Мануэлы, которая уже собиралась броситься за мной вдогонку.
Мне тошно вспоминать, как я потом все не мог отдышаться и долго стоял у машины, уткнувшись лбом в прохладный, мокрый от дождя металл, с ужасом думая, как мне теперь смотреть в глаза Пятнице… Хорошо еще, мне удалось спастись от ошейника, а ведь он был на волосок от моей шеи, и только моя стойкость и грозный рык, к которому мне пришлось прибегнуть как к последнему средству устрашения (поскольку на каких – то этапах битвы мне заклеивали рот пластырем!), избавили меня от удавки.
Дополнительные сведения по поводу этого эпизода содержатся в Книге учета. в записи от того же числа, сделанной мною дрожащей рукой, что видно по неровному почерку. Глубокой ночью, сидя на краю приятно холодящей ванны, я обработал исполосованную спину чудодейственной присыпкой и, оставив раны подсыхать, пристроился с Книгой учета на стиральной машине, чтобы записать по свежим следам свои мысли: «Я всей душой готов принять самые невероятные повороты жизни, любые ее отклонения, во мне нет ханжества, могу сказать я о себе, я современный человек, но все-таки: как можно по доброй воле, за здорово живешь (точнее за сто марок = четверть ютербогской прибыли) дать отодрать себя как Сидорову козу-нет, это у меня просто не укладывается в голове! Спасибо! Я не дам над собою так измываться! И довольно об этом, дураков больше нет!»
Этой ночью мне очень не хватало Юлии.
На следующее утро медленно пробудившееся к жизни тело по кусочкам восстанавливало в памяти, перебирая нанесенные увечья, пережитые муки. Я тоже постепенно приходил в себя, хотя на тот момент не очень понимал, куда это я попал…
Когда я наконец соединил кое-как вместе дух и тело, разобравшись с грехом пополам со всеми своими семью чувствами, я понял: с постели мне не встать. От боли я готов был вылезти из собственной кожи. Я попытался сделать первое движение, откинул простыню и, бросив прощальный взгляд на мои бренные останки, со стоном снова опустился на подушки.
Я пролежал в постели до середины дня, хотя мне и лежать было невыносимо больно. Мои размякшие мозги были не в состоянии породить ни единой мысли, кроме, пожалуй, одной-единственной, вокруг которой все, собственно говоря, и крутилось и от которой у меня самого голова уже шла кругом: послать всё к черту! На фиг. Всё…
Послышалось жалобное дребезжание телефона, потому что звонком это назвать было нельзя. Господи, сделай так, чтобы это была не Юлия, только бы не Юлия! Хотя это наверняка Штрювер…
Это был Болдингер. Шеф. Собственной персоной.
Я попытался сесть в постели.
Он сообщил мне, что очень доволен моей работой, что слышит обо мне поразительные вещи…
– Коллега Штрювер сообщает о вас такие чудеса!.. Так держать! Нужно смотреть вперед, а не назад! Мало ли что там в прошлом, правда, господин Лобек? Вперед и только вперед!
После чего он решил убедиться, что я его понимаю. Вы действительнопонимаете, что я имею в виду?
– Да, конечно. – Чего тут понимать, ничего сложного.
– Ну и замечательно, – сказал он. – Отлично. И потом, не исключено, что в ближайшее время восточный сектор у нас возглавит (тут он сделал маленькую паузу)… господин Лобек.
– Нет, – сказал я.
– Да, – сказал он.
Я застонал.
– Конечно, такое дело нужно хорошенько обдумать. Это привнесет известные перемены в вашу жизнь, и для семьи это будет непросто. Лучше всего, обсудите всё спокойно сегодня вечерком со своей женой.
– Ммм… да, конечно, – ответил я, – прямо сегодня вечером, очень даже было бы кстати, хорошая идея, очень удачно, да.
– Ну, вот видите, – рассмеялся Болдингер, – вы уже начали свыкаться с этой мыслью, правда? И кстати, я понимаю вас гораздо лучше, чем вам это кажется, на– мно-о-о-го лучше. Скажите, господин Лобек, а вам известно, где я родился?
(Какое мне дело до его личной жизни?)
Нет, я не имел понятия, где он там родился. Наверное, в каком-нибудь экзотическом месте. В Рио-де-Жанейро? В Шанхае? Или в Риге?
– Пирна, – выдохнул наконец Болдингер из трубки. – Я тожес того берега.
Я удивился.
Я осторожно принял снова горизонтальное положение, чтобы мне удобнее было слушать – одновременно обрабатывая без лишнего шума раны – историю империи Болдингеров.
История начиналась с Йозефа Болдингера, производителя ароматической воды и поставщика двора Его Величества Короля Саксонского; этому самому Болдингеру удалось вследствие удачной женитьбы в 1887 г. прибрать к рукам Зебницкую мануфактуру по производству искусственных цветов. В эпоху грюндерства предприятие процветало. В начале века тоже. И даже в двадцатые годы, в период мирового кризиса, оно почти не пострадало. Фирма работала под девизом, сформулированным ее – ставшим к тому моменту единственным – владельцем Йозефом Болдингером, скоропостижно скончавшимся в 1931 г.: «Пока вы живы, наши цветы будут украшать вашу жизнь».
Потом настал памятный сорок пятый. Полный обвал. Бегство в западную зону, там чуть не угодил на скамью подсудимых, чудом избежал наказания. И снова работа. Пришлось начинать всё с нуля. На примитивном оборудовании, в полуразрушенной хибаре, преодолевая колоссальные трудности.
– Да, доложу я тебе, жизнь была та еще. Тяжелое время, но чертовски прекрасное!
Тогда же были начаты первые эксперименты с комнатными фонтанами. Они по сей день живы, те первые модели, в Огайо, в Техасе… Любимый сувенир из Germany, оккупационные войска вывозили его ящиками.
– Что это для нас тогдашних значило! Наши комнатные фонтаны пошли по миру! Знаете, Лобек, Штрюверу, к примеру, такого не понять. Разве он может представить себе, как все это было. Едва ли… Но вы… – Тут он неожиданно обратился снова прямо ко мне: – Вы и ваши соотечественники… то, что вы сейчас переживаете, крах всего, и вообще, – без боли ведь на это смотреть нельзя. Как я хорошо все это понимаю, господин Лобек, даже очень хорошо, и я хочу, чтобы вы всегда знали это.
Возникла небольшая торжественная пауза, я закрыл глаза. У меня не было сил даже на то, чтобы слушать.
– Ну а теперь, – воскликнул он, придя от собственного рассказа в необычайное одушевление и даже некоторое волнение, – теперь пора за дело, мой друг! Труба зовет, работы сердце просит, как сказал один поэт! И кстати, не говорите пока Штрюверу, я сам с ним должен сначала побеседовать.
Прощальный вздох, и разговор окончен.
Штрювер… И зачем только Болдингер мне это сказал! Во мне все опустилось, хотя опускаться, собственно говоря, было некуда, я лежал пластом. С большим трудом я положил трубку. Муки телесные уступили место мукам душевным… Нет, я не чувствовал никаких угрызений совести. Я вообще ничего не чувствовал, совести в том числе.
Ах, Уве! Наивный мальчик! ТЫ решил замолвить шефу за меня доброе словечко, рассказываешь, как я слышал, обо мне всякие «чудеса». А я, неблагодарное создание, – таких мерзавцев свет ни видывал – я не могу даже сделать для тебя теткой малости, как пристроить твоих симпатичных, да, да, симпатичных, китов, не говоря уже о том, чтобы сказать тебе правду. И в довершение ко всему-вот она, людская благодарность! – я стану еще твоим начальником!
Я не находил себе места в постели, и, если бы не боль, я начал бы метаться. Не выдержав, я встал, накинул халат и вылез из своей берлоги. В унынии стоял я у окна на кухне, глядя на тоскливый новостроечный пейзаж. Вокруг все было серым-серо, дождь зарядил уж с самого утра и прекращаться явно не собирался. Даже небеса сегодня ополчились против меня.
Как назло, именно в последние недели отношение Штрювера ко мне совершенно переменилось! Уве, как я с недавних пор вынужден был называть господина Штрювера, проявлял ко мне повышенное внимание и был сама любезность.
Если раньше, бывало, он просто говорил, делаем так и так, то теперь он сначала спрашивал меня, учитывал все мои замечания, даже самые ничтожные, и каждое придаточное предложение, слетевшее с моих уст, воспринималось им как нечто важное и значительное. Я очень чутко улавливал это – из-за своих семейных обстоятельств в первую очередь – и наслаждался.
Мне кажется, не будет большим преувеличением, если я скажу, что мы искренне симпатизировали друг другу.
Конечно, у нас случались и размолвки. У кого их не бывает? Однажды, перед Рождеством, у нас выдался свободный вечер. Мы шли мимо какого-то празднично украшенного книжного магазина, и Штрювер удивился тому количеству мемуаров, которые были выставлены в витрине. Разве ж можно столько всего на самом деле пережить, да еще по-честному, сколько в этих книжках понаписано?!
Мы шли себе дальше, каждый в своих мыслях. Я, например, в этот момент подумал: «Н-да».
Тут Штрювер вдруг остановился:
– Вот если человек ведет двойную жизнь, тогда у него навалом материала, на два тома точно хватит!
Мы посмеялись.
– Или не хватит! – отозвался с ухмылкой я, решив добавить перцу.
Штрювер резко прекратил смеяться и, глядя на меня печальными глазами, закивал головой. У меня было такое чувство, будто он что-то от меня скрывает, что у него есть какая-то тайна, которая его гнетет. Но я не хотел лезть к нему в душу, чтобы не рисковать нашей дружбой, хотя уже тогда у меня было смутное подозрение, что эта его тайна каким-то образом связана со мной.
Чуть позже мне суждено было узнать, что за всем этим скрывалось, и узнал я это отнюдь не по доброй воле…
Все началось с того, что Штрювер стал проявлять повышенный интерес к моей личной жизни. Сначала я не увидел в этом ничего особенного. Наоборот, столько внимания и участия – я совершенно уже отвык от этого, и мне это было очень приятно. Правда, мне удалось довольно ловко замять вопрос с его приглашением ко мне домой, что уже давным-давно надо было бы сделать (могу себе представить, что бы из этого вышло!); с другой стороны, мне было его, конечно, немного жалко: торчит, бедняга, все время в своей гостинице.
Его постоянные расспросы о моем доме, о моей семье, о моей жене (!) – все это должно было бы само собою меня насторожить…
В минуту слабости – кажется, мы заговорили о том, что самодельные рождественские подарки в тышу раз лучше покупных, – я признался ему, движимый внезапно пробудившейся потребностью хоть с кем-то поделиться сокровенным, я признался ему в своей тайной страсти: что я выпиливаю лобзиком.
Зачем я это сделал?! Он прицепился ко мне как клещ! Вдруг выяснилось, что его прямо хлебом не корми, дай что-нибудь такое помастерить. (Считаю своим долгом сообщить: как выяснилось, чистейшая ложь!) При всяком удобном случае, впрочем и без всякого случая, он норовил вернуться к этой теме, как будто ничто другое его не интересовало в этой жизни. Он вел себя как одержимый. А когда он еще узнал о существовании моей комнаты отдыха и досуга-я был столь неосмотрителен, что допустил несколько высказываний в этом направлении, – то всё, пристал ко мне как банный лист, давай, мол, вместе что-нибудь такое смастерим, вот соберемся вечерком и попилим.
Отвертеться тут было трудно, тем более что и Рождество уж было на носу, но тем не менее… Штрювер держал меня мертвой хваткой, лез в душу со своими расспросами: а что, дескать, скажет по этому поводу моя жена? Я, чтобы съехать поскорее с этой темы, ответил:
– Ничего. Она относится к таким вещам с пониманием. Мы люди современные, без предрассудков.
Говорить мне это, конечно, было нелегко.
И вот в один прекрасный день я понял, что на меня надвигается назначенный вечер, который мне так и не удалось замотать. Ровно в восемь в дверь позвонили. Явился Штрювер, с букетом цветов «для хозяйки дома».
Я коротко и ясно сказал ему (текст я продумал заранее), что моя жена, к сожалению, уехала в командировку, но что и без нее мы можем провести уютный вечер. (Постфактум скажу, что это была моя роковая ошибка!) Ошибкой было с моей стороны и то, что я встретил его в своей обычной домашней одежде, а именно в майке (за что Юлия меня, добавлю тут уж кстати, всегда нещадно ругала).
– Мило тут у вас, – сказал Штрювер, пока мы пробирались чуть ли не на ощупь по тускло освещенному коридору.
Как назло еще Пятница вел себя крайне неприлично, демонстрируя повадки совершенно невоспитанного приставучего пса. Наверняка, помимо всего прочего, это была и реакция на специфический запах штрюверовского парфюма (такие запахи действуют на собак возбуждающе). Я несколько раз громким голосом призвал Пятницу к порядку, и в результате он наконец отстал. На кухне я дал Штрюверу под нос, на котором у меня были приготовлены бутерброды с селедкой, а сам прихватил пиво. После чего мы без лишних проволочек отправились в комнату отдыха и досуга. Ткм я провел со Штрювером короткий инструктаж, особо остановившись на отдельных правилах техбезопасности ввиду неисправности переключателя на электропиле, и выдал ему из своих запасов темно – синий фартук.
Штрювер обвел мою каморку благоговейным взором. Но стоило ему только взять в руки лобзик (или, точнее, попытаться взять), как я уже понял: он меня дурит, все это только маскировка. Я сделал вид, что ничего не заметил, недрогнувшей рукой начертил на дощечке контуры будущей книжной подставки (мой давнишний проект!) и молча приступил к выпиливанию.
Штрювер понасиловал немножко свой щиток для ключей (с большим трудом я сдерживал себя, чтобы не вмешаться в это безобразие) и, натешившись, отложил свою пилочку в сторону.
– А все-таки хорошо вот так никуда не спешить, сидеть вд воем, болтать о чем угодно, – сказал он, обращаясь к тишине.
Мы молча продолжали трудиться.
Потом – я видел, что ему пришлось собраться с духом, прежде чем произнести следующее предложение, которое далось ему, судя по всему, ох как нелегко, – потом он все-таки решился:
– Послушай, Хинрих, мы сейчас одни, никто нам не мешает, не пора ли… не пора ли тебе, наконец, признаться… Давай поговорим как мужчина с мужчиной…
Он смотрел на меня проникновенным взглядом.
– Ты ничего не хочешь мне сказать, Хинрих?
Этот взгляд!
И тут я понял. Тут мне все стало ясно… То, как он вручил мне цветы и как он явно почувствовал облегчение, когда узнал, что Юлии нет дома (как будто в глубине души очень надеялся на это)… Эта его коса (или, точнее, хвостик)… Эти пестрые шелковые рубашки… И вообще, все эти скрытые и явные попытки сближения, особенно в последнее время, – все это предстало теперь передо мной в совершенно новом свете: Уве был голубым.
Он мягко положил мне руку на плечо.
Я покраснел.
– Ладно, – сказал он уже несколько более сдержанно. – Я прекрасно понимаю, что тебе трудно… что ты не можешь просто так говорить об этом. Но, Хинрих, – я ведь могу тебя по-прежнему называть так? – невозможно долго жить во лжи…
Я подумал о Юлии и резко выдохнул.
Потом я поднял глаза, взгляд скользнул по зеркалу, что висело на стене между пестрыми открытками со всего света. Оттуда на меня смотрела моя собственная растерянная физиономия: неужели я ему нравлюсь?
Молча я снова склонился над работой, которой я отдался теперь еще с большим рвением.
Я думаю, Уве понял меня.
Во всяком случае, когда потом я помогал ему облагородить его щиток для ключей (мы сделали вокруг крючков овальные выемочки, а по краям выжгли паяльником зубчатый узорчик) – работа, требующая огромного внимания и ювелирной точности, – обстановка постепенно разрядилась и стала более деловой. Уве поблагодарил меня, я не хочу сказать холодно, но хотя бы, слава 6oiy, уже без особого пыла, за оказанную помощь.
Я тоже, после того как немного пришел в себя (сначала эпопея с Мануэлой, теперь еще и это! Чего их на меня так тянет?), испытывал в глубине души благодарность к судьбе.
Сделанное сегодня открытие, каким бы неприятным оно ни было, со всею очевидностью, однако, показывало: Уве не догадывался о моих махинациях с АТЛАНТИДОЙ. Не забудем при этом, что мы находились в тот момент не где-нибудь, а в самом сердце «подпольной лаборатории», как я называл мою мастерскую только между мной и Пятницей. Я наказал себе ни при каких обстоятельствах не раскрывать тайны АТЛАНТИДЫ, чтобы избавить Уве от лишних переживаний еще и по этому поводу.
На прощанье мы одарили друг друга вымученными улыбками.
Уве, однако, не сразу смог смириться с моей позицией и в последующие дни довольно откровенно, даже слишком откровенно, неоднократно пытался снова подъехать ко мне «с этой стороны», но я всякий раз, сохраняя абсолютное спокойствие, в вежливой, но категоричной форме пресекал его поползновения.
Поскольку после инцидента, произошедшего в моей комнате отдыха и досуга, мне было трудно смотреть Уве в глаза, я стал носить, несмотря на то что на дворе стоял ноябрь, солнечные очки. Штрювер оставил это мое новшество без комментария, и со стороны казалось, что он принял это как данность, как неизбежную реакцию на его излишнюю активность.
В какой-то момент он даже заявил, что хотел бы снова «попробовать со мной» (!)… Этого нельзя было допустить ни в коем случае! Тогда я сказал ему, что будет лучше, если я пойду, как всегда, на дело один и что пора ему оставить свои заблужденияна мой счет. В ответ он кивнул. Значит, понял, что я хотел ему сказать (хотя когда он рассмеялся, мне стало как-то не по себе).
То, что мы с ним люди совершенно полярные, я замечал и по другим вещам, например – если взять менее щекотливую область – в том, что касалось политических воззрений.
Однажды, после традиционного вечернего обсуждения, Штрювер проводил меня вниз (неужели все еще заблуждается?). В фойе бродили какие-то подозрительные личности. Я бросил как бы невзначай, что вот, мол, прежде, при социализме, преступность ограничивалась правительственными кругами. Это, конечно, не очень хорошо, но все-таки хотя бы обозримо. Теперь же дело приняло такой размах…
Штрювер в растерянности покачал головой и тут же пригласил меня в бар, пропустить по рюмке виски. Он, дескать, хотел бы поподробнее узнать, что я имею в виду… Я, конечно, тут же его раскусил, я знал, чтоу него на уме, и потому вежливо отказался.
Такие эпизоды, впрочем, чередовались с совсем другими, когда все было очень мило.
Помню, вскоре после описанного вечера мы сидели у него в номере, составляли отчет. Он – на диване, перед ним на столике – ноутбук.
Он зажег свечку. Все-таки сочельник.
Я занял позицию в кресле – в последнее время я следил за тем, чтобы по возможности находиться от него на безопасном расстоянии, – и начал диктовать ему данные за последнюю неделю.
По телевизору шли новости. Раскрыли какого-то супершпиона из нашей госбезопасности, который много лет работал в брюссельской штаб-квартире НАТО.
Туг Уве, который по ходу дела все посматривал на экран, спрашивает меня – так, между прочим:
– Скажи мне, Хинрих, ты все-таки имел какое-то отношение к «конторе»? Так у вас, кажется, называли раньше это заведение…
– Не-а, – ответил я, глядя на собственный палец, который уже переехал на следующую цифру.
Уве посмотрел на меня так по-доброму и сказал:
– Другого ответа я от тебя и не ожидал.
Все сразу как-то встало на свои места, и мы почувствовали себя как прежде. И хотя былой непринужденности уж было не вернуть, нам удалось сохранить до самого конца вполне хорошие, коллегиальные отношения – можно сказать, почти ничем не замутненные.
Странно, но факт.
«Теперь она нарядная на праздник к нам придет…» Время пошло
С большим интересом, раскрыв рот. Пятница следил за полетом моей тапки, благополучное, хотя и несколько рискованное приземление которой, – в миллиметре от телевизора – он поприветствовал радостным лаем. Сам он при этом и не подумал сдвинуться с места.
В исходной точке этой баллистической кривой, которая, сближаясь по общему вектору движения с диагональю, шла через всю комнату, находился мой диван, моя, так сказать, колыбель, в которую я ненадолго вернулся в связи с переходом на отпускной режим, наступивший 20 декабря сего года. Но отдаться, как в былые времена, беспробудному лежанию я уже не мог себе позволить, да и просто был не в состоянии, хотя мое тело жадно взывало к тому. Неужели я за это время сделался другим? Я – новый человек? Надо же, а я и не заметил.
Во всяком случае сразу после Нового года должен решиться вопрос, буду я начальником или нет. Настало время глубоких раздумий и серьезных решений. По поводу других дел тоже, например по поводу Юлии.
На фоне всего этого демонстративная, неприкрытая бездеятельность Пятницы вызывала у меня крайнее раздражение. В приступе ярости я нащупал вторую тапку и запустил ее вдогонку первой.
Пятница сидел как приклеенный и с места двигаться не собирался.
– Да оторви ты свой зад, ленивая псина! – обрушился я на него. – Давай, вставай, тунеядец! Жизнь, дорогой мой, не может состоять только из того, чтобы спать, жрать, гулять и пялиться в телевизор. Она гораздо больше! Так же нельзя, чтобы изо дня в день, изо дня в день одно и то же, одно и то же! Жизнь должна иметь смысл, понимаешь?! Жизнь каждого человека… и вообще… каждого живого существа… нужно хоть во что-то верить на этом свете, черт побери!
Произнося свой монолог, я сел, а потом даже поднялся с дивана и вышел на середину комнаты, встав прямо против Пятницы. В определенных случаях, когда тебе нужно что-то довести до сведения собеседника, лучше это делать стоя, а не из положения лежа.
– Понимаешь?
Пятница смотрел на меня непонимающими глазами, демонстрируя вместе с тем жажду деятельности.
– Сейчас ты будешь у меня учиться приносить тапку!
Я подобрал с пола один из снарядов и запустил его по той же траектории, стараясь попасть как можно дальше.
Пятница даже и не думал шевелиться.
Я строго посмотрел на него. Ладно, попробуем по-другому. С тяжелым вздохом я опустился на четвереньки и резво поскакал к тапке, схватил ее зубами и отнес Пятнице. Слегка запыхавшись, я опустил учебный объект к его лапам.
– Теперь ты!
Войлочная тапка снова пересекла со свистом воздушное пространство.
Пятница сидел как вкопанный, недоверчиво глядя на происходящее. (Я сохранял полное спокойствие. До сих пор, честно говоря, я не очень-то отличался в том, что касается его воспитания. Поэтому для меня в его сдержанном отношении не было ничего удивительного, и я готов был его понять.)
Я снова встал на четвереньки и пополз вперед, только теперь я полз гораздо медленнее, чтобы ему было легче запомнить движения.
На сей раз он решил все-таки присоединиться ко мне. Зажмурив от удивления глаза, он возбужденно махал хвостом и неотступно следовал за мною.
Уже неплохо. Это была маленькая победа.
Я поднялся. Конечно, нужно было с ним заниматься по системе, последовательно тренировать команды «Сидеть!», «Лежать!», «Место!», «Принеси мне тапки!» (то есть «Апорт!»), «Служить!» (= вставай на задние лапы) – все это нужно было вводить постепенно, шаг за шагом.
Но что поделаешь, раз уж так вышло, попробую хотя бы научить его вставать на задние лапы. (Я прямо так и представил себе: вот прихожу я вечером домой, усталый, разбитый, открываю дверь и – кто это тут меня встречает на задних лапках?)
Я, стало быть, снова опустился перед ним на колени, крепко прижал локти к туловищу, выставил вперед руки наподобие двух канделябров, слегка приоткрыл рот и свесил набок язык…
Пятнице это не понравилось. Он ушел. Ушел, оставив меня стоять на коленях! Я тут же вскочил, побежал за ним и снова плюхнулся на пол, локти по швам, руки канделябрами, язык в сторону. Он отвернулся.
Ну ладно, на первый раз хватит. Главное – начало положено.
За всеми этими упражнениями я успел изрядно проголодаться. Я открыл банку собачьих консервов. С педагогической точки зрения это было, конечно, неверно; впредь нужно будет держать что-нибудь такое про запас, чтобы давать Пятнице в качестве маленькой награды во время наших дальнейших занятий, а то получается, что он, видите ли, ничему учиться не хочет, а я его тут балую. Ну ладно, в другой раз. Есть одному мне совершенно не хотелось.
И вот сидим мы с ним на полу, я достаю себе из банки холодную сосиску марки «Викинг», стараясь, чтобы с нее не очень капало, надкусываю ее так не спеша и…
Надо пригласить Юлию на обед! – ударило меня в голову. Это мысль взялась невесть откуда (наверное, из бурчащего живота) и была поистине гениальной! Она захватила меня целиком и полностью, вытеснив собою все остальное. Я только представил себе это: канун Рождества, двадцать четвертое, мы сидим за столом, обедаем! Как прежде… У меня закружилась голова.
Я перестал жевать.
Подумал о карпе.
Кролик, конечно, тоже сгодится, если его сделать с клецками. Мои мысли обратились к прошлому.
Конец года, неповторимое время! Время, когда можно как следует выяснить отношения.
Я медленно вытер руки о кухонное полотенце. Чуть позже я уже сидел за столом. сочиняя для Юлии приглашение на рождественский обед, который должен состояться 24 декабря в 12 ч.
Пятница лежал у моих ног. В своем послании поэтому я решил заранее намекнуть, что дома будет ждать большой сюрприз. Я оторвал ручку от бумаги, закрыл глаза и представил себе: вот Юлия приходит домой. Привет, скажу я. Никакого тявканья, дурацких прыжков, Пятница чинно сидит в углу и ждет своего выхода. Тогда я говорю ему: «Иди сюда, дан лапку, как мы с тобой учили». А он подходит и протягивает Юле правую лапу.
На какую-то долю секунды я задумался, а не приложить ли мне к приглашению несколько цветных фотографий, которые я сделал в начале месяца, – мы с Пятницей в гостиной и на балконе (я тогда поставил камеру на автомат).
Но потом передумал. Картинки, пожалуй, это лишнее. Зачем заранее отравлять радость будущей встречи.
Во избежание каких бы то ни было недоразумений (а также для того, чтобы Юлия не подумала, что я шучу и развожу с ней трали-вали) я приписал внизу большими печатными буквами: «ПОЛУЧАТЕЛЮ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПИСЬМЕННОЙ ГАРАНТИИ СВОЕВРЕМЕННОГО ПРИБЬПИЯ!»
После того, однако, как я прочитал этот текст Пятнице вслух, мне показалось, что он получился у меня немного суховатым, в нем появилась какая-то канцелярщина. (В зависимости от того, под каким углом зрения его читать, он мог показаться со всеми этими строгостями совершенно идиотическим!) Тогда я добавил еще одно примечание: «Просьба подтвердить своевременное прибытие обусловлена тем, что мне хотелось бы 24.12 заранее разогреть духовку до необходимой температуры и не перегреть ее. И кстати, о клецках. Их мне тоже хотелось бы на сей раз поставить вовремяна огонь. Я навел по этому поводу справки, обратившись к специальной литературе, в частности к голубой поваренной книге (на стеллаже в коридоре, верхняя полка, справа, ближе к ванной), которую мы подарили друг другу, если ты помнишь, на десятилетие нашей свадьбы, в 1977 г. В результате мне удалось разобраться с тем самым вопросом, который мы с тобою обсуждали в позапрошлом году на Рождество и поссорились. В порядке самокритики я снимаю все свои тогдашние возражения. Признаю свою глубокую ошибку и считаю, что был неправ! При моей методе они неизбежнодолжны были слипнуться!»








