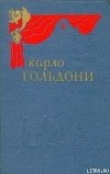Текст книги "Пьесы"
Автор книги: Ясмина Реза
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Вы же, вы говорите – не любите ничего, на все пеняете, но в вашей ярости, энергии поношения я вижу самое жизнь.
И, не в обиду вам будет сказано, вижу также и радость.
Я разговариваю с вами тайно. И в тайне говорю все то, чего не скажу на самом деле.
Как обратиться к вам – вы ведь на закате вашей жизни, а я – своей – с подходящими возрасту словами?
Читать, молчать.
Заметите ли вы?
Хоть раз вы посмотрели в мою сторону?
С начала поездки хотя бы раз подняли на меня глаза?
Когда я отворачиваюсь от вас, мне кажется, вы меня рассматриваете, а когда решаюсь молча к вам обратиться, оказываетесь далеко.
МУЖЧИНА. Возненавидел манеру Илии мне говорить о «Человеке случая».
Возненавидел так, что не мог больше его видеть.
Я повторяюсь. Ну и что?
Я повторяюсь. Да. Конечно, повторяюсь.
Я кстати только тем и занимаюсь. А что еше делать ?
На самом деле ты не употребил ведь даже слово повторяться, дорогой Илия. Если бы ты мне сказал ты повторяешься, я бы ощутил милое дружелюбие, в этом «ты повторяешься» я бы почувствовал нежность, нежную резкость суждения друга. Ты мне сказал через силу, весь корчась, словно женщина, это напоминает, это напоминает то, что ты уже писал. Что я уже писал и что ты обожал, Илия Брейтлинг!
Только объект поклонения поменялся.
Ты ведь обожал то, что было ново, «не комментировано», в преддверии моды.
Не оригинально, но ново.
Я говорю именно ново, не оригинально. Два совершенно разные понятия.
На самом деле тебе не хватало всегда терпения, скрытого терпения любить, и все.
Безумие новизны.
Что вы сказали? Нет. Но что сказали вы помимо?
Помимо чего?
И кому же ты теперь поклоняешься, милый Илия?
Я бы узнал, прочтя твои статьи… Бог знает сколько я уже не читаю твоих статей.
Да и читал ли? Даже когда ты, в твоих писаниях, открывши мою суперновизну, превозносил все худшее во мне .
Горько.
Могу ли я стать горьким человеком?
Нет.
ЖЕНЩИНА. Вы человек, с которым мне хотелось бы поговорить о некоторых вещах.
В общем-то не так часто встречаются люди, с которыми хотелось бы о чем-то поговорить..
Я была очень расположена к мужчинам, а после отказалась от их дружбы.
И мои лучшие подруги, единственные редкие подруги, это женщины.
Никогда бы не подумала, что в моей жизни будет именно так, что женщины для меня станут лучшими друзьями, чем мужчины.
Помимо друга Сержа, теперь умершего, у меня был еще друг.
Он звался Жорж.
Жорж был слегка влюблен в меня.
В той самой обаятельной манере, когда мужчины в вас немного влюблены, ни на что не надеясь. Я была замужем.
И мы так жили в этой дружбе, чуть озорной, в сообщничестве, как бы сказать… игривом.
Мы частенько смеялись вместе с Жоржем, господин Парски. Вы ведь знаете, как можно смеяться. Скажу в скобках, я смеюсь частенько вместе с вами.
И вот однажды Жорж пришел с женщиной.
Он посчитал естественной возможность ввести в наши отношения женщину. И допустил неосторожность – он сравнил нас.
Я не из тех женщин, господин Парски, которых сравнивают.
И не из тех, которых ставят на весы с кем бы то ни было.
Шестнадцать лет дружили, а он этого не уловил.
Хуже того, он со мной откровенничал.
Еще хуже того, он спросил мое мнение.
Шестнадцать лет приятно-двусмысленной дружбы обрушились в течение трех фраз.
Бедняга этого даже не заметил – бедняга, это я конечно же с обидой – поскольку был, а это самое невыносимое, был счастлив.
Счастлив, господин Парски.
Я держалась в рамках.
Возможно, это главная ошибка моей жизни, я слишком часто держалась в рамках.
Жорж женился на этой женщине – одной из своих пациенток, Жорж дантист – и родился ребенок.
Мы иногда обедали вдвоем.
Мы оба делали по-прежнему вид, что близки.
Жорж держался.
Разговоры наши, хоть и бессмысленные, потому что смысл разговора разумеется не в словах, все еще напоминали наши прежние разговоры.
Далее, обретя свободу, один Бог знает почему, со временем Жорж начал мне рассказывать о ребенке.
О неком Эрике.
То, что Жорж сподобился назвать сына Эриком для меня остается загадкой.
Мы ни разу не говорили о моих детях – их двое у меня – но он несомненно сообразил, что я ведь тоже мать.
Родители между собою могут изливаться как угодно, верно?
Эрик был просто ангелом, господин Парски. Ангелочком.
Его укладывали. Оп – и он спал.
Его будили. И он щебетал.
И сколько силы в маленьких его ручонках. Сколько нежности. И Эрик пел весь день с утра до вечера. И отец счастлив. И ребенок себя чувствует разумеется хорошо.
Однажды Жорж сказал с серьезным видом, слезами на глазах, когда гуляем с ним в колясочке по улице, мне жалко тех людей, которые встречаются нам и не улыбаются ему.
Слово колясочка у Жоржа на устах!
Ну наименее домашний из мужчин. Так мне казалось .
Мужчина, которого я видела скандальным, дерзким, стал ничем и растворился в своем отцовстве.
И сам, не помня о себе и обо мне, хвалился своим растворением.
Однажды вечером, и наконец я подхожу к тому, о чем хотела рассказать вначале, мы с ним пошли послушать сонаты Брамса. Мы уже давно не выходили вместе по вечерам.
После концерта он пригласил меня в таиландский ресторан который я очень любила а после ужина мы зашли выпить в бар Крийон.
Как вам рассказать? И под какой выпавшей из времени звездой прошел тот вечер? Не было ни слова об Эрике, ни о колясочке, ни о супруге-пациентке, словно в прошлом, парочка поддельных любовников держалась за руки, смеясь не без лукавства.
Он проводил меня домой. Пешком.
Пешком, у него не было машины.
Пока мы шли, мне удалось дать волю своему прежнему кокетству, воздух был мягок.
И у двери, где мы стояли бывало раньше долгие часы я вдруг почувствовала в нем торопливость…
Мы попрощались друг с другом ничего не значащим поцелуем, и я увидела вдруг, господин Парски, как он бежит, бежит, летит на поиски такси, уносится как сумасшедший к своей семейке, к своим, бежит как человек освободившийся от обузы –
МУЖЧИНА. Не знаю, почему бы мне опять не принимать Микролакс.
Я ведь был счастлив с Микролаксом.
Жан говорит, это опасно. А он врач? В конце концов не понимаю, почему мне слушаться своего сына, который сам не врач и недоволен своей сутулостью да еще курит.
Мне с Микролаксом было хорошо.
Я удовлетворительно регламентировал свой кишечник.
Странное слово, регламентировать. В мое время не говорили регламентировать.
А Микролакс мне помогал.
Хватит об этом.
Не могу вспомнить имени этого гипотетического зятя.
Анри? Жерар? – Реми?
Реми Следц.
Господин Следц, вы собираетесь жить с моей дочерью – глупо, они живут вместе не первый месяц.
Господин Следц, вы собираетесь – ох, не хочу произносить слово жениться, слово жениться мне не нравится –
Господин Следц, вы понимаете, я полагаю, беспокойство отца – если ответит что разумеется, я, на вашем месте, то придушу его этими вот руками.
Быть сдержанным. Не задавать вопросы, которые заставят меня в это ввязаться.
А прав ли я, что ввязываюсь в ее жизнь?
Что важно? Продолжительность? Или момент?
Что ценно?
В поезде, везущем его из Парижа во Франкфурт, Поль Парски по-прежнему не осознает ценности времени.
Не собираюсь я сдаваться.
Я не сдамся.
ЖЕНЩИНА. Однажды вы высказали в одной беседе, что как писатель вы не имеете своего мнения и не хотели бы говорить что бы то ни было ни на какую тему, и что вы глубоко уважаете философов, великих математиков, всех тех, кто мыслит мировыми категориями, и что вы сам всего лишь только восприняли кое-какие вещи и изложили, что удалось воспринять, и что у вас ни разу и ни в коем случае не возникало стремление или желание осмыслить мир своим пером..
Вы сказали в этой беседе, что размышления о мире не имеют абсолютно никакой ценности в осуществлении литературы.
Как лицемерно.
Из всего написанного вами я не отыскала ничего, что не являлось бы исключительно вашими мыслями о мире.
Сама жизненность ваша есть уже размышление о мире.
И ваше неприятие оттенков есть размышление о мире.
И ваша непригодность к мудрости есть размышление о мире.
Читая запись вашей беседы, я в результате ухватила странность: вы опасаетесь быть понятым, господин Парски.
Вы заметаете следы, вы сами фабрикуете защитное недопонимание, поскольку вами владеет страх, что вас могут понять.
Вы можете быть искомым, да.
Но понятым – нет.
Рассчитанная доза непроницаемости вас избавляет от этого великого несчастья и сохраняет неприкосновенным ваш престиж.
И в «Человеке случая», что в моей сумке, ваш герой, двойник ваш, заявляет что хотел чего-либо добиться лишь для того, чтобы иметь возможность отречься.
И когда же вы предполагаете отречься, милый писатель?
Я нигде не вижу следов отречения.
Ни в изящной вашей самоизоляции, ни в тех непринужденных и неумеренных комментариях, что вы даете о себе самом.
Ни, главное, в ваших писаниях.
В «Человеке случая», который у меня в сумке, вы ни на йоту не отступаетесь от иллюзий человеческого сообщества.
И если есть мальчик, не готовый к отречению, то этот мальчик – вы, мой бедный мальчик.
Как глупо перед вами робеть.
И как смешно.
«Господин Парски, обстоятельства жизни, счастливые обстоятельства жизни – нет, просто обстоятельства – обстоятельства жизни сложились так, что я вас повстречала в этом поезде; я не могу вам не сказать…»
А что ты скажешь?
Как ты можешь нагромождать такую гору медоточивостей?
«Господин Парски, я готова на любое безумство с вами».
Только чтобы увидеть выражение его лица.
Если станет смеяться, смеяться искренне, он тот, за кого я его принимаю.
И тогда не оглядывайся, Марта, жизнь коротка.
А если не рассмеется?
Не рассмеется, значит он не тот, за кого ты его принимаешь, так опусти стекло и выброси «Человека случая» в окошко.
И выбрасывайся сама, от стыда.
Если он искренне рассмеется?
Искренне рассмеется…
Что за мучение!
МУЖЧИНА. Невозможно спать в поезде.
Еще в постели, а уж в поезде.
Странная женщина, ничего не читает.
Женщина, ничего не читающая всю поездку…
Ну хотя бы журнальчик «Мари-Франс».
Написать для театра?
Нет-нет-нет… Ну, нет!
Как только эта мысль могла прийти мне в голову!
Наверное, что-нибудь в мозгу испортилось.
В театре, кстати, я переношу только бульвар.
По-настоящему.
В бульварном театре смеются естественно.
И не смеются этим адским смехом, который слышится теперь в зрительных залах, очагах культуры.
Смех, смеющийся оттого, что мудро знает, отчего смеется.
Смех спорадический, «продвинутый».
Смех Илии Брейтлинга в «Мере за меру».
Ну да. Теперь Илия смеется именно так.
Это ново. Он не всегда смеялся так. Нет-нет, ведь было время, когда Илия в толпе смеялся естественно.
Время, когда Илия бы разговаривал со мной о «Человеке случая» на кухне в три часа утра с пятнадцатым бокалом, а я жадно его слушал.
Да существует ли сегодня в целом мире, да, в целом мире хоть одно существо, способное эту книгу прочитать?
ЖЕНЩИНА. Я не в лучших отношениях с Надин, женою Сержа.
У Сержа были увлечения, и она знала, что я это знала.
Она думала, что я его благословляла.
Жаль, что наши отношения не сложились.
Надин уважала мою дружбу с Сержем.
Она умная женщина.
Все изменилось, когда у Сержа появились увлечения.
Увлечения – слишком уж сильно сказано. Да ладно.
Надин, старея, превратилась в тяжелый танк. А когда женщина становится тяжелым танком, мужчина начинает чаще поглядывать по сторонам.
Я вам рассказываю о Серже, господин Парски, поскольку Серж – один из ваших персонажей.
Он вас не любил, но разве б ваши персонажи, прочтя вас, полюбили?
Представьте что Сраттмер читает «Человек случая».
Наверное, он бы потерял терпение на второй странице.
Как и Страттмер, Серж мучился бессоницей.
Однажды ночью он не мог заснуть, ворочался-ворочался в постели, и чтобы успокоиться стал думать об Аушвице.
Представил себе неудобные подстилки, запах параши, тесноту, ты-то вот здесь, говорил он себе, в мягкой постели, в чистых простынях, и нет вонючих ног соседа перед носом, и не надо вставать выносить поганое ведро – так спи же!
Спи, мой славный Серж!
И уже засыпая он вдруг сказал себе, как так! Мысли, которые должны меня преследовать и не давать мне спать – я применяю их вместо снотворного!
Что же, ужас, в котором я не принимаю участие, стал для меня успокаивающей мыслью?!
Он решил описать этот конфуз. Поднялся, чтоб найти бумагу.
Не смог ее найти.
Я разбудил Надин, сказал он мне, а ей же, отдадим ей справедливость, не надо думать об Аушвице, чтобы заснуть, и я сказал, да как же это можно, как можно, я сказал, сказал мне Серж, и ты ведь видишь, что я не волнуюсь, я говорю об этом не волнуясь, да как же можно чтобы во всем доме не было бумаги ?
Да как же можно спать? И крепко спать!
Вы Марта – мы всегда были на вы, Серж на семнадцать лет старше меня, так что мы с ним всегда были на вы – вы Марта спите плохо, да, я знаю, и это есть краеугольный камень нашей дружбы. А Надин спит. Это как мания. Все спит.
А раньше с этой женщиной можно было общаться ночью.
Когда-нибудь я сочиню теорию о спящих людях.
В тот день мы обедали вместе – в ипохондрии Серж вас превосходил – и я сказала ему вы хорошо выглядите. Как так хорошо выгляжу! Да я не сомкнул глаз всю ночь и хорошо выгляжу?! Может быть дело в пигментации?!
И вышел в туалет проинспектировать свой цвет лица.
Перед смертью он мне сказал, я хочу чтобы на моих похоронах не было произнесено ни единого слова.
Будьте любезны, будьте там и проконтролируйте.
Что же до музыки, мне бы хотелось Шумана, но не хотелось бы быть излишне романтичным.
Так если честно, господин Парски, что, Серж – не один из ваших персонажей?
Боюсь я, господин Парски, что Сержа мне ужасно не хватает.
МУЖЧИНА. Подумать только, я не знал Дебюсси столько лет!
За тридцать лет ни одной вещи Дебюсси.
Позавчера я более-менее разобрался с «Лунным светом».
Если учитель предложил «Затонувший собор», то был, наверное, под впечатлением моей игры.
Правильно, что снова сел за рояль.
Имело место созревание… Внутренний всплеск…
Как только Натали могла сказать, что Юрий музицирует лучше меня?
Вот дефект слуха!
Да, конечно, я не берусь за те же вещи, что господин Юрий Коглофф. Я не берусь за Скрябина, не играю «Веселый остров».
Я слишком люблю музыку.
А он играет даже «Скарбо».
И все фальшиво, все не в такт, и половину нот съедает.
Как старый еврей, беженец, играющий в кабаках.
Собственную мою дочь обвели вокруг пальца.
Она говорит что я не умею пользоваться педалью.
Она права.
Я кстати пользуюсь ей все меньше и меньше.
Мало пассажей, где требуется педаль.
Даже у Шуберта. У Шуберта прекрасно – я обхожусь в этом «Экспромте», так сказать, без педалирования.
Играю его очень чисто. Да, с педалью, конечно, идеально, если умеешь пользоваться. Но и без педали совсем неплохо, даже хорошо.
Юрий умеет пользоваться педалью.
Японка счастлива, когда Юрий садится к роялю.
Юрий играет для кого попало.
Ни капли целомудрия.
Чем больше он растягивает, тем милее японке.
Я ведь действительно могу приняться за «Затонувший собор».
Успехами я обязан двум обстоятельствам.
Во-первых я читаю лучше с каждым днем. Благодаря Баху я привык к разнообразию, скорости, опережению в левой руке.
А во-вторых мне удается себя слышать.
Легко слышать других. А вот самого себя слышать – в этом и есть самая большая трудность.
Надо сказать учителю, чтоб проработал со мной несколько «Лесных сцен».
Всегда чувствовал Шумана. Теперь созрел.
«Вещая птица», вот что надо мне сыграть.
Вот следующий мой кусок.
Был бы художником, нарисовал бы это женское лицо.
Лицо волнующее. Холодность… нет – безразличие волнующее.
Женщина, отдающаяся фантазиям.
ЖЕНЩИНА. Когда Серж перед смертью мне сказал, что хотел бы, чтобы на его похоронах играли Шумана , но что он боится показаться слишком романтичным, я рассмеялась.
Я рассмеялась естественно. Однако он мне сказал, как же вы можете смеяться? Вы разве сами не помните, когда вам оперировали бедро и вы были уверены, что не выйдете из наркоза, вы мне сказали, если вдруг умру, не публикуйте, главное, мой возраст в «Фигаро»!
Так кто же из нас двоих легкомысленнее?
Мы легкомысленны вплоть до того света.
Принять то факт, что существо, нами любимое, умрет.
Принять то, что мир не досчитается любящего нас существа…
Мои родители ушли.
Ушел любимый муж.
Умерло несколько друзей.
И умер Серж.
Принять то, что ты не властвуешь над временем и одиночеством.
Правильно решила, что надо покраситься перед отъездом.
В прошлый раз вышла слишком светлой, но в этот раз все получилось хорошо.
Правильно сделала, что одела желтый костюм. Совсем не холодно, я зря боялась, а придает таинственность.
И если бы этот дурак-писатель соблаговолил поднять на меня взгляд, увидел бы меня во всей красе.
Уже одно это приносит удовлетворение.
Вы правда думаете, что человек не изменился с каменного века?
Горю желанием у вас спросить. Вы утверждаете это на протяжении всего романа «Человек случая», и что же, вправду думаете, что развивалось только его знание?
Разве не вы придумали теорию, что знание не меняет ничего. Конечно, нет, но излагаете ее с такою горечью. Так горьки ваши чувства.
Что я рассказываю вам так настойчиво – хотя и тайно – про Сержа, так это потому что множество вещей ведут меня от вас к нему и от него к вам.
Как-то я позвонила ему в дурацком возбуждении после падения Берлинской стены. Он мне сказал, хорошо, да, ну и что? Это падение изменит людей к лучшему?
– В конце концов я спрашиваю себя, а не примешивалась ли толика ревности к его антипатии к вам; его наверное раздражало то, что я отыскивала в вашем творчестве черты его характера и его мысли – В другой раз он сказал мне о китайцах с площади Тяньянмень, плевать мне на студентов из Китая, мне больше по душе иранцы.
Предпочитаю транс правам человека.
Серж во всем чрезмерен, как Страттмер, и как вы.
Ни капли меры.
Притягательность, основанная главным образом на недостатках.
В какой тоске я собирала вчера чемодан!
А у мужчин похожая тоска?
Тоска сегодня утром.
Тоска на вокзале.
Женщина, путешествующая из Парижа во Франкфурт с единственной книгой– «Человек случая» – такая женщина глубоко печальна.
Хотелось бы, чтоб мне однажды объяснили, почему грусть набрасывается неожиданно, когда все вроде бы идет как надо.
Итак, достаем книгу.
Достаю книгу. Располагаюсь так, чтобы он видел. Не сможет оставаться равнодушным. Не сможет видеть, как я лезу в его душу в двух шагах и не отреагировать. Зачем вы едете во Франкфурт?
Книжная ярмарка? Нет. Прежде всего сейчас вроде бы не сезон, а писатель вашего сорта, изысканный дикарь, не ездит на книжную ярмарку.
Что можете вы делать в этом городе?
Бог мой, сделайте так, чтоб он заговорил.
МУЖЧИНА. Зачем это она едет во Франкфурт?
Встретиться с родственником? Работать?
Любовник, работающий в нефтехимической промышленности.
У этой женщины не муж, а любовник. В нефтехимической промышленности. Отлично.
Если только она просто-напросто не немка.
И возвращается к себе домой.
Она не немка, нет.
А почему? А почему она не немка?
Во всяком случае, не из Франкфурта. Не немка, нет-нет-нет. Немки не смотрят вот так вот в окно. И эта женщина куда-то едет. Не возвращается.
Заговорить с ней?
Что сказать?
Какая разница, немка она или кто-нибудь еще? Нет-нет, есть – червь меня гложет и я должен знать!
Заговорю.
(обращается к ней)
Мадам, прошу меня простить, нельзя ли несколько приоткрыть окно?
ЖЕНЩИНА. Да, здесь жарко. Разумеется.
Вы вняли!
Ради пустяка вы вняли!
Ради трех слов, бессмысленных, ничего не меняющих в высшем течении вещей и времен.
О Боже, я хотя бы раз молилась вам, ничего не прося?
Возможно, нам не следует знакомиться, господин Парски.
Зачем же рисковать, что же, если вы мне не понравитесь, к несчастью, мне придется разлюбить ваши произведения?
Мне говорят, что творчество и сам человек не связаны столь тесно.
Как это может быть?
Мне следовало бы… следовало бы что-нибудь прибавить, а не фальшиво улыбаться. Так это было неожиданно.
А сейчас он снова углубился в свои мысли.
Невежа.
Но в конце концов я тоже ведь имею право нарушать молчание.
Хотя бы раз.
Но что сказать?
Ужасная легкомысленная банальность как раз и подошла бы.
Только чтобы ему не показалось, что я очертя голову кидаюсь в разговор.
Вслед за окном?…
МУЖЧИНА. Француженка. Я был в этом уверен.
Француженка. Голос волнующий.
Чуть странный.
Любовник – дирижер. Почему бы и нет? Он будет дирижировать «Преображенную ночь».
Потом поедете ночевать в Висбаден.
А в пятницу в Майенс, где купите картину, вас изображающую, малоизвестного итальянца шестнадцатого века.
Название картины «Портрет и сны Джиованны Альвисты».
Слегка наклонились, на три четверти в сумерках и смотрите в окно на неразборчивый пейзаж с мостом.
Вы встали словно вкопанные оба у антиквара перед этой картиной. Поскольку ведь там, на холсте, меланхоличные при лунном свете, но несомненно ваши черты, ваши особенные глаза, глядящие на вещи эдак настороженно-пренебрежительно.
Вы покупаете картину. Нет, не вы, дирижер покупает картину.
И говорит вам, что повесит к себе в спальню, где сможет ежедневно и совершенно безнаказанно ее разглядывать.
А вы смеетесь.
Вы смеетесь и пытаетесь припомнить, кем вы были, когда вы были Джиованной Альвистой.
Веточка жизни среди многих прочих, малюсенькая точка времени среди иных ненужных одиночеств, наваленные веточки, вязанки сложенные на дороге…
Горько.
Зачем было оплачивать Биарриц для мадам Серда?
Что вдохнуло в меня такую щедрость?
Ее баклан-сынок там тоже был. Она надеялась спасти его от глупости, подарив мотороллер.
Всегда жалел о вспышках добродетели.
Всем «благородным» телодвижениям в дальнейшем мной всегда находились липовые мотивы их осуществления.
Эта совсем никакая мадам Серда после развала коммунизма.
Мадам Серда существовала лишь противопоставляя себя красным.
Что может сделать в таком случае Биарриц?
Натали говорит, что… как же все-таки его зовут?
Следц. Следц без ума от «Прохожего среди многих».
Мне говорят о книгах, написанных тридцать лет назад!
Я уж не помню, что там. Честно не помню.
Ему понравился «Прохожий среди многих», который всем понравился. Конечно, он прочел его две недели назад, для него это сейчас, Поль Парски сейчас, а для меня это произведение чужое.
Недоразумение во времени.
Все, что мы делаем, застаивается. Каменеет. И остается жить лишь для других.
Произведение человека – это то, что наиболее удалено от него во времени.
Во-первых, почему он прочитал «Прохожий среди многих»? Вместо «Ремарки», например, гораздо лучшей. Не говоря о «Человеке случая».
Который бы я кстати не одобрил. Слишком ново.
Как бы то ни было, по мне так лучше что он раскопал «Прохожего», а не накинулся на «Человека случая».
Набрасываться на «Человека случая» до нашей встречи было бы чудовищной ошибкой.
… «Господин Следц, поездка во Франкфурт предоставила мне возможность поразмышлять о нашем положении…»
Как это нашем? Он плевать хотел на «мое» положение.
Вот что меня в нем не устраивает! Он должен был подумать обо мне!
ЖЕНЩИНА. Люблю поездки.
Выйдя во Франкфурте, я сделаюсь другой: человек приезжающий всегда меняется.
Именно так мы превращаемся , из одного в другого, до конца.
Господин Парски, вы обратили на меня взгляд особым образом, и был знак вопроса в свечении ваших глаз.
На краткое мгновение вашей жизни, возможно даже неощутимого вами, уверена, что не была вам безразлична.
Какой был ваш вопрос?
Заранее отвечаю да.
Да, это я.
Да, та, которая однажды тайно унесет мир, где вы есть, да, это я, я унесу ваш свет, ваше лицо, ваши веселые и грустные часы, ночи и дни, что носят ваше имя, всю бездну времени, превращенную в прах.
Да, это я. Да, та что вас любила, что разрисовывала вас по-своему, что рассматривала каждую вещь под вашим беспрестанным руководством, я вас сотру, вас унесу в свое забвенье и не оставлю ничего от вас и ничего вообще.
Вот мой ответ пока вы обращаете на меня взгляд и разговариваете о сквозняке.
У меня брат, и он живет в Париже. И он старше меня.
Мы постоянно говорим о других людях, поскольку мы ведь слеплены из них, не правда ли?
Вы как писатель знаете об этом лучше многих.
Мой брат живет в Париже, в прекрасном здании в Семнадцатом округе.
Холл его здания вымощен плитами белыми, бежевыми и черными.
Он живет в здании двадцать пять лет, и все двадцать пять лет, в каждый день, данный нам Богом, брат шагает лишь по светлым плитам и чередует по очень точной и всегда неизменной схеме белые с бежевыми.
Ни разу за двадцать пять лет не наступил на черную плиту.
И не позволяет сопровождающим его ходить по черным плитам, хотя они гораздо притягательнее.
Когда случайно он встречается с консьержкой – ей он не смеет навязывать свой запрет – то закрывает глаза, чтобы не присутствовать при святотатстве.
О ней он мне сказал, что он , что просил хозяев дома, чтобы ее заменили, поскольку, я цитирую, она – женщина безответственная и попирает шахматную доску наперекор здравому смыслу.
Мой брат уверен, что порядок в мире зависит от безупречности его прохода.
Порядок в мире, что включает в себя все возможные встречи, в том числе, господин Парски, и нашу, в этом поезде Париж-Франкфурт.
И если я посмею в свою очередь обратиться к вам , то только потому что средь великой путаницы мой брат и я поставили как полагается свою ступню на соответствующий камень.
Ну ладно. Хватит философствовать.
Проехали Страсбург. За дело.
Фразу банальную. Нет.
Я вынимаю книгу.
(Вынимает из сумки «Человек случая»).
Вот смеха будет, если он не заметит.
Давай, Марта, манера чтения пооригинальней.
Незаметно и неотвратимо наглядно.
Ох, сердце бьется!
Мне двенадцать лет – Ну и поездка!
МУЖЧИНА. Сколько раз в молодости я думал, ах старость! – счастие – покой – не печататься больше!
Какой лопух!
Ах старость! Ну и что я вижу?
Парня со сварливой рожей. Типа, что закатывает скандал, как только старый друг Брейтлинг позволяет хотя бы тень сдержанности.
Нет-нет. Это был вовсе не тень.
Не следует недооценивать.
И если то, что говорят о нас, нам безразлично, к чему упорствовать в занятии, подлежащем оценкам извне?
Старик, подверженный суду себе подобных, приговоренный изображать удовольствие, что бы ни сказали.
Но перед кем же? Перед кем?
Она читает.
…Она читает «Человека случая»!…
Вот это да…
Где она там?
На странице… странице… 120?…
Вот это да…
Страттмер лежит в больнице.
Он встретил Ревенса. Она уже прочла главу о счетной болезни. Или читает.
Нет, не смеется, значит все, уже прочла. Хотя ведь может же она читать и не смеяться. Ну, нет.
Она бы засмеялась, я уверен. Она уже прочла.
Ведь невозможно хоть бы раз не улыбнуться на счетной болезни.
Улыбается! Улыбается! Она на ней!
Страттмер встречает Ревенса, а тот ему рассказывает о счетной болезни, которая и у Страттмера тоже – еще один больной.
Не смотри так упорно. Она смутиться.
Вот это да -
Она не знает, кто я. Нет, конечно.
Она не читала бы с таким невинным видом. Она не знает, кто я.
А почему она не начала читать сразу после отъезда?
Не интересно было. Нет. Достаточно увидеть ее лицо.
Изображать удовольствие для кого? Для кого, малыш Парски? Для этой, стало быть, случайной спутницы по поезду, молчащей женщины, ниспосланной тебе судьбой, чей взгляд ты ловишь умоляющими зрачками?
Она читает «Человека случая»!
Действительно неординарно.
Я знал, что в этой женщине есть что-то.
Не открывать, кто я?
Почему не начала читать сразу после отъезда?
А потому что думала.
Во Франкфурте она порвет со своим дирижером.
Она раздумывала об условностях разрыва.
Терминологических условностях разрыва. Слова в их отношениях всегда тщательно взвешивались.
Она порвет со своим дирижером, а «Человек случая» – книга-свидетельство этих мгновений.
Не открывать ей, кто я? Несомненно.
Но не останется ли у меня потом горький осадок?
В порядке разнообразия. И что мне даст эдакий изыск?
Лишит очередного удовольствия, вероятно?
Да это и не изыск вовсе, ох любишь ты себе польстить, скорее деликатность, даже робость.
А приятные ощущения, что я смогу извлечь из этого нерядового события, путем обычного воспоминания о нем или упоминания в рассказах собеседникам, будут ли полными?
Не будут.
Я должен открыться.
Только наверное в два такта.
ЖЕНЩИНА. «…Я, Страттмер, почитаю себя как бы загрязненным по отношению к своей дочери. Я постоянно боюсь ее инфицировать. Убирая на кухне рыбные очистки, я вижу треть зеленого лимона. Я облизываю его, потому что мне нравится этот вкус, он мне напоминает Мексику. Я кладу его на стол. Я говорю себе, ты же не можешь оставить эту грязь в таком доступном месте. Ты не можешь его выбросить, ты заплатил за него 1 франк 75 сантимов, это зеленый лимон, вещь редкая. Тогда я вгрызаюсь в него и высасываю до тех пор, пока он не становится годным к выбрасыванию. В течение пяти минут оральной кислотности я подчинялся электрифицированному танцу, который навязывали мне мои члены, и я воспользовался этим, чтобы подсчитать ручки стенного шкафа – детали, которые я как ни странно никогда прежде не пересчитывал».
Как странно, что я говорила вам о своем брате.
Счетная болезнь – именно то, чем болеет мой брат.
Мой брат страдает счетной болезнью, и в этой связи он тоже принадлежит к вашему миру.
О Боже мой, все что вы говорите мне так близко!
А вы так далеки.
Я сбилась с толку.
Вы мне не скажете ничего.
Было ведь время, господин Парски, когда мне не было необходимости пускаться в такие сложности, как книга, сумка, недостаток храбрости…
Я обладала красотой, которая говорила все за меня.
Он увидел.
Он смотрит на меня, он видел книгу.
Давай.
Не зря одела я желтый костюм.
Не зря забралась я в это купе.
Досчитаю до двадцати и скажу…
А что ты скажешь, Марта?
Я скажу…
Найди слова, а после досчитай.
МУЖЧИНА. Писатель с именем едет напротив незнакомки, читающей его последнюю книгу.
Милый сюжетец для рассказа.
Несколько староват.
Мог бы быть написан каким-нибудь…, ну кем бы это?…
Каким-нибудь Стефаном Цвейгом. Да… Или Мигелем Торга – да.
Мужчина смущен.
Мужчина, похваляющийся, будто покончил с ребяческими штучками, внезапно проникается нескромностью ситуации.
Женщина привлекательна.
Был бы он смущен, будь женщина непривлекательной?
Будь женщина непривлекательной, он укрепился бы в своем отвращении к тому, что называют публикой, отродью этому, не дай Бог повстречаться. Будь откровенен. Ты никогда ни для кого, ни для чего не сделал. Творить в пустоте невозможно.
Бутылки в море швыряют с яростной надеждой утопающего. Производить, давать чего-то миру значит ощущать магию возможного.
Твой выход.
МУЖЧИНА.Мадам, чем объяснить эту потребность – сочинять или мечтать о других жизнях?
Просто существовать по-вашему недостаточно?
ЖЕНЩИНА. Месье, не знаю, что вы подразумеваете под «просто существовать2. Просто не существует.