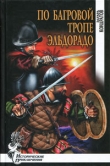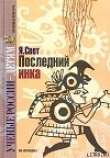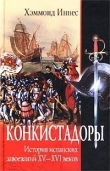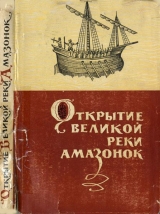
Текст книги "Открытие великой реки Амазонок"
Автор книги: Яков Свет
Соавторы: Э. Виленская,В. Карандашов,Г. Журавлева,Б. Малкес
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Глава III
в коей сообщается о достоинствах земли и народа провинции Кито-у о том» что такое те коричные деревья, кои были обнаружены капитаном Гонсало Писарро и бывшими с ним испанцами; о том, какая великая река – сей Мараньон, и о многочисленных островах, что на ней имеются.
Земля Кито плодородна и густо заселена, коренные обитатели той провинции и лежащих окрест нее земель – воинственны и ладно сложены, главное поселение христиан в том губернаторстве – город Санкто-Франсиско [-де-Кито] – находится по другую сторону от линии экватора, почти что в четырех градусах (Кито расположен в 0°14′ ю. ш. и в 78°31′ з. д).
На свои войны и побоища индейцы выходят со знаменами, и полки их идут в превосходном порядке, у них много труб и гайт (Гайта – старинный музыкальный инструмент) или таких музыкальных инструментов, кои издают звуки, похожие на звуки гайт, барабанов и рабелей (Рабель – старинный музыкальный инструмент, представлявший собой нечто вроде трехструнной лютни, по которой водили смычком), и люди эти, украшенные пучками перьев, сражаются каменными топорами, дротиками, копьями в тридцать пядей длиною, камнями и пращами.
Я узнал также от этого капитана Орельяны и его товарищей, что страна, где растут коричные деревья, находится в семидесяти лигах на восток от Кито, а от Кито на запад лигах в пятидести или, может, немного более или менее находится Южное море и остров Пуна (Южным морем называли тогда Тихий океан у берегов Центральной и Южной Америки (название это сохранилось до сих пор на некоторых современных картах, например английских). Остров Пуна находится в заливе Гуаякиль). Листья сих деревьев, равно как и чашечка, на коей держится желудь или ягода – плод коричного дерева, – зело отменная пряность, однако сами желуди и кора Дерева отнюдь не так хороши. Ростом оные деревья подстать оливковым, листья их похожи на лавровые, только чуть пошире, цветом же своим те листья будут позеленее, чем у оливковых деревьев, и более желтые. Деревьев сих испанцы Гонсало Писарро во время похода встретили мало, и росли они друг от друга в отдалении, в горах и краях бесплодных и непроходимых, и той пряностью все остались премного довольны, как тем, что она вкусна и добротна, так и тем, что была оная самой что ни на есть тонкой корицей, схожей с тою специей, какую ввозили и ввозят по сю пору в Испанию и Италию из Леванта и какая употребляется по всему свету. Их форму, то есть форму тех желудей-плодов коричного дерева, кои являются в нем самым ценным, я уже описывал в книге IX, главе XXXI, а также и изобразил их внешний вид. Однако весьма обескуражило тех воинов то, что нашли они оной корицы совсем мало, и посему некоторые из них говорят, что ее там самая малость, а другие сказывают обратное, ибо произрастает оная во многих краях и провинциях. Но много ли ее там или мало, покажет время, как это уже было с золотом на сем нашем острове Эспаньола, на коем спустя несколько лет после прибытия туда испанцев было найдено немного золота, но зато впоследствии во многих частях острова было открыто и поныне действует множество богатейших копей, из коих было извлечено не счесть сколько тысяч песо золота, и копи эти никогда не истощатся до скончания света, так что вполне может статься, что то же самое произойдет и с упомянутою корицей.
Сколь велика и непомерна река Мараньон, можно судить по заверениям капитана Франсиско де Орельяны и его сотоварищей, кои по ней плавали и кои утверждают, что в тысяче двухстах лигах от впадения в море оная местами достигает ширины в две-три лиги и вообще по мере того, как они по ней спускались, она все время расширялась да становилась все шире и шире из-за множества всяких других вод и рек, кои вливаются в нее то по одну, то по другую сторону с обоих берегов, и что в семистах лигах от устья она имеет ширину в десять лиг и более. Да и от этого места и ниже ширина ее все более возрастает до самого моря, при впадении же в оное она образует множество устьев и островов, и число тех протоков и островов таково, что открыватели не сумели и не смогли его на ту пору даже себе и представить. Тем не менее все они утверждают, что все эти устья вплоть до подлинных берегов на западе и на востоке или все пространство, что заключено между ними, должно считать рекою, устье коей своими рукавами и пресными водами раскинулось вширь на сорок лиг или более; пресные воды из реки глубоко вдаются в соленые морские воды, так что, будучи даже в двадцати пяти лигах от берега, в открытом море, путешественники брали в нем пресную воду, которую приносит туда сказанная река.
Они повстречали и повидали без счету всяких обитаемых островов, жители коих вооружены весьма разнообразно: одни сражаются кольями, дротиками и каменными топорами, другие – при помощи луков и стрел; однако у лучников да стрелков, которые обитают на реке выше двухсот лиг от впадения оной в море, отравы нет, зато те, кои живут ниже по течению, стреляют ядовитыми стрелами и употребляют дьявольскую и наизлейшую отраву.
Все эти народы – идолопоклонники, поклоняются солнцу и приносят ему в жертву голубей и голубок да чичу, то есть вино из маиса или касаби (Касаби – хлеб, который индейцы приготовляли из юки), которое они пьют, и прочие напитки. Все это они ставят к подножию своих идолов, каковые представляют собой всякие статуи да человеческие фигуры огромного роста. С некоторыми из своих врагов, коих они берут в плен во время войны, они поступают следующим образом: отрезают им руки по запястье, а кое-кому даже по локти и оставляют их так до тех пор, пока они не испускают дух; после же смерти их сжигают на кострах или очагах и пепел развеивают по ветру; кроме того, некоторых из пленных оставляют в живых и заставляют потом на себя работать в качестве рабов (Неизвестно, поступали ли так со своими пленниками индейцы, но вот о зверствах, которые учиняли в Новом Свете испанские конкистадоры, летописи той поры упоминают нередко. Например, один из капитанов Беналькасара по пути в Кундинамарку (1538), дабы не тратить времени на то, чтобы расковывать свалившихся от усталости индейцев-носилыцикоп (все эти несчастные, так же как и индейцы-носильщики Гонсало Писарро, были скованы за шею общей цепью), приказал… отрубить им головы.
Другой конкистадор-Педро де Вальдивия – в 1550 г. в Чили, «желая дать острастку туземным племенам, прибег к жестокому средству – он велел отрубить правую руку и вырвать ноздри у каждого из 400 захваченных им пленных (Альтамира-и-Кревеа, История Испании, т. II). А вот как описывает Лас Касас поведение конкистадоров на острове Эспаньола, где Озьедо жил много лет: «Христиане своими конями, мечами и копьями стали учинять побоища среди индейцев и творить чрезвычайные жестокости. Вступая в селение, они не оставляли в живых никого – участи этой подвергался и стар, и млад. Христиане бились об заклад – кто из них одним ударом меча разрубит человека надвое, или отсечет ему голову, или вскроет внутренности. Схвативши младенцев за ноги, ударом о камни разбивали им головы; или же кидали матерей с младенцами в реку… Воздвигали длинные виселицы так, чтобы ноги [повешенных] почти касались земли и, вешая по тринадцать [индейцев] на каждой, во славу HJ честь нашего искупителя и двенадцати апостолов, разжигали костры и сжигали [индейцев] живьем. Иных обертывали сухой соломой, привязывая ее к телу, а затем, подпалив солому, сжигали их. Другим… отсекали обе руки, и руки эти подвешивали к телу, говоря этим индейцам: «Идите с этими письмами, распространяйте вести среди беглецов, укрывшихся в лесах…»
Немало злодеяний, о чем не раз уже говорилось прежде, совершил и Орельяна). Народы, живущие по всей сказанной реке, человечьего мяса не едят, пожирают его лишь лучники, из тех, что стреляют отравленными стрелами, и эти лучники-карибы и едят они человечину с удовольствием.
Когда умирает кто-либо из туземцев (из тех, что обитают повыше лучников), то его обертывают полотнищами из хлопчатой ткани и хоронят тут же в собственном доме (Этот обычай, так же как и его вариант – захоронение покойников в глиняных сосудах под полом хижин, – был у некоторых индейских племен Верхней и Средней Амазонии и в позднейшее время). Люди те хорошо обеспечены и запасают много провизии впрок, на время сбора урожая, кроме того, они держат съестные припасы в высоких постройках – «барбакоах», поднятых над землею на рост человека, ибо им нравится, чтобы оные были высокими (Свайные постройки возводились для того, чтобы во время половодья уберечь продовольствие и жилье от затопления). Там у них хранятся маис и сухари, которые они делают из маиса или сушат из касаби или же из того и другого зараз, вяленая рыба, много ламантинов и оленьего мяса.
У них в домах много всяких украшений, удивительно тонких пальмовых циновок, множество всяческой превосходной глиняной утвари. Спят они в гамаках, дома у них чисто подметены и прибраны, строятся они из дерева и кроются соломой. То, что я сказал выше, относится к жилищам, которые встречаются на побережье или поблизости от моря, в других же местах, кое-где выше по реке, они возводятся из камня, причем по тамошним обычаям двери в домах делают с той стороны, где восходит солнце.
Страна Кито (Очевидно, под «страной Кито» Овьедо разумеет здесь Амазонию) изобилует съестными продуктами, о которых я уже говорил, а также всеми плодами, кои только известны на материковой земле; местность там здоровая, воздух чистый, вода вкусная, и там к тому же – тепло, а индейцы в тех краях миролюбивы и цвет их [кожи] приятнее, чем у тех (не столь темных), которые обитают по берегам Северного моря. Там растет множество превосходных трав и иные из них похожи на те, что произрастают у нас в Испании. Испанцы – соратники капитана Орельяны и он сам – сказывают, что растения, кои они видели, представляют собой не что иное, как тутовую ягоду, вербену, портулак, кресс, заячью капусту, чертополохи, порей, ежевику; кроме того, они видели многие другие растения, которые были им неведомы, но которые со временем станут известны. Из животных, они говорят, имеется множество оленей, ланей, коров, тапиров, муравьедов, кроликов, мелких попугаев, тигров, львов и всяких других – как домашних, так и диких, кои встречаются повсюду на материковой земле. Так они рассказывают, например, о больших перуанских овцах и о других-поменьше, о животных, что ходят в упряжке, о вонючках, от которых отвратительно пахнет, о сумчатых мышах и о тамошних собаках, которые не лают (Нельзя сказать, какие именно растения и животные имеются в виду, поскольку, как и в случае со «львами» (см. комментарий 28 к «Повествованию» Карвахаля), первые европейцы в Новом Свете давали диковинным представителям американской флоры и фауны названия уже известных им растений и животных Старого Света).
Глава IV
в коей речь идет о владениях королевы Конори и об амазонках, коль скоро можно их так называть, об их государстве и о его могуществе и величине, о сеньорах и государях, подвластных этой королеве; о великом государе по имени Карипуна, чьи владения, как говорят, изобилуют серебром, и о многом ином, коим мы заключим повествование об открывателях, что проплыли по реке Мараньон совместно с капитаном Франсиско де Орельяной.
В том повествовании, которое, как я уже сказал, сочинил фрай Гаспар де Карвахаль и которое включено в главу XXIV последней книги этой истории, среди прочих примечательных вещей говорится о государстве женщин, кои живут одни, сами по себе, без мужчин, и ходят на войну; женщины эти могущественны, богаты и владеют обширными провинциями. В других частях этой всеобщей истории Индий уже упоминались некоторые области, где женщины-полновластные владычицы и где они правят своими государствами, совершая в оных правосудие, владея оружием и пуская его в ход, когда им заблагорассудится; так я упоминал в главе X книги XXIV о некой королеве по имени Орокомай. Точно так же, говоря о губернаторстве Новая Галисия (Новой Галисией испанцы называли Северную Мексику. ) и о завоевании оного (речь об этом шла в книге XXXIV, главе VIII), я описывал владения Сигуатан, – обитателей их, если только мне сказали правду, можно назвать амазонками. Однако эти последние не отрезают себе правую грудь, как это делали жены, коих древние прозвали амазонками, как о том сообщает Юстин (Юстин – римский историк конца II – начала III в), а он говорит, что они сжигали себе правую грудь, дабы она не служила им помехой при стрельбе из лука. Но и первое и второе, то есть то, чего касался я, повествуя о владениях Орокомай и Сигуатан, – ничто в сравнении с тем, что сообщают люди Орельяны о своих беседах с женщинами, каковых именуют амазонками. От одного индейца, коего капитан Орель-яна забрал с собой (он умер впоследствии на острове Кубагуа), они получили сведения, что земли те, над которыми эти жены властвуют и на которых не сыскать ни одного мужчины, тянутся в длину на триста лиг, и все сие пространство населяют одни лишь женщины; над всеми этими землями владычествует и ими правит некая женщина по имени Конори. В ее владениях и вне их, в тех, что находятся с ними по соседству, все ей беспрекословно подчиняются, и там ее очень почитают и боятся. Под ее рукой многие провинции, кои ей повинуются и признают ее своей государыней и служат ей как вассалы и данники. Подвластные ей племена живут в том краю, где владычествует некий великий властелин по имени Рапио. Подчинены ей также страна другого государя, которого кличут Торона, провинция, коей правит другой сеньор по имени Ягуарайо, и провинция, принадлежащая Топайо, а также земля, которой управляет другой муж, некий Куэнъюко, и другая провинция, которая зовется, так же как и ее сеньор, – Чипайо, и еще одна провинция, где власть держит другой сеньор, по прозванию Ягуайо.
Все эти сеньоры или государи – могущественные властители и властвуют над обширными землями, и все они находятся в подчинении у амазонок (если можно их так называть) и служат оным и их королеве Конори. Это государство женщин находится на материковой земле между рекою Мараньон и рекою Ла Плата, коей настоящее название Паранагуасу (Paranaguagu) (В переводе на русский язык река Ла Плата (Rio de la Plata) значит Серебряная река (сейчас так называется общий расширенный эстуарий рек Парана и Уругвай). Парана-Гуасу (на одном из индейских языков значит «Большая река»); в настоящее время такое название носит один из правых рукавов дельты реки Парана. Сомнительно, чтобы Овьедо имел здесь в виду указанные реки).
По левую руку от того пути, коим плыли вниз по Мараньону эти испанцы и их капитан Франсиско де Орельяна, посреди реки, по соседству с землей амазонок, лежат, по их словам, владения некоего могущественного сеньора. Имя сему государю – Карипуна, владеет он многими землями, и много других он покорил, и находится у него под рукой не счесть сколько всяких других сеньоров, кои ему повинуются, и страна его богата серебром.
Сейчас отнюдь еще не все ясно и нельзя себе представить со всей очевидностью истинное значение [сего открытия], и если я пишу здесь о нем, то не потому, что оное имеет отношение к губернаторству Кито (хотя именно из Кито, как я уже о том молвил, и выступили в поход те испанские идальго, кои свершили сказанное открытие), а лишь затем, чтоб пояснить события, которые должны произойти далее и которые будут описаны впредь, где об этих областях и провинциях будет рассказано более подробно и обстоятельно. И, таким образом, дабы лучше во всем разобраться, дабы описание открытия сей реки Мараньон и того, что увидели капитан Франсиско де Орельяна и другие люди, проделавшие столь великое, столь небывалое и опасное плавание, доставило бы наибольшее удовлетворение, я посоветовал бы читателю, дочитавши до сих пор, не идти далее, а заглянуть в главу XXIV последней книги этой Всеобщей истории Индий. Там же мы рассмотрим и то, что принесет с собой время и что пополнит наш рассказ о Мараньоне и о провинции Кито, каковая является основным предметом сказанной главы.
Глава V
трактующая о злоключениях и гибели капитана Франсиско де Орельяны и многих других, кои, вверив свою судьбу оному, поплатились за это собственной жизнью.
Возвели этого капитана Франсиско де Орельяну в аделантадо и правителя реки Мараньон и дали ему четыреста человек с лишком и неплохую армаду, и прибыл он с той армадой к островам Зеленого Мыса, где из-за болезней и по собственному своему нерадению потерял изрядную часть из тех людей, что служили под его началом. И с тем, что у него было, не считаясь ни с какими препонами, пустился он далее на поиски тех самых амазонок, коих никогда не видывал, но о коих раззвонил на всю Испанию, чем и посводил с ума всех тех корыстолюбцев, что за ним последовали. И в конце концов добрался он до одного из устьев, через которые Мараньон впадает в море. Да там он и погиб, и с ним вместе большинство людей, которых он привел с собой; те же немногие, что выжили, добрались затем, как я уже сказывал, совсем изнемогшие, до нашего острова Эспаньола. И так как этот капитан не свершил ничего путного, чем можно было бы похвалиться и что заслуживало бы благодарения, достаточно с вас, читатель, этого краткого отчета об этом скверном деянии, творцом коего был упомянутый рыцарь, и сознания, что пагубным помыслам последнего пришел конец, равно как и мозгу, их измыслившему. А по сему перейдем к другим кровавым и суровым событиям, коим самое время прийти на память и описывать кои – моя обязанность (Оставив в стороне существо дела, то есть перипетии второй экспедиции Орельяны в Амазонию – о ней было рассказано во вступительной статье – остановимся на причине столь отрицательной оценки Овьедо этой экспедиции и вообще всей деятельности Орельяны. Эта оценка (мы неожиданно находим ее в V главе IV книги «Всеобщей истории») резко расходится с прежними высказываниями Овьедо. Вспомним хотя бы, что в главе II Овьедо пишет о первом путешествии Орельяны, как об «одном из величайших дел, когда-либо совершенных людьми», а в письме к кардиналу Бембо, как о «случае, который являет собой не меньшее чудо, чем то, кое произошло с сим кораблем «Виктория», то есть сравнивает его с кругосветным плаванием Магеллана.
Главу эту Овьедо писал уже в Испании. Из Санто-Доминго на родину он выехал в августе 1546 года, а первые вести о гибели экспедиции Орельяны (ноябрь, 1546 г.) в Амазонии могли достичь испанских поселений в Новом Свете лишь в ноябре – декабре этого года. Очевидно, эту главу Овьедо писал именно в то время, когда весть о гибели Орельяны пришла в Испанию; он, вероятно, закончил ее весной 1548 г., так как в его истории нет сведений о казни Гонсало Писарро 10 апреля 1548 г. Надо ли говорить о том, сколько проклятий обрушили на голову погибшего Орельяны коронные чиновники и алчные идальго, мечтавшие поживиться за счет сокровищ амазонок, само существование которых отныне ставилось под сомнение? И реакция была тем более бурной, что Орельяной (а он пустился в плавание вопреки категорическому запрету должностных лиц, покинув на берегу главного коронного инспектора) были уже недовольны и раньше, и недовольство это неуклонно возрастало по мере поступления все новых сведений о бесчисленных бедах, которые преследовали его экспедицию с самого начала, – и при переходе к Канарским островам, и на длительной стоянке у острова Тенерифе, и на пути к островам Зеленого Мыса. По всей видимости источником информации для этой главы послужило письмо некоего лиценциата Серрате, помеченное в Санто-Доминго 25 января 1547 г. Автор письма под тягостным впечатлением от прибытия на Эспаньолу немногих уцелевших участников злосчастной экспедиции винил в неудаче Орельяну и сообщал, что в тех краях не обнаружено ни золота, ни амазонок, ни чего-либо достойного внимания. Вот эти-то настроения и отразил Овьедо в V главе, которая в этом смысле является красноречивым документом эпохи) («Виктории» – единственному из кораблей Магеллана удалось достичь берегов Испании и тем самым завершить первое кругосветное плавание).
Глава VI
в которой кратко излагаются события, причастные к войнам, которые происходили в землях и морях перуанских, неверно именуемых южными, и кои послужили к немалой пагубе для дела господнего и их цесарских католических величеств и нанесли ущерб короне и королевскому скипетру Кастилии, оным же (испанцам, а равно и индейцам-обитателям тех краев (При написании этой главы Овьедо вряд ли использовал новые первоисточники – в ней он, по-видимому, лишь более подробно и систематически изложил то, что писал об экспедиции Гонсало Писарро в страну Корицы прежде.
Овьедо, первым описавший поход Гонсало Писарро в страну Корицы, был несравненно менее осведомлен о нем, нежели Сарате, Гомара, Гарсиласо де ла Вега и другие хронисты, которые, хотя и писали об этом походе позже – после смерти Гонсало Писарро, но, живя в Перу, могли обращаться за сведениями непосредственно к его бывшим соратникам (в этом – одна из причин их симпатии к Гонсало Писарро и антипатии к Орельяне). Поэтому мы дополняем Овьедо несколькими выдержками из указанных авторов).
Сие губернаторство [Кито] Гонсало Писарро получил из рук своего брата маркиза дона Франсиско Писарро, который передал и отказал ему оное властию и полномочиями их величеств (См. примечание на стр. 180), и сие касалось не только губернаторства Кито, но и губернаторств Пасто и Кулаты (Кулата – другое название города Сантьяго-де-Гуаякиль) – залива, гавани и острова Пуна вместе со всеми находящимися в тех местах поселениями, – и все это было дано ему во владение. Будучи уже в Кито, он получил сведения о долине, где произрастает корица, и об озере короля, или касика, Эльдорадо и порешил отправиться на поиски корицы и озера, заведомо зная от индейцев, что воистину было оное богатейшей сокровищницей.
И вот, произведя огромные траты (По данным Гомары и Гарсиласо де ла Беги, 50 тыс. кастельяно золотом (60 тыс. дукатов)), он тронулся в путь и повел за собой более чем две сотни людей пешими и конными; он пробирался неприступными и нехожеными горами, карабкался на них, цепляясь руками, с великими усилиями и безмерным трудом, переправлялся через многие большие реки, наводя переправу всякий раз с неизменной ловкостью и со значительными для себя опасностями, покуда не вышел в некую провинцию, которая называется Самако (Правильно – Сумако) и лежит в семидесяти лигах от Кито (Сарате сообщает, что по пути из Кито Гонсало Писарро «миновал селение, которое называется Инга, и вступил в землю кихов – последнюю землю, которую завоевал Гуайнакава в северной стороне… И после того как они отдохнули несколько дней в селениях индейцев, случилось такое великое землетрясение с толчками да потоками воды и бурей, с молниями, зарницами да ужасным грохотом, что земля разверзлась во многих местах и свыше пятисот домов провалилось; и так поднялась река, которая там протекала, что нельзя было через нее переправиться и идти на поиски пищи, по каковой причине многие страдали от голода». Спустя 40–50 дней «по выходе из тех селений [войско] прошло горы, цепи их были высоки и холодны». Там, повествует Гарсиласо де ла Вега, «на них выпало столько снега и началась такая стужа, что многие индейцы замерзли, ибо было на них одежды совсем мало, да и та почти ничего не прикрывала. Испанцы, дабы уйти от мороза и снега и выбраться из той скверной местности, бросили на произвол судьбы скот и провиант, кои с ними были, имея в виду возместить потерю где-нибудь в индейских селениях». Однако вплоть до Сумако им все попадались необитаемые места). Изнуренные, претерпев множество мытарств, они вынуждены были там остановиться, чтобы отдохнуть и собраться с силами. В тамошнем краю они нашли много еды, несмотря на то, что местность окрест была суровая и сплошь изрезанная горными хребтами да ущельями и что в топях там тоже не было недостатка. Местные же жители там ходят голые, селятся они среди гор, в домах, которые стоят вразброс (В Сумако, «расположенном на склонах вулкана», войско стояло два месяца. В этом селении «дожди лили без перерыва на протяжении более чем двух месяцев, так что у них [у людей Гонсало Писарро] сгнила одежда, которую они носили, и многим пришлось обрывать листья с деревьев, дабы прикрыться» (Фернандо Писарро-и-Орельяна)).
Отдохнувши немного и набравши себе кое-какого пропитания на дорогу, сии испанцы возобновили розыски корицы; с собой у них было несколько «языков» (lenguas), кои уверяли, что доставят их туда. И дабы не утруждать этим [тяжелым походом] всех, Гонсало Писарро приказал следовать за собой и теми проводниками не более восьмидесяти ратникам, однако с тем, чтоб остальные не теряли его из виду. И вот так брел он семьдесят дней пеший, ибо те места были совсем непроходимы и лошадям там делать было нечего.
В конце этого перехода были обнаружены коричные деревья. Эти деревья – большие (попадаются также, впрочем, и малые) и растут они вдалеке одно от другого среди диких гор; их листья и те плоды, что на них есть, имеют привкус корицы, однако же кора и прочее у них на вкус не хороши, и уж если имеют вкус, так одного лишь дерева. И так как деревьев, ими найденных, к тому же оказалось мало, они не обрадовались своей находке, им казалось, что польза от той корицы – ничто в сравнении с тем великим трудом, который они положили, разыскивая ее в этих гиблых местах. Оттуда они направились в другую провинцию, которая зовется Капуа; из нее и послал Гонсало Писарро за людьми, коих прежде покинул. Вскоре вступил он в пределы другой земли, которая называется Тема. Из нее он попал в другую провинцию, именуемую Огуама (Очевидно, Омагуа), жители которой обитают по берегам некой могучей реки, дома их стоят у воды, поодаль один от другого. Этот народ разъезжает в каноэ вдоль берегов и носит короткие рубашки из хлопчатой ткани; земли же в сторону от реки труднопроходимы из-за множества болот (80 человек во главе с самим Гонсало Писарро окружным путем «из Сумако отправились в [провинцию] Кока, где отдыхали 50 суток и водили дружбу с господом» (Гомара), то есть дожидались подхода главного войска (по другим источникам – 2 месяца). «Через те края протекает очень большая река, которая, как полагают, – главная из рек, кои, сливаясь, образуют реку, и одни именуют ее Рио де Оро (Золотой рекой), а другие – Мараньоном» (Гарсиласо). 50 лиг люди Гонсало Писарро шли ее берегом и «видели, как река делала с оглушительным грохотом прыжок в двести человеческих ростов, – вещь удивительная для наших [людей]» (Гомара). Через 40–50 лиг она сузилась до 20 шагов, и в этом месте удалось перекинуть мост, однако индейцы обороняли противоположный берег с особым упорством и мужеством. Затем прибыли в «Гему – самый бедный и бесплодный край изо всех, что встретили по дороге» (Гарсиласо), и «наконец, вступили в землю разумных людей, кои ели хлеб и одевались в хлопковые ткани; земля та была зело дождливая, дождь лил два месяца кряду не переставая, и нельзя было сыскать места, где бы обсушиться; из-за этого да из-за топей и скверной дороги построили бригантину…» (Гомара)) (Гарсиласо де ла Вега называет ее Кука, а Овьедо – Капуа. Индейское слово «кока» и поныне часто встречается в топонимии тех мест (название реки, города и т. д.). Произошло оно от названия кустарника кока (лат. Erythroxylon Coca), листья которого содержат кокаин).
Тут распорядился Гонсало Писарро соорудить бригантину, на которой можно было бы плыть по той реке и везти недужных, а также аркебузы, арбалеты, прочее вооружение и снаряжение да иные вещи, потребные для предприятия; кроме того, испанцы располагали пятнадцатью каноэ, которые к этому времени удалось набрать у местных жителей. В дальнейший путь двинулись целой армадою, но все же лодок для размещения людей не хватило. Всякий раз, когда индейцы видели бригантину и [слышали] грохот от аркебузных выстрелов, они обращались в бегство.
Большая часть христиан шла берегом реки вслед за армадою. И вот как-то сказал капитану Гонсало Писарро его заместитель капитан Франсиско де Орельяна, будто проводники говорят, что на пути, коим они следуют, ждет их полное безлюдье, а посему более разумным было бы остановиться и запастись загодя и впрок припасами на дальнейшую дорогу, и так и было сделано. Однако съестного, которого там удалось набрать, было недостаточно. Еще сказал ему капитан Орельяна, что он с семьюдесятью людьми ради службы его величеству и для успеха похода названного Гонсало Писарро берется, отправившись на бригантине и лодках-каноэ вниз по реке, дойти до слияния тех рек, где, по полученным сведениям, можно будет найти пропитание и что он запасет сколько сможет оного и возвратится через десять-двенадцать дней к войску, а Гонсало Писарро и его люди [тем временем] должны спуститься по течению; он же, Орельяна, вскоре вернется назад, вверх по реке, со спасительным грузом; таким образом, войско сможет продержаться долее и осуществить свои намерения, не испытывая недостатка в пище. Подходящим показался Гонсало Писарро тот выход, который предложил ему Орельяна, и он дал ему свое соизволение и людей и все, в чем тот нуждался и чего просил, и повелел ему вернуться, в срок, который он сам назвал, и ни в коем случае не заходить далее того места, где сливаются реки, на берегах коих, по словам проводников, они должны найти съестное. И так как Гонсало Писарро должен был переправляться через две большие реки, он приказал ему [Орельяне] оставить себе четыре или пять каноэ, из тех, что у того были с собой, с тем, чтобы на них можно было перевезти шедших с ним людей. Тут Орельяна пообещал, что именно так он все и сделает, и с этим отбыл. Но вместо того, чтобы оставить каноэ и возвратиться с провизией, он с дружиною, которую дал ему Гонсало Писарро, пустился вниз по течению и увез с собой оружие, разные инструменты и тому подобное, ослушался [Гонсало Писарро] и отправился искать Северное море (В своей жалобе на имя короля от 3 сентября 1542 г. Гонсало Писарро писал: «… И в уверенности, что капитан Орельяна все содеет так, как говорил, потому что был он моим заместителем, я сказал [ему], что буду стоять на месте, [а он] чтобы отправился за едою и смотрел за тем, как бы вернуться через двенадцать дней, и ни в коем случае не заходил в другие реки, а только доставил еду и ни о чем более не помышлял, ибо люди с ним пошли только за этим; и он мне отвечал, [что сам понимает] – он никоим образом не должен заходить далее того, что я ему сказал и вернется с едою в срок, мною указанный. И с сим доверием, кое я питал к нему, поручил я ему бригантину, несколько каноэ и шестьдесят людей, ибо дошли до нас вести, что много индейцев ходят на каноэ по реке. Я сказал ему также, что поскольку проводники объяснили, что в начале безлюдных мест встретятся две очень большие реки, через которые нельзя соорудить мосты, то чтобы он оставил там четыре или пять каноэ, на коих остальное войско могло бы переправиться [на другой берег], и он мне пообещал все сделать так и с этим отбыл…