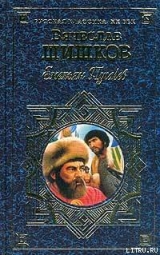
Текст книги "Емельян Пугачев, т.1"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 75 страниц)
Вскоре после отъезда Хлопуши и Шигаева в Бердах произошло кровавое событие.
С субботы на воскресенье, после церковной всенощной, после жаркой предпраздничной бани и сытного ужина с довольным возлиянием, жители слободы крепко уснули. Спал и весь пугачевский дом, лишь чуткие старухи, жившие по соседству с царскими покоями, слышали сквозь сон, как где-то близко прозвучали выстрелы, затем почуялись отчаянные женские вопли, еще выстрел – и все умолкло.
Бабка Фекла вскочила с печки, перекрестилась, поскребла пятерней седую голову, прошамкала: «Наваждение!» – и снова повалилась на печку. Бабка Анна тоже закрестилась, зашептала: «Чу-чу пуляют!.. А либо сон студный пригрезился».
– Эй, мужики! – крикнула она. – Слыхали?
Но вся изба сытно храпела и во сне постанывала. «Пригрезилось и есть», – подумала бабка, но все же подошла к оконцу, заглянула.
Ночь стояла лунная. Голубели сыпучие снега, туманились далекие просторы, поблескивали мертвым пламенем остекленные окна избенок. Два запорошенных снегом вороньих пугала на огороде были, как два безликих привидения с распростертыми руками. И этот огромный огород, примыкавший к дому Пугачева, походил на заброшенное кладбище: взрытые, местами обнаженные от снега гряды темнели, как могилы. В глубине виднелась покосившаяся баня, будто старая часовня на погосте, а молодые вишни с голыми ветвями напоминали надмогильные кресты.
Проезжавший на рассвете задворками крестьянин взглянул из саней в сторону бани и с великого перепугу обмер. Затем он прытко повернул лошадь и, работая кнутом, помчался обратно вскачь.
Вскоре сбежались к бане любопытные.
Раскинув руки, на снегу лежала, в одной сорочке, босая Лидия Харлова. Возле нее, припав правой щекой к ее груди, лежал малолетний брат Харловой – Николай. Оба они залиты были кровью, пораженные пулями: Харлова – в грудь, брат ее – в голову.
Люди ахали, озирались по сторонам, переговаривались шепотом:
– Царь-то батюшка выгнал барыньку-т. Он дворянок-то не шибко привечает. Ох, ох, ох! Мальчишку-то жалко, несмышленыш еще.
Когда доложили о происшедшем Пугачеву, он сбледнел с лица и так выкатил глаза, что окружающие попятились.
Кто же посмел посягнуть на его, государя, священные права живота и смерти? Уж не Лысов ли опять?!.
Весь этот день Пугачев был замкнут и мрачен, он не выходил из дому, не принимал никого и к себе.
– Ах, барынька, барынька! Горе-горькая твоя участь, – бормотал он, вышагивая из угла в угол по золотому зальцу.
Следствие по делу о разбое вел атаман Овчинников, а при нем состояли Чумаков и Творогов. Было опрошено немало казаков и жителей слободы. Многим известно было, что Харлова, после того как Пугачев однажды ночью прогнал ее от себя, оказалась в руках возвращавшейся с пьяного пиршества компании во главе с Митькою Лысовым. На другую ночь три загулявших татарина да хорунжий Усачев выкрали Харлову у Митьки. Произошла свалка, в которой молодой татарин был убит, казак же из лысовской шайки сильно ранен, а сам Лысов отделался ссадинами. После скандала он бегал с завязанной рукой по улице, грозил, что перевешает всех татар, а барынька все равно будет его.
На допросе Лысов вел себя вызывающе, орал на следователей, угрожал расправиться с каждым по-свойски, а в деле запирался. При этом он рассуждал так:
– Убили паскудницу – туда ей и дорога! Эка, подумаешь, беда какая! Одной дворянкой на свете меньше стало, ну и слава Богу!.. Ха! Да ежели бы ее не убить, из-за нее полвойска перегрызлось бы. Она крученая, она и мне чуть нос не оторвала, – и он слегка подергал пальцами свой вспухнувший, в сизых кровоподтеках, нос.
– Не ври-ка, не ври, Митя! Это татарин тебя долбанул в нюхалку-то, – сказал Творогов хмуро.
Так ни с чем и отпустили Лысова, хотя все были уверены, что убийство – его рук дело. На совещании порешили: «батюшку» в подробности следствия не посвящать, а доложить только, что виновные не сысканы. О Митьке также ни слова, а то «батюшка», пожалуй, самолично с плеч голову ему смахнет – не шибко он уважает Митьку. А ведь Лысов как-никак выборный полковник, и ежели его казнить, войско-то, чего доброго, всю дисциплину порушит.
Под конец совещания подоспел Чика, да Горшков, да Мясников Тимоха. Чужих в избе не стало, за кружкой пива рассуждали про то, про се.
– Хорош-то он хорош, слов нет! – сказал Иван Творогов, когда речь зашла о государе, и криво улыбнулся. – А только вот насчет бабьего подола знатно охоч величество! Надо бы его нам сообща боронить от женских-то...
– Либо его от баб боронить, либо баб от него хоронить, – громко всхохотал Чика, покручивая пятерней курчавую, чернущую, как у цыгана, бороду. – К тебе, Иван Александрыч, кажись, Стеша твоя прибыла?
– Прибыла намеднись, – с неохотой ответил Творогов.
– Вот и держи ее под замком, а то батюшка дозрит, заахаешь, мотри.
Творогов был ревнив, а свою Стешу он считал писаной кралей.
– Мы, поди, воевать сюда пришли, а не с бабами возюкаться, – проговорил он с досадой.
– Вот это правда твоя, – подал голос пожилой, степенный Чумаков.
– Ха-ха-ха! – еще громче залился большеротый Чика. – А пошто ж ты, Федор Федотыч, вдовую-то дьячиху к себе из Нижне-Озерской уманил?
– Ври, ври больше, ботало коровье! – буркнул в бороду Чумаков, но глаза его по-молодому вспыхнули.
Тогда все разом загалдели:
– Не таись, не таись, Федор Федотыч! Видали твою духовную, вчерась она курей на базаре скупала. Всем бабочка взяла: и личиком, и станом, и выходка форсистая... Ну а ежели и култыхает по леву ногу да косовата чуть – изъяну в том большого нету.
Чумаков отмахивался, бормотал:
– Для хозяйства она у меня, при домашности. Куда мне – старый я человек, – и потягивал из кружки хмельное пиво.
Стали перемывать друг другу косточки. Оказалось, у многих крали заведены были. У Падурова – татарочка, у Творогова – собственная красоточка, законная супруга, у Чики – шестипудовая купеческая дочка, у Тимохи Мясникова тоже какая-то скрытница живет... «Вот только батюшка наш на вдовьем положении».
– Оженить бы, что ли, его? А то не приличествует государю со всякой канителиться, – сказал захмелевший Чумаков.
– Царям на простых жениться не положено, из предвека так, – с серьезностью возразил атаман Овчинников, – а какую-нито присуху подсунуть ему – это можно.
– А ведь, братцы, пригож наш батюшка-то! – выкрикнул похожий на скопца Горшков. —За него каждая пойдет. Эвот как ехал он намеднись, избоченясь, Карагалинской слободой, молодки все глаза проглядели на царя-то. А одна бабенушка до та пор голову поворачивала, глядючи на батюшку, аж в позвонках у ней хряпнуло. Ей-ей!
Все разбрелись по своим делам. Атаман Овчинников – с докладом к Пугачеву. Караул у дворца отбил в его честь артикул ружьем, но Овчинников передумал идти с парадного, прошел по черному ходу на кухню – была у него надежда перекусить, очень проголодался он.
Ермилка сидел на кухонной лавке под окнами и в зажатой меж коленями кринке сбивал мутовкой масло из сметаны. Толстые губы его в уголках были запачканы сметаной. Завидя входившего атамана, он вскочил, сунул на стол кринку, одернул фартук и, шлепая губами, крикнул атаману честь-приветствие.
– Вот что, братейник, – сказал Овчинников, – выйди-ка ты да почисти моего коня.
Ермилка взял скребницу со щеткой и тотчас же удалился. Овчинников, улыбчиво прищурив на Ненилу серые глаза, погрозил ей пальцем, молвил:
– А ты, слышь, толстая, не шибко батюшке-то досаждай великатностью-то своей женской, а то ты, краснорожая, присосешься, как пиявица, тебя и не оттянешь. А ему силушки-то на иные подвиги потребны.
Ненила бросила ухват, подбоченилась и зашумела, надвигаясь грудью на Овчинникова:
– Да ты что это, атаманская твоя душа, меня, девушку, позоришь? Да я те, за такие твои речи, из живого полбороды выдеру!
– Экая ты глупая! – засмеялся Овчинников и присел к столу. – Лучше дай-ка мне перекусить чего-нито малость.
– Знаю я твою малость, – брюзжала Ненила. – Тебе бараний бок подай – ты и его за присест умнешь. Любите вы, атаманы, батюшку обжирать, в расход казну вводить.
Ворча, она все же кинула гостю рушник, а на стол поставила миску со снедью.
Овчинников, уплетая жареные куски баранины с кашей, говорил:
– Надобно жизнь батюшке устроить попышней да поприглядней. Поди, скучает он по этой... по Харловой-то?
– И не думает, – азартно заговорила Ненила. – Он арапельником кажинную ночь ее учил.
– Ну, уж и кажинную...
– А что ж, неправду говорю? Учил, да не выучил, зря только утруждался.
– Вот ужо надо будет предоставить сюда штучки две опрятных женщин, смазливеньких, – заговорил, отрыгивая, атаман, – чтоб обихаживали его величество, как полагается во дворце: и постель прибирать, и одежу подать да почистить. А то не по-царски он живет. Страмота!
– И не смей, и не смей, Андрей Афанасьич! – замахала на него руками Ненила. – Сама управлюсь... И не смей!
– Так ты же на кухне...
– И на кухне, и около батюшки. И разуть-обуть могу, я и в баньку могу свести... А чего ж такое? Он царь, я его раба. Его ублажать Бог повелел.
Ненила вдруг вскинула голову, прислушалась: в верхнем этаже заскрипела дверь на кухонную лестницу, вслед послышался голос Пугачева.
– Ненила, эй! Портянки-то просохли?
– Просохли, твое величество, просохли! – закричала снизу Ненила и засуетилась. – Отвернись скореича, Афанасьич, переодеться мне.
Горбоносый Овчинников, улыбаясь одними глазами, отвернулся к окну.
– Хоть бы занавесочку какую повесить, так не из чего. И переодеться негде, – говорила Ненила, торопливо меняя на себе платье.
Озорник Овчинников попытался было повернуться к ней, но дородная курносая красавица сердито заорала:
– Не пялься, пучеглазый! А нет, клюкой по харе съезжу... не посмотрю, что ты атаманишка! – Она быстро надела новую черную юбку, быстро накинула шелковый шушун с пышными сборами назади, повязала по черным волосам алую ленту, ополоснула руки, освежила водой разгоряченное лицо, сорвала с шеста портянки, подскочила к зеркальцу, заглянула.
А сверху снова нетерпеливый, властный голос:
– Да ты чего там, телиться, что ли, собралась?! С кем это лясы точишь?
– Бегу, бегу! – и Ненила, сотрясая лестницу, потопала наверх.
Вскоре направился туда и атаман Овчинников. У него до царя серьезный был разговор.
Обедали втроем: Пугачев, Падуров и Овчинников. Говорили о делах, о том, что завтра же надо отправить небольшие отряды в помещичьи села Ставропольско-Самарского края: барские запасы пощупать да на зиму в Берды провианту подвезти, а главное – мужиков на дыбки поднять.
– А как с барами мужики управятся, пускай к нам, в наше войско, идут, – сказал Овчинников.
– Высочайших указов надобно поболе изготовить, да чтоб попы в церквах народу оглашали, – проговорил Пугачев. – Ты, Падуров, подмогни Ванюшке Почиталину бумаги-то писать. Эх, Николаева нету!..
И, только начали «по второй», зазвенела за окном лихая казацкая песня, с гиком, с присвистом.
Стоявший при дверях Давилин бросился на улицу и, тотчас вернувшись, доложил:
– Максим Григорьич Шигаев из похода вертанулся, сто десять казаков с верхнеяицкой линии привел.
– Добро, добро! Покличь сюда полковника, – оживился Пугачев и подошел к окошку. На улице уже сгустились сумерки, валил хлопьями мокрый снег, и ничего там нельзя было разглядеть.
Вошел Шигаев, а с ним молодой казак Тимофей Чернов.
Шигаев перекрестился на старинную икону, мазнул концами пальцев по надвое расчесанной бороде и, отдав поклон застолице, сказал:
– Здорово, батюшка, ваше величество! Здорово, атаманы!.. Хлеб да соль!
– Милости просим, будь гостем! – и Пугачев дал знак рукой Ермилке: – Подмогни полковнику!
Чубастый Ермилка и вошедшая с киселем из облепихи рослая Ненила разом насели на покашливавшего Шигаева. Он был в дорожном, поверх кечменя, архалуке из верблюжины. За дальнюю дорогу архалук насквозь промок, сильно осел, не было возможности стащить его с вытянутых рук Шигаева.
– Ну, прямо как припаялись рукава-то! – надсадливо пыхтела Ненила.
– Потряхивай, потряхивай! – хрипел и кашлял полковник. – Ой, легче!
Ненила с Ермилкой работали, как два грабителя при большой дороге: архалук трещал по швам, полковник от дюжей встряски мотался во все стороны. Но, слава Богу, все обошлось не надо лучше: архалук уже висел на гвозде, а двое помогавших, и особливо сам Шигаев, дышали во всю грудь, будто приморившиеся кони.
– Присядь покамест, полковник, отдохни.
– Ну а ты, молодец, с чем пожаловал? – обратился Пугачев к молодому казаку Чернову, смирно стоявшему, каблук в каблук, подобно каменному изваянию.
– Осмелюсь доложить, мы Сорочинскую крепость взяли, – гаркнул казак, при каждом слове вздергивая головой и крепко взмигивая, как от сильного света.
– Кто это – мы? – прикрыв правый глаз, уставился Пугачев на молодца.
– А мы – это вкупе с четырьмя яицкими казаками.
– Не может тому статься, молодец, чтобы впятером этакую крепость взять!
– Истинно, не вру, ваше величество!
– Что же, один поп, что ли, крепость-то защищал? Чего-то не пойму я.
– Нет, поп не защищал, – ответил казак, – поп Кирилла сам первый присягу учинил вашему величеству.
– Ну, стало, один комендант защищал?
– И комендант не защищал. Комендант с дюжего испугу вышел навстречь нам с хлебом-солью... И вот, конечно, было дело так. Сорочинская, конечно, в ста в семидесяти верстах отсюдов. Вот мы и подкатили к крепости-то – я с четырьмя казаками яицкими да сто двадцать калмыков конных...
– Ха! – ударил себя по коленкам Пугачев и вместе с креслом повернулся к казаку. – Экой ты путаник, казак... Стало, не пятеро было на приступе-то, а сто двадцать, да вас пятеро!
– Во-во! – потряхивая рыжим чубом и все так же крепко взмигивая, охотно подтвердил казак Чернов. – Как есть – сто двадцать пять... А где же тут пятерым!.. Нешто пятерым с этакой крепостищей совладать!
Обескураженный допросом государя, казак почесывал затылок, глядел себе под ноги, покашливал.
– Ну а чего ж ты привез оттудова, какие трохвеи? С чем, мол, приехал-то?!
– А привез я с собой, конечно, две пушки, – сразу оживился казак, – пушки важнецкие, обе орленые, из меди литые, да еще тридцать пять бочек пороху, да два ящика ядер, да всю денежную казну на пяти подводах, конечно...
Все весело засмеялись, а казака от душевной натуги бросило в испарину.
– Экой ты, экой ты!.. – покрикивал Пугачев, наливая вина в стакан. – С этого бы и начал, с военной добычи. А то заладил: впятером да впятером... Молодец ты, видать, ухватистый, а путем балакать не можешь. На-ка, выпей! Ненила, поднеси молодцу на блюде. Пей, сотник Чернов!
– Я рядовой, ваше величество.
– Отныне будь сотником! Жалую тебя за старание за твое, что честь и славу воинства моего приумножил. Подойди к руке...
Падуров и Овчинников показывали жестами новому сотнику, что надо делать, но он не понимал. Тогда Ненила что-то шепнула ему, он шагнул к Пугачеву, повалился ему в землю и, стоя на коленях, поцеловал его руку.
– Спасибочко, царь-государь, от всей, конечно, казацкой души, от крови-сердца. Уж не погневайся!
– Встань, сотник. Ну, пей во здравие. Да погоди-ка... – Пугачев прошел в спальню, побрякал там ключами, вышел, подал сотнику золотой. – На, сотник. Старайся, – и, обратясь к Овчинникову: – А ты, атаман, распорядись одеть-обуть сотника поприглядистей. А пятерым казакам и калмыкам, что Сорочинскую брали, выдать по четвертаку и выкатить малый бочонок водки, пущай погуляют. А теперь, сотник, сказывай, как было дело.
– Было дело так, – начал Тимофей Чернов. – Я, конечно дело, въехал один в толпу жителей, стал объявлять им, что сам царь-государь идет в крепость. Прямо скажу – врать стал. Опосля того поехал я по городу, махая копьем, само-громко орал, чтобы все людишки выбегали за город со святыми иконами и чтобы во все колокола били. А кто, мол, встречать не пойдет, тех велено мне колоть даже до смерти.
Слушая рыжеусого воинственного казака, все приятно улыбались. Казак после стакана водки пришел в себя и заговорил складно. Пугачев покручивал бороду и поощрительно подмигивал ему; казак действительно докладывал сущую правду. Он рассказал, как на другой день толпа калмыков и пятеро казаков с белым знаменем стала подходить к Сорочинску. Народ высыпал из городка с хоругвями, с иконами, с попом Кириллом. А впереди всех – сам комендант с хлебом-солью.
– Тут я спрыгнул с коня, приложился, конечно дело, ко кресту и велел всем идти в церковь. Там приказал попу служить молебен за твое здоровье, батюшка, и всему народу присягу учинить. Опосля того народ войнишкою ополчился на кабаки и разбил, конечно дело, все вчистую. И содеялось от радости не приведи Бог какое веселье. Гулеванили двое суток. Опосля того забрали мы добычу и честь по чести вышли из крепости. Оной крепостью мы и кланяемся твоему царскому высокоблагородию.
– Величеству, – поправил Падуров.
– Тьфу... величеству! – спохватился казак.
– Вот, господа полковники, – приосанившись, сказал Пугачев, – как видите, крепости сдаются не токмо мне, а даже императорскому имени моему... А ты, сотник, бери пару бараньих биточков в карман – и айда на улицу, там пожуешь. Мы же выйдем к вам – смотр чинить!
Пугачев сунул жареное мясо в угребистую горсть сотника. Тот, приняв, пошел на цыпочках к выходу.
Затем делал доклад Шигаев, но Пугачев слушал плохо.
– Таперь, – восклицал он, прерывая Шигаева, – припасов у нас хватит, господа полковники, чтоб Рейнсдорпа как след быть пугнуть. Молодчина сотник Чернов! Всего привез. Однако довольно талалакать, пошли!
Домовитая Ненила, оставшись одна, стала гасить лишние свечи, брюзжала:
– И кисель не дожрали. Сколько сахару истрясла.
Любопытства ради она подошла к окну и, подняв волоковую раму, высунула голову на улицу. Липкий снег валил. Три ярких костра пылали. Невдалеке чернела виселица.
Овчинников подал команду, и две сотни приведенных им казаков с калмыками мигом вскочили в седла. У крыльца – на лафетах – две новые, доставленные Черновым, пушки, а слева, возле коновязей, весь облепленный снежными хлопьями, большой обоз с трофеями.
И как только показался на крыльце Пугачев, казаки и калмыки во всю глотку заорали:
– Ура!.. Алла!.. Ура!.. Бачке государю!.. Якши, якши!.. Здоров будь!.. Ура, Алла!..
Полетели вверх шапки, малахаи, заблестели в сильных руках сабли, замаячили пики. Даже пламя костров как бы приподнялось на цыпочки и вытянулось, чтобы ярким светом своим озарить вождя.
У Ненилы от приятного волнения захватило дух. Глядя сквозь умильные слезы на царя, на то, как народ приветствует его, она даже всхлипнула.
– Детушки! – взмахнув рукой, начал Пугачев громким голосом.
Глава XVВ густом тумане. Старец праведный Мартын. Мученики. Хлопуша вмиг озверел. Ванька Каин
По грязнейшим осенним, вдрызг разбитым дорогам, между Санкт-Петербургом и полосою мужичьего восстания, один за другим, взад и вперед спешили курьеры. Пересекая поперек Европейскую Россию, они безостановочно везли в столицу секретные пакеты от губернаторов казанского, оренбургского, астраханского, сибирского – с известиями о разгоревшемся мятеже. Эти пакеты адресовались в Военную коллегию, «в собственные руки» графу Захару Чернышеву. Ради соблюдения тайны курьеры держались в Петербурге под строжайшим надзором вплоть до обратного их выезда в Казань, Оренбург, Тобольск, Астрахань с повелениями, указами и манифестами.
Сведения, кои поступали в столицу с мест восстания, слишком запаздывали против фактов, и правящий Петербург, не знавший всей правды об успехах Пугачева, продолжал относиться к знаменательным событиям на Яике все еще пренебрежительно и высокомерно.
Так как война с Турцией все еще длилась, то, естественно, правительство опасалось обнаружить перед Европой свою слабость во внутренней политике и намеревалось покончить с восстанием одним ударом. Но для того удобный момент был уже упущен: ни Симонов, ни губернатор Рейнсдорп не смели пресечь мятеж в самом его начале.
И как ни старалось правительство все сведения о Пугачеве держать в глубокой тайне от иностранных при русской короне дипломатов, это ему не удавалось. Так, английский поверенный в делах Оакс Рихард сообщал лорду Уильямсу Фрезеру, что «хотя двор смуту на востоке России хранит в большом секрете, но повсюду известно, что один ловкий казак, воспользовавшись казацким неудовольствием в Оренбургском крае, выдал себя за Петра Третьего и число приверженцев его так велико, что произвело опасное восстание в этих губерниях. И вести оттуда все более и более неблагоприятные».
Для нанесения пугачевскому движению сокрушительного удара Военная коллегия, как уже было сказано, послала на место действия генерал-майора Кара и нетерпеливо ожидала от него добрых известий.
Но Кар двигался по плохим дорогам с крайним промедлением и лишь 20 октября достиг Москвы.
А вот посланный Пугачевым в Авзяно-Петровский завод простой человек Хлопуша, не в пример Кару, торопясь с честью исполнить данное ему его государем поручение, летел к месту назначения стрелою и вскоре достиг цели.
Весь душевный склад Хлопуши, все его мысли перестроились на новый лад. Ему стало безразлично, кто этот чернобородый детина: бродяга ли Пугачев, как оповещает всех губернатор, или впрямь Петр Третий, давным-давно ожидаемый народом. Кто бы он ни был, Хлопуша по-настоящему проникся верою, что назвавшийся государем человек стоит за правду, воюет противу правительства для ради народа, и он, Хлопуша, положил в своем сердце служить ему до последнего вздоха.
Хлопуша и с ним пятеро казаков и работный человек, пришедший к Пугачеву с Авзяно-Петровского завода, Дмитрий Иванов, правились заснеженною степью на восток.
Пряча от людей обезображенное лицо свое, Хлопуша был в сетке из конского волоса. Черная сетка эта, обхватывая борты шапки-сибирки, спускалась до подбородка. Такую снасть носят в таежных местах, спасаясь от укусов летучего гнуса.
На первом же привале Хлопуше довелось сетку снять – мешала принимать пищу – и повязать поврежденный нос тряпицей. Он сказал у костра спутникам:
– Ведь я сам не кто-нибудь, а работный человек, по паспорту – Соколов, а прозвище имею Хлопуша[100]100
Хлопушей зовется высокий деревянный шест, которым толкут рудную породу. – В. Ш.
[Закрыть] за свой, значит, долгий рост. А работывал я в разных местах и по Сибири хаживал. За многие побеги били меня кнутьями, последний же раз приговорили к вырезанию ноздрей. Ноздри-то режут вострым ножом, лишь бы знак сделать на человеке, а я палачу согрубил, «катом» обозвал его да обсволочил, так он, подлая душа, клещами полноса вырвал мне, всех хрящей решил.
Казаки соболезнующе причмокивали, качали головами, а заводской крестьянин Дмитрий Иванов сказал:
– Они, дьяволы, что палачи, что начальство, – нашего брата не больно жалеют! Я сам вот скрозь весь избит да исстеган. И в леву ногу пулей стрелян.
– Трудно на заводах-то, дядя Митяй? – спросил молодой казак, развешивая у костра онучи.
– У-у-у, Боже ж ты мой!.. Да не в пример хуже каторги. Недаром же сотнями народишко в бега бежит. И я три раза бегивал. Где-нито в избушке лесной укрытие имеешь либо землянку откопаешь. Летом-то еще ничего, а вот, как снег ляжет, нашего брата-беглеца ловить учнут – по снегу-то ловить сподручней: и следы видать, и дымок явственней обозначается. И посылают тогда противу беглецов розыскные команды из старых казаков да полицейских.
Была вечерняя пора. Накатывал густой туман. Становилось сыро и холодно. Все семеро сидели на дне глубокой, поросшей кустами и глухим чапыжником балке. Для сугреву то и дело подживляли костер. В котелках у огня прело баранье хлебово с крупой. Дядя Митяй, щурясь от дыма, снимал пену с похлебки деревянной ложкой.
Митяй широк в плечах, но невысок и сухопар, щеки впалые, глаза большие, строгие, как на старинных иконах, а борода рыжеватая, с сильной проседью. Весь какой-то постный, болезненный, он больше походил на заправского бродягу, нежели на заводского рабочего. И лишь большие крепкие кисти рук изобличали в нем добытую в труде силу.
– А и староват же ты, дядя Митяй, – сказал кривой казак Дылдин. – Поди, годков десятков с шесть наберется.
– То-то, милый мой, что нет. И сорока нету, а обличьем вишь какой. Заводская жизнь меня изжевала этак-то, исчавкала. Да мы, заводские, почитай, все скрозь хворые.
– Сколько же люду на вашем заводе трудится? – спросил озабоченно Хлопуша. Он сидел на войлочном потнике по-татарски, посматривал то в хмурое лицо Митяя, то на хвостатые огоньки костра.
Дмитрий Иванов, он же дядя Митяй, ответил, что Авзян основан был ровно двадцать лет назад графом Шуваловым, затем укуплен Евдокимом Демидовым, а всего работных людей по заводу значится до пяти тысяч душ.
– Многолюдство великое, – прогнусил Хлопуша. – А вдруг да не примут нас, сомнут да в домницы, в огонь-полымя?!
– Уж ты об этом, дружок, не пекись, – сказал Митяй. Он снял лаптишки, стал переобуваться в сухие онучи. – Меня заводские изрядно знают, не сумневайся. Да и мужиков-то на заводе таперича самая малость: кто лес валит да угли в куренях жжет, кто в шахтах руду копает, а на заводе-то, дай Бог, чтоб сот с пяток народу было.
Туман час от часу становился гуще. Вот скрылись лошади, хрупавшие вблизи костра овес, пропали иглистые очертания оголенного кустарника, замутнел, стал каким-то призрачным живой огонь в костре, а три казака, сидевших по ту сторону огня, потеряв облик человеческий, превратились в каких-то бурых чудовищ. Белый туман поглотил все пространство. Стало, как в бане, втугую насыщенной паром. Одежа у путников промокла, к лицам, к обнаженным частям тела липла влажная паутина, она проникала под рубаху и заставляла вздрагивать от пронизывающего озноба. С сучков кустарника, что поближе к костру, покапывала, как редкий дождик, прозрачная влага.
Путники изрядно продрогли, стали укладываться спать. Хлопуша и дядя Митяй улеглись бок о бок – седла в головы – на двух потниках, прикрывшись овчинным тулупом. Оба позевывали так, что трещали скулы, но сон бежал от них. Дядя Митяй, почесываясь и поохивая, неторопливо, душевным певучим голосом рассказывал:
– Родители-то мои, чуешь, пришлые из-под Казани крестьяне, насильно их пригнали на завод. От горя да с непривыку они и умерли. А мой братеник, парень по девятнадцатому году, у домницы работал. Как-то выпустили из домницы жидкоогненный чугун, он и потек по канавкам, жарища сделалась, как в пекле. А братеник-то мой, Пашка-то, чуешь, прочь, наутек, да возьми запнись и брякнись со всех ног поперек огненной той канавки... Брюхом упал... Так, веришь ли, напополам его пережгло. Схватили его люди за руки да за ноги – так надвое и раздернули...
– Неужто пополам?
– Как перерубило! Одним пыхом... – Страдалец...
– Страдалец-то не он, а мы страдальцы, кои вживе остались, – сказал в туман дядя Митяй. – Заводская жизнь самая страшительная, гаже ее нет. Самый крепкий человек возле домницы боле шести лет не выдюжит. Вот через это самое и ударяются трудники в побег. И я бегивал. И вот слушай, мил человек... Лет шесть тому натакался я в лесу на праведного человека, на дедушку Мартына, отшельника. Он тоже давным-давно с завода утек и поселился в самой трущобе, в уреме... И долго сила Господня спасала его от розыскных команд.
– Ишь ты!..
– Он себе избушку березовую срубил да опустил в землю ее. Крыша вровень с землей сделалась, а поверх крыши мох, чапыжник, деревьица растут – в двух шагах возле такого жительства пройдешь – не приметишь. Во как, миленькой... Избушка мерою до пяти аршин, лаз в ее тайный, потайное оконце на восток. А земля на полу укрыта хвоей насеченной: лежать мягко, и дух от хвои добрый. А в уголке чувал из дикого камня, для сугрева. Под потолком иконка старозаветная, пред ней самодельная свечечка – старец свечи-то сам делал, он в уреме на деревьях четыре диких бортовых улья сыскал... Ну-к у него и медок, и воск! И была у него святая рукописная книжица «Ефрем Сирин», он мне ее вгул читывал... Бывало, оба от умиления над книжицей плакали... – Дядя Митяй вздохнул, почмокал губами и вдруг умолк.
Хлопуша толкнул его в бок:
– Уснул, чего ли? Сказывай! Я уважаю этакое.
– Да нет, не сплю я. Думки разные одолевают про правду да про кривду... Вот я и толкую... Добро жить в пустыне, добро о душе пекчись. Как вспомнишь, вспомнишь жизнь людскую, пропащую, так кровь в жилах и застынет, – голос дяди Митяя стал еще душевней, еще трогательней, своими воспоминаниями он был по-настоящему взволнован. – Да-да... Такие страданья людям, такие печали да болезни! Пошто мы, окаянные, на мир Богом посланы. Пошто одни в тепле да в радости, а другие весь век маяться обречены, в молодых годах стариками ходить?
– А-у, – вздохнул Хлопуша. – А-у, брат... Мается весь народ, все люди страждут, а в веселости век живут только господишки, да купчишки, да еще разве архиереи с протопопами. Я-то знаю, я-то, браток, все знаю. Я и архиерейскую бывальщину знаю, всю до подоплеки, я сам у тверского архиерея в услуженьи жил.
– Оо-о! Бывалый, значит, человек.
– Ну а как же отшельник-то, Мартын-то твой? – помолчав, спросил Хлопуша. – Как жили-то, чем питались-то вы?
– А питались мы больше всухоядь: то грибками, то ягодками. Ну, правда, приносил нам из деревни дед один хлебца, молочка когда. Приносил тайно. Помолится с нами, поплачет о грехах – и домой в радости. От молитвы да от покаянных слез всякая душа людская в радость приходит. Да и сам я в радости у старца жил. Душа играла, как солнышко о пасхе... А вот как сграбастали меня, да выдрали до полусмерти, да на руки, на ноги кандалы наложили, опять я заскучал! В Сибирь на вечное поселение просился – не пустили. Ой, многие, многие просятся в каторгу, чтоб от немилой заводской жизни уйти, – не пущают.
– А вот ужо мы на заводах старые-то распорядки переломим, – убежденно проговорил Хлопуша.
– Дай-то Бог! – вздохнул дядя Митяй.
– Добро бы к старцу-то твоему зайти да покалякать с ним, – сказал Хлопуша и почему-то застыдился своих слов. – Хоша, правду молвить, не шибко-то я люблю святых: бездельники, пустобрехи... Ну только и промеж них попадаются трудники, людскому миру наставники. Знавал и таких я.
– Умер старец праведный Мартын, преставился! – уныло молвил дядя Митяй и перекрестился. – Как учинил я побег в последний раз недель с шесть тому, не боле, опять к старцу подался. Вошел я в келейку, в коей пять годков не бывал, гляжу – на сухой хвое кости человечьи лежат, руки сложены, череп в праву сторону откатился. А тела и следу нет, истлело скрозь. На ножных костях лапотки, на плечах да на руках армячишко тленный. И книжица «Ефрем Сирин», открытая на груди... Ой и тяжко ж мне стало... Пал я наземь да и завыл в голос... А вскорости после того и сыскан я был. Вот привели меня в заводскую тюрьму, приговорили к двум тыщам шпирутов этих, – стало быть, к самой смерти! За многократные побеги мои то есть.








