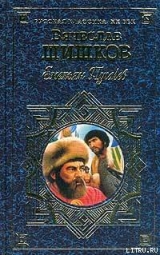
Текст книги "Емельян Пугачев, т.1"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 75 страниц)
Тем временем участь его решилась в Петербурге. Велик ли, мал ли преступник Пугачев, но Екатерина все же заинтересовалась им. Шестого мая было ею повелено: «Казака Пугачева наказать плетьми и как бродягу, привыкшего к праздной и продерзостной жизни, сослать в город Пелым, где употреблять его на казенную работу, давая ему в пропитание по три копейки на день». Это высочайшее повеление неторопливо поплелось по убойным весенним дорогам из Питера в Казань.
Будто почуяв над собой угрозу, Пугачев заторопился. К тому побудил его поразивший всех арестантов случай. Как-то под вечер он с купцом Дружининым таскал в тюремную кухню воду из колодца. Вдруг на внутреннем дворе, огражденном частоколом, раздался бой барабана и следом – громкий, протяжный стон, затем стон стал затихать, затихать и снова – душераздирающий безумный вопль. Дружинин охнул, затрясся, зажал уши. У Пугачева пошел по спине озноб.
– Ведут, ведут! – послышались отовсюду выкрики. – За смертоубийство сотню кнутов получил, это колодник Новоселов Ванька.
Мимо Пугачева с Дружининым провели полуживого человека с оголенной, в кровь исхлестанной спиной. Его волокли под руки два старых солдата с угрюмыми лицами. Он еле переставлял закованные в железо ноги, все время как бы падая вперед. Закрыв глаза, он в полузабытьи жевал губами и тоненько, по-щенячьи, постанывал, голова моталась, руки повисли, как у мертвеца. Сзади наказанного шли с бумагами в руках франтоватый секретарь и бледнолицый офицер в стоптанных сапожишках.
А в нескольких шагах позади – откормленный мордастый палач, гладко бритое лицо его простодушно и глупо, по низкому лбу ремешок, поддерживающий аккуратно расчесанные волосы, он – в красной шелковой рубахе, в татарском, с форсом накинутом на плечо бешмете, в козловых, крытых лаком сапогах.
Он несомненно пьян, идет враскачку, пошатываясь и сплевывая чрез губу. Наглым взглядом окинув толпу присмиревших колодников, он погрозил им ременным окровавленным кнутом. Колодники, которым в скором будущем предстояла страшная встреча с палачом, кланялись ему в пояс, подхалимно улыбались, но большинство с лютостью сверкали на него глазами и сквозь зубы шипели: «Палач, заплечный мастер, смертоубийца, кат! Чтоб утроба твоя распалась... Чтоб тебя земля не приняла... Чтоб кровью нашей охлебаться. Кат! Чумной!»
Пугачев с Дружининым забились на нары, легли бок о бок, долго лежали молча.
– Вот и нам будет то же. Видал? – начал Дружинин.
– Я те сказывал, нужно в побег нам, – ответил Пугачев. – Как погонят нас на Арское поле на работы, да коли караул будет невелик, в лодку сядем, да и были таковы. Ведь теперя вода-то полая, попрет...
– На лодке несподручно, не враз ее сыщешь, а надо сухопутьем. Я лошадь куплю, только куда тронемся?
– Об этом не пекись... – успокоил Пугачев. – На Яик можно, либо на Иргиз. Лишь бы выбраться.
Утром пришел восемнадцатилетний сын Дружинина – Филимон, принес отцу съестного. Отведя парня в сторону, отец велел ему всенепременно купить лошадь и телегу: «Мы с дружком бежать надумали». Сын стал отказываться, стал уговаривать отца эту затею бросить: «А то словят – смертию казнят».
– Я тебя страшной клятвой прокляну! – перекосив рот, замахнулся на парня Дружинин.
Сын заплакал, покашлял в кулак, сказал:
– Ладно, тятенька. Сполню.
Чрез два дня подвода была готова. Был готов к побегу и караульный солдат Григорий Мищенко. Он уважал Пугачева, верил ему и на его предложение бежать ответил радостным согласием.
29 мая, в восемь часов утра, Пугачев с Дружининым направились к караульному офицеру.
– Ваше благородие, – сказал Дружинин, низко кланяясь. – Отпустите нас за милостыней к соборному протопопу отцу Ивану Ефремову, он мне родня.
Офицер, вполне доверяя Пугачеву и Дружинину, отпустил их, а в конвой к ним назначил солдата Рыбакова и пожелавшего сопровождать их солдата Мищенко. У Пугачева кровь бросилась в голову: все идет не надо лучше. Офицер строжайше наказал солдатам:
– Далее попа никуда с колодниками не ходить, чрез полчаса быть обратно на тюремном дворе.
Войдя в поповский дом, Дружинин облобызался с тучным протопопом, вынул денег и попросил соборного дьячка, любившего выпить, сбегать за вином, пивом и медом. Выпивали наспех, без закуски, залпом. Впрочем, сами пить весьма береглись, а накачивали вдосыт солдата Рыбакова, не знавшего о побеге. Солдат быстро охмелел, по губам слюни, стал стучать кулаком в стол, мямлить потолстевшим языком:
– Ну-н-ну... Собирайтесь поскореича... Пора, эй, вы!
Ему дали еще стакан водки, смешанной с пивом. Он выпил, крякнул, вытаращил глаза и запел песню. Его подхватили под руки и повели. У церкви стояла запряженная кибитка. На облучке сидел парень Филимон Дружинин.
Чтоб обмануть солдата Рыбакова, отец Дружинин крикнул:
– Эй, ямщик! Что возьмешь до Кремля доставить нас?
– Пятак, – ответил Филимон.
– Больно дорожишься, – сказал Пугачев. – Ну да ладно уж... Пользуйся.
Пугачев с Дружининым сначала впихнули в кибитку пьяного солдата Рыбакова, затем залезли сами с солдатом Мищенко, закрылись рогожей. Парень Филимон пришпандорил коня кнутом, кибитка понеслась. Рыбаков сразу же заснул. А когда отъехали от Казани верст десять, он очнулся, ткнул Пугачева в бок, пробормотал:
– И чегой-то столь долго едем?.. Слышь...
– Да вот, брат, – смеясь, ответил Пугачев. – Кривой дорогой везут. Стой! Приехали... Вот и Кремль. А ну, вылазь, служивый.
Он столкнул Рыбакова на дорогу, свистнул по-разбойничьи, и кибитка, утонув в пыли, умчалась. А пьяный Рыбаков, ничего не соображая, кой-как добрел до дворцового села Царицына и упал под забор в крапиву возле управительского дома.
Губернатору Якову Ларионовичу фон Бранту было доложено об утеклецах лишь на пятый день побега.
Старик-губернатор, слушая доклад секретаря, хотел рассвирепеть, но, щадя свое неважное здоровье, передумал. Он лишь с укоризной покачал головой, почмокал губами.
– Ах, господа... Вы меня без ножичка зарезаете... Ну что я отвечу генерал-прокурору Сената? Вот не угодно ли? – и губернатор старческой рукой с синими склеротическими жилами сунул секретарю столичное письмо, где сообщалось высочайшее повеление от 6 мая – «наказать Пугачева плетьми и сослать в Пелым». – Это письмо из Санкт-Петербурга двадцать пять дней тащилось. Вот это поспешение! Ну-с. Кого я накажу плетьми, кого в Пелым сошлю? Вы говорите, оный беглец бежал? Молодец... Ах, какой молодец! А ежели он бежал, надо его скоренько поймать... Поймать, поймать негодяев! – вспылил фон Брант, но, услыхав свой резкий, опасный для здоровья выкрик, тотчас пресек себя и отхлебнул брусничной воды со льдом.
Началась удивительная по своей российской медлительности розыскная канитель. Впрочем, фон Брант тотчас приказал сообщить во все свои уезды о побеге, а в иргизских селениях предписал вести поиски утеклецов с особым тщанием, ибо «живущие на Иргизах раскольники бесстрашно всяких бродяг к себе приемлют». Однако двухнедельные поиски ни к чему не привели. Раздосадованный губернатор с прискорбием сообщил в Питер генерал-прокурору Сената князю Вяземскому, что высочайшее повеление о телесном наказании Пугачева и ссылке его в Пелым «не учинено, ибо предуказанный Емельян Пугачев за три дня до получения вашего сиятельства письма, с часовым, бывшим при нем солдатом, бежал». Это губернаторское письмо тащилось до Петербурга ровно сорок семь суток и лишь 13 августа в двенадцать часов ночи было срочно доложено вице-президенту Военной коллегии графу Захару Чернышеву.
Петербург – не Казань, Петербург сразу оценил, что за птица Пугачев. Поскакали курьеры на Дон, в Оренбург, в Казань с непреклонным приказом ловить продерзкого Емельку Пугачева, ловить, ловить!
Глава ХИзбавитель нашелся
В тот самый день, когда граф Чернышев подписывал в Питере указ оренбургскому губернатору и грамоту Войску Донскому о поимке Пугачева, то есть 14 августа 1773 года, Емельян Пугачев, весело на обе стороны поплевывая и подмурлыкивая песню, подъехал на своей собственной лошадке к знакомому ему Таловому умету. Хозяин умета Степан Оболяев, увидя гостя, радостно закричал:
– Ах, живая душа на костылях! Где запропастился, откудов тебя, еремина курица, Бог принес? Более полугода не видались.
– Да так, брат... Шатался кой-где по белу свету, – уклончиво ответил Пугачев и спросил: – А что, брат Степан Максимыч, меня не шукали здесь? А как Денис Пьянов, казак, жив ли?
– Про тебя, еремина курица, слава Богу, не чутко, – ответил хозяин. – А вот Пьянов где-то бегает. На Яике комендант полковник Симонов проведал, быдто бы Пьянов подбивал казаков на Кубань втекать, а тебя будто в атаманы, еремина курица... А ну, пойдем в избу, арбузов отведаем, поспели... Ныне, еремина курица, Бог уродил арбузов-то... – Хитрый, неглупый уметчик отлично знал, что Пугачев сидел по поклепному делу в казанском остроге, но, не слыша от него об этом ни слова, счел нужным не огорчать своего гостя расспросами.
Пугачев прожил в Таловом умете с неделю. Он жадно искал встречи с казаками, поэтому с утра до ночи проводил время в степи, благо погода была хорошая, стрелял сайгаков[74]74
Степных антилоп. – В. Ш.
[Закрыть].
Однажды, выслеживая раненого сайгака, он верст на пятнадцать ушагал от умета Ереминой Курицы.
Берег речки. Он за день уморился и прилег в кустах. И как только дал телу отдых, все те же навязчивые мысли охватили его голову. Вот он – безвестный, бежавший из тюрьмы бродяга. Поди, его всюду ловят, ведь он преступник важный, не вор, не конокрад какой-нибудь, ведь он тогда невесть чего наболтал про себя старому Денису Пьянову. «Я царь, я царь...» Ой, словят, ноздри вырвут, на каторгу сошлют... «Эх, бедная моя головушка!.. Знать, не дождаться мне денечков золотых». А может, и пофартит еще. Может, яицкие казаки вожаком своим выберут. «А я повел бы их, я бы на Кубань повел их, либо в другие вольные места. А как утрафил бы казакам трохи-трохи, они, может статься, и атаманом поставили бы над собой. Чего бы лучше. Атаман вольного войска Яицкого Емельян Пугачев! Булава в руке, войсковая печать в кармане!..»
– Была бы голова, будет и булава, – сказал он вслух, и от вожделенных мечтаний что-то похожее на стон вырвалось из его груди.
Вдруг видит: на противоположном высоком откосе маленькой речонки зашуршал-зашевелился куст, из-за него вылез дед с котелком и стал спускаться к воде.
– Здорово, старина! – выйдя на берег, крикнул Пугачев. – Беглый, чево ли? От сыщиков, чево ли, спасаешься? Да ты меня не бойся, я и сам вроде так...
– Ой, кормилец, – вглядевшись в чернобородого детину, сказал старик. – Беглые мы, это верно. От лютого помещика тягаля задали. Нас здеся-ка в укрытии четыре семейства. Не жравши сидим. В городок бы надо за хлебушком, да опасаемся. Нет ли у тя хошь корочки, кормилец? Да ты сам-то кто будешь?
Пугачев распластал ножом пополам буханку хлеба, сказал:
– Лови, дед, – и перебросил хлеб чрез речку.
– Ой ты, кормилец, ой, миленький... – давясь радостными слезами, прокричал старик. А Пугачев, будто сраженный пулей, мигом упал в кусты: на том берегу, один за одним выросли шестеро конных казаков.
– Ты что за человек? – спросил старика рыжебородый.
– Житель, кормилец, – краюха хлеба выпала из рук старика.
– Кажи паспорт!
– Нетути, кормилец, – и старик повалился в ноги рыжебородому. Тот вытянул его нагайкой, огляделся по сторонам, махнул своим:
– Эй, сюда!.. Ого, да тут много их, глянь, каких нор понарыли, что твои суслики. А ну, молодцы, пошукай!
Казаки бросились выгонять на свет живущих в земле людей. Выскакивали из нор старые и молодые, бабы, ребята. Казаки подстегивали их, вязали руки.
– За что экая напасть... Ой, Господи! – вопили женщины. – Родненькие наши, помилуйте нас, пожалейте.
– Пожалеть? – взъершился было рыжебородый, но сразу сбавил тон. – Я-то пожалел бы, да ведь с нас взыск. Поди, про старшину Бородина слыхали, про Мартемьяна? Он нас самих в нагайки. Черти-то вас носят, окаянных. Нет, чтобы куда подале схорониться, к городку претесь все.
– Нужда велит, кормилец. Ой ослобони, родименький...
– Вот скажите без утайки, – важно подбоченился казак, – не слонялся ли промеж вас чернобородый такой, лет ему с тридцать пять, росту по приметам не больно высокого, взором нахрапист, а звать – Емелька Пугачев. Вот, дедушка, укажи, где он, ты врать не будешь. Тогда живчиком развяжу всех, идите на все стороны.
Пугачев, лежа на противоположном берегу крохотной речонки, обомлел, вмялся в землю, затаил дыхание.
– Ну так как, дедушка? – переспросил рыжебородый.
Старик поднял с земли хлеб, сдунул с него песок, раздумчиво посмотрел за речку, в сторону Пугачева, затем перевел глаза на казака, сказал:
– Нетути, кормилец. Не примечали такого человека, – лицо его вдруг наморщинилось, борода затряслась, колени подогнулись, он охнул, схватился за куст.
Пугачев едва передохнул. «Ой, дед... Вот спасибо-то». Подбородок его дрогнул, сердце под рубахой заныло-застучало.
Рыжебородый приказал:
– Китаев с Конопатовым, гоните их в город на одном аркане, сколько их?.. Шесть, восемь, одиннадцать... А мы дальше.
Беглецов нанизали, как бусы, на длинную веревку. Беглецы тащили на себе немудрый скарб, крутили головами, крестились, плакали. Сзади всех была привязана маленькая, щупленькая, одетая в рвань девочка. Она семенила босыми ножонками, все оглядывалась да оглядывалась на свою пещеру, терла заскорузлыми кулачками глаза, обращаясь к верховому казаку, пискливо поскуливала: «Ой, дяденька, ой, миленький, я куколку забыла тама-ка. Развяжи меня, я куколку возьму». Вот ее-то пуще всех было жаль Пугачеву.
Когда скрылись все и стало тихо, он подумал: «Ну, Омелька, берегись... А то висеть тебе, царю, на перекладинке». Он возвратился в умет ночью.
Как-то в конце недели, придя с охоты домой, встретил он в умете троих незнакомых крестьян с бритыми, как у каторжников, головами.
– На-ка, Степан Максимыч, вот животину добыл, – сказал он хозяину и сбросил из-за спины убитого сайгака. – Освежуй, брат, да свари похлебки с кашицей. А вы что за люди? – обратился он к крестьянам.
Хотя на Пугачеве – простая, запачканная сайгачной кровью, грубого холста рубаха и рваные коты, а на голове колпак из шерсти, но суровое выраженье загорелого чернобородого лица, властный взор и повелительный голос испугали крестьян, они повалились незнакомцу в ноги.
– Ой, желанный человек, мы беглые поселенцы, мужики, вот Алексеев да Федотов, а я – Чучков зовусь. И гнали нас из-под Москвы, с Коломны, на стругах, на вечное поселение в Сибирь-землю. Половина в дороге перемерла народу-то... Из Казани города мы, тройка нас, бежали да сюда ударились... Уж не оставьте нас...
– Хорошо, братцы, не унывайте, – напуская важность на себя, говорил Пугачев. – Я вас не оставлю... А покудов живите свободно здесь. Только старшинских сыщиков страшитесь.
Ободренные крестьяне утирали кулаками слезы. Старший из них, Чучков, улучив минуту, шепотом спросил уметчика, что это за человек толковал с ними.
– А это дубовский важный казак, – скрытно, по-хитрому ответил Еремина Курица. Спустя два дня, нарядив крестьян на дальний сенокос, он уехал в Яицкий городок к знакомому казаку Григорию Закладнову.
В Яицком городке смятение и неустройство продолжались. Казаки ожидали своей участи по делу об убийстве генерала Траубенберга. А тут, после бегства казака Дениса Пьянова распространились слухи, что у Пьянова-де суток трое жил некий «великий человек», а кто он таков – неведомо. Вместо скрывавшегося Пьянова полковник Симонов приказал схватить его жену Аграфену. На допросе под присягой и пристрашиванием она показала только, что был-де в их доме проезжий купец с черной бородой, из себя видный и нахрапистый, купил-де рыбы и уехал, а какой он человек, она не знает. Аграфену продержали под арестом всю зиму и ничего не добились от нее. Значит, ни начальство, ни казаки не могли доподлинно узнать, кто такой этот «великий человек» и зачем он побывал в Яицком городке.
Пока Пугачев сидел в остроге, слухи множились, приукрашались. Какой-нибудь старый дед-казак, нос в нос соткнувшись с другим таким же дедом и взяв с того страшную клятву, шептал, что «великий человек», пожалуй, не кто иной, как сам батюшка государь Петр Федорыч, Денис Пьянов, мол, намеки делал.
– К рождеству в нашем городке объявится, свет наш, обещал.
– Не к рождеству, а весной, когда казаки всем гамузом на плавню соберутся, на багренье.
Да и среди казаков, что помоложе, всю зиму ходили упорные слухи. Так, на охоте за лисицами казак Гребнев повстречался с товарищем своим Зарубиным-Чикой.
– Будь здоров, Чика! Ну, каково промышляешь? А слыхал про добрые вести?
– Про худые слыхал... Будто в Оренбург указ Военной коллегии поступил, расправу над нами скоро будут чинить. Бежать доведется. А добрые вести не про нас, брат.
– Есть добрые вести, ой, Чика, есть, только под большой тайной поведаю тебе. Гришка Закладнов быдто сказывал, что у Ереминой Курицы проживал купец. Закладнов купца того в умете прошлой зимой встретил. Купец спросил Гришуху: «Слыхал я, будто яицкие казаки в большой беде. Верно ли?» Тот обсказал всю несчастную бытность казацкую. Купец записал слова его и молвил: «Я под видом купца посещу ваш Яик и буду иметь высокое пребывание свое у Дениса Пьянова», – сказал так и куда-то скрылся. Во, брат Чика...
– Любо слушать, – проговорил меднолицый чернобородый Чика, слез с седла и стал раскуривать трубку. – Ну а дале что?
– А дале – Гришуха Закладнов быдто бы встретил купца вдругорядь. Купец собрался от Ереминой Курицы в Мечетную к старцам ехать. Вскочил в седло по-молодецки да и гаркнул: «Прощевайте, господа казаки! Был я у вас в Яицком городке. К весне опять буду с великими делами. Всех вас избавлю от лютых бед. Сабли точите да порох готовьте!» – стегнул коня плетью, да и был таков.
– Кто же он?! – вскричал, загорелся похожий на цыгана Чика.
– Великий человек. То ли обапол царицы живет, то ли сам кровей царских.
Слухи крепли. Казаки, таясь от баб и болтунов, не на шутку стали готовиться к встрече избавителя; не спалось, не елось – эх, только бы весна пришла!
Но пришла весна, рыбные плавни кончились, избавитель не явился. Прошло лето, расцвели-разлапушились сады. И вместо избавителя пал на яицкое казачество громовой удар. Правда, приговор по делу восстания был значительно смягчен. Замест шестидесяти двух смертных приговоров чрез повешенье, четвертованье и отсеченье головы «всемилостивейше» определено: шестнадцать человек наказать кнутом, вырезать ноздри, поставить знаки и сослать на Нерчинские заводы «вечно», кроме сего, шестьдесят восемь казаков наказывались более умеренно – от плетей и ссылки в Сибирь с женами и детьми до отдачи в солдаты. Все же остальное мятежное казачество, две тысячи четыреста шестьдесят один человек, от наказания пока освобождены. Указано вновь привести их к присяге.
Меж тем возвратившийся уметчик Еремина Курица, войдя в хомутецкую, немало удивился: Пугачев, положив локти на стол и шевеля бородой, читал вслух книгу.
– Не пожелаешь ли послухать умных слов? – обратился он к хозяину и подал ему книгу. – Вот книжица. Нюхни!.. Всем книгам книга, такой ни у старца Филарета, ни у губернатора нетути. Книга сия немецкая.
Пораженный уметчик, умевший кое-как читать, поднес книгу к подслеповатым глазам – действительно, буквицы в книге не русские, книга в важнецком из свиной кожи переплете пахла кисловато, вкусно, на переплете золотой орел, обрезы золотые. Хозяин наморщил лоб, недоуменно задвигал бровями, спросил:
– Откудов, гостенек дорогой, эту премудрость добыл?
– Бог даровал, – уклончиво ответил Пугачев (он купил ее за две копейки в Казани на толчке). – Садись. Слухай.
– Да неужто маракуешь не по-нашенски-то? – озадаченно спросил хозяин.
– Кабы не знал, не стал бы. Я по-немецки буду умом читать, глазами, а тебе – по-русскому калякать. Чуешь?
– Ах, еремина курица, да откудов ж знаешь все это?
– Откудов, откудов... Не твоего ума дело, – сказал Пугачев. – Я в Пруссии был, в Туретчине был... Ну, слухай.
Вошли беглец-крестьянин Чучков с своей бабой. Пугачев закрыл книгу.
Баба сказала:
– Идите нито в баню-то, мужики. Жару много.
Уметчик, чтоб подальше от греха, бросил слушать чтение Пугачева и стал звать его париться. Парились вдвоем. Увидав на груди Пугачева, под сосками, два белых сморщенных пятна, уметчик спросил:
– Чегой-то у тебя такое?
Нахлестываясь веником, Пугачев смолчал, но подумал, что уметчик неспроста задал ему такой вопрос. Что бы это значило? Уже не видался ли уметчик с Денисом Пьяновым, которому Пугачев в конце прошлого года назвал себя Петром III?
Ужинали в хомутецкой, или «постоялой», горнице, в ней обычно останавливались прохожие и проезжие постояльцы. Русская глинобитная печь, возле нее у трубы – густые тучи тараканов, в углу рукомойник и лохань, в ней плавают арбузные корки. Стены черные, прокоптелые, и в солнечный-то день здесь мрачно. Воздух пропах кислятиной, копотью, дегтем, вонью прелых онуч. Вдоль стен – нары с пыльными, просаленными обрывками кошмы, клочьями овчинных полушубков, грязным тряпьем, пучками соломы в головах. На стене возле двери, на деревянных спицах – хомуты, вожжи, чересседельники.
После ужина Пугачев уходит с уметчиком спать на свежий воздух в большой сарай, по-казацки – «баз». Там широкая под пологом кровать со свежим сенником и большими пуховыми подушками. Спят крепко. Пугачев во сне то храпит, как конь, то бредит с визгливыми стонами и криком.
Поутру, умываясь у колодца, Пугачев прищурился на уметчика, заговорил:
– Вот, Степан Максимыч, ты давеча в бане спросил, что-де за знаки на мне. Так это знаки – чуешь какие?
– А какие такие знаки, еремина курица?!.
– Курица, Максимыч, ты и есть, – с притворным упреком сказал Пугачев. – Ужели не слыхал ничего о царских знаках? Ведь всякий царь от рожденья имеет их. Экой ты, право...
– Да ты, еремина курица, что? Откудов у тебя царские знаки могут быть?.. – воскликнул удивленный уметчик и приткнул на землю ведро с водой.
– Не сдогадываешься, значит, к чему говорю? – утираясь рушником, взволнованно произнес Пугачев. – Экой ты безумна-ай! – Пугачев швырнул рушник на плечо уметчика, сверкнул глазами, с властностью сказал:
– Да ведь я государь ваш Петр Федорыч...
Брови уметчика скакнули вверх, он покачнулся. Задыхаясь и потряхивая пегой бороденкой, стал выборматывать:
– Ерем кур... Ер кур... Как же это?.. Чтоб ко мне, в умет... Ер кур... ер кур... Ведь указы есть государыни Катерины... По всему свету, ерем кур, везде толкуют... Да нет, не может тому статься, ерем кур... Государь Петр Федорыч умер.
– Врешь! – грозно притопнул Пугачев. Уметчик вздрогнул, одернул рубаху, вытянул руки по швам. – Петр Федорыч, слава Христу, жив... Это выдумка была, что умер. Ты взирай на меня, как на него. Я и есть он, он и есть я.
В голове уметчика сразу – буря мыслей: в Царицыне государь объявился, Денис Пьянов убежал, разные слухи, золотой орел на книге, знаки на груди... И – все спуталось. Он стоял на дрожащих ногах и кланялся, кланялся и бормотал, не смея поднять глаз.
– Уж не прогневайся... Не прогневайся, ер кур. По глупости, по простоте с тобой как с простым человеком. Не вели казнить, ер кур...
– Да что ты, раб Степан! Чего же ради мне гневаться на тебя? – Пугачев взял его под руку и повел к окруженному ракитами пруду, где хлюпались утки. – Ведь ты же, Степан Максимыч, не ведал, кто я. Да и впредь до времени чтоб никакого почтения не оказал ты мне. Чуешь? А обходись со мной как с простым человеком. И что я государь, никому, окромя яицких казаков, не надо сказывать. Да и не всякому балакай, а только казакам войсковой стороны, а старшинской стороне избави Бог открыть. А ба-а-бам... – Пугачев строго пригрозил уметчику пальцем. – Чтоб ни единой бабе, ни войсковой, ни старшинской. А то они по великой бабьей тайности на базарах болты начнут болтать.
– Слушаюсь, надежа-государь, – во рту уметчика пересохло, сердце обмирало, как на крутых качелях. – Я Гришухе Закладному доложу, вы его знаете с евонным братом Ефремкой: как зимусь в прошлом годе лисиц промышляли они, вашей милости показывались. Григорий обещал вскорости быть.
– Хорошо, – сказал Пугачев. – Я помню его. Так смотри же, Степан Максимыч, постарайся. Ведь я тебя не оставлю, счастлив вовеки будешь. Ведай, тебе откроюсь: лютые вороги мои в цепи меня заковали, в тюрьму в Казань бросили, только Бог спас помазанника своего. Побереги меня, Степан.
Через три дня Григорий Закладнов действительно приехал в Таловый умет, выпросил у Ереминой Курицы ненадолго лошадь для работы и собрался уезжать. Уметчик тихо зашептал ему, указывая на Пугачева, задумчиво сидевшего возле база:
– Слышь, Гриша, как ты думаешь об этом человеке, велик ли, мал ли он?
– А я почем знаю... Ведь он ране сказывался купцом заграничным, Емельяном Ивановым.
– Царь это, – набрав в грудь воздуху, выдохнул уметчик и уставился в бородатое лицо Закладнова. – Сам государь Петр Федорыч... На выручку, еремина курица, к вашей войсковой бедноте явился. Книга у него с золотым орлом, знаки. Вот, еремина курица, какие дела-то...
Закладнов разинул рот, сбил на затылок шапку и, замигав, воскликнул:
– Вот так диво дивное!.. Ну, стало, Господь-батюшка поискал нас...
К ним важной выступью, голову вверх, подходил Пугачев. Остановившись в трех шагах от Закладнова, он спросил:
– Слышал ли ты, Григорий, обо мне от Степана Максимыча?
– Слышал, батюшка.
– Ну, то-то же. Я не купец, а Петр Федорыч Третий, царь. Поезжай, друг, поскореича домой и толкуй добрым старикам, чтобы ко мне приезжали, да не мешкали. Присугласи их... А коли замешкаются и добра себе не захотят, я ведь долго ждать не стану, я ведь скроюсь, как дым. Искать будете, а не найдете. А я держу в помыслах всех вас избавить от разорения старшин и на Кубань увести. Да смотри, Григорий, чтобы старшинская сторона не узнала. У тебя жинка имеется?
– Как же без жинки!
– Ну так и ей не говори. А то сыщики ваши по степи рыщут, всякий куст обнюхивают.
Закладнов, большим поклоном поклонясь, залез было в телегу. Уметчик сказал:
– Погоди! Каша упрела. Заправься да уж и поедешь тогда.
Закладнов обедал со всеми на голом столе, Пугачев – за особым столом, накрытым бранной скатертью. Возле Пугачева – книга. Когда он замечал, что вся застолица смотрит на него, брал в руки книгу и, шевеля губами, про себя читал. Григорий Закладнов только головой крутил да причмокивал.








