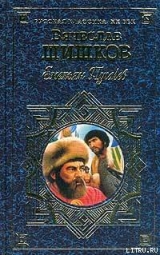
Текст книги "Емельян Пугачев, т.1"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 75 страниц)
– Я мыслил бы, – говорил тогда Панин, – императором быть Павлу Петровичу, возлюбленному вашему сыну.
– А я, при малолетнем сыне моем, регентша?
– Да, государыня, – отвечал Панин твердо.
Как?! Ей быть регентшей при сыне, чтоб, когда он возмужает, навсегда утратить власть? Нет, никогда этого не будет, ни-ко-гда!
– Я так несчастна, так унижена своим супругом, что для блага России готова скорее быть матерью императора, чем оставаться супругой его, – с горечью ответила Екатерина и заплакала.
Екатерина всегда будет помнить, как Панин упал к ее ногам, стал утешать ее, стал целовать ей руки. Каждый поцелуй его был для Екатерины поцелуем Иуды. И она тотчас решила припугнуть Панина, в прах разбить его дерзкие мечтанья.
– Но... милый друг мой, Никита Иваныч, – сказала она, – у меня единая надежда на Бога, на вас и на преданную мне гвардию. Да, да, на гвардию...
Она видела, как властный царедворец весь внутренне сжался. Карта его была бита. Да, Екатерина опиралась, с помощью братьев Орловых, на многочисленную гвардию; Панин – лишь на десяток-другой сановитого дворянства.
Такого коварного поступка она вовеки не могла простить Панину. Но ведь он главный механик всего государственного аппарата, он влиятельнейший из вельмож, он мудро руководит внешней политикой, с его мнением считается Европа. Словом, в то время Панин много значил для дела Екатерины. Однако это было десять лет назад, а теперь... Теперь престол Екатерины крепок и незыблем, бразды правления она сама научилась держать в своих руках, а наследник престола Павел еще слишком юн и лишен необходимых качеств в опасной борьбе за власть. Он никогда не посмеет – да и не сможет – свергнуть мать с престола. Ему не на кого опереться, и никакие Панины не в состоянии помочь ему.
Такие мысли, то четко, то вразброд, вскипали в мозгу Екатерины. Сердце сжималось, взор устремлялся куда-то вдаль и обращался внутрь взволнованной души.
Нет, она и здесь, в этом тихом убежище, не может оставаться лишь любезной хозяйкой, каждый час и каждый миг она – императрица.
Рассеянно прислушивается Екатерина к беспечной болтовне двух своих друзей, она им улыбается, иногда произносит ту или иную фразу, но взор ее, как бы пронизывая каменные стены, видит шагающего по дворцовым залам Никиту Панина. «До свидания, до свидания, Никита Иваныч... От подножия престола вы скоро будете устранены окончательно».
После досадного разговора с Екатериной граф Панин понуро шел по коридорам огромного пустынного дворца, пробиваясь на половину великого князя Павла.
«Вот ужо-ка, ужо она женит сына, всякими милостями осыплет меня и вышвырнет! Землями наградит да золотом. Ей казенного-то сундука не жаль, – все больше и больше раздражался Панин. – Эх, Никита, Никита!.. Ляжками, брат, ты не вышел, да и нос у тебя не столь казистый – а-ля рюсс. А то бы...» – горько проиронизировал он над собою.
В китайском, с темно-красным драконом, чайнике дежурная фрейлина подала горячий чай, цукерброды и сухарики. Екатерина налила гостям по чашке.
Камер-лакей неслышной поступью приблизился к царице и поднес ей на серебряном подносе два пакета с сургучными печатями.
– Из действующей армии, ваше императорское величество. Экстра! – отчеканил браво лакей, стоя навытяжку.
По знаку царицы он удалился. Екатерина читала надписи на конвертах. В правом углу одного было крупно и безграмотно означено: «В сопственные ручьки... екстра». Это от Григория Орлова. На другом, мелким почерком: «Экстра». Это от Григория Потемкина. Два Григория, два фаворита – бывший и будущий. Они как легкое облако проплыли перед взором Екатерины, улыбнулись ей и оба исчезли. И на их месте появился на миг во всей реальности красавчик Васильчиков. Екатерина нервно шевельнулась, вздохнула и положила нераспечатанные конверты на круглый столик.
В этой скромной келье она не только императрица, но и женщина, с прихотливыми чувствами, с непостоянным сердцем. Впрочем, Екатерина Алексеевна не без основания могла гордиться тем, что она в первую очередь императрица-женщина и лишь потом – женщина-императрица. Разум всегда властвовал у нее над чувствами.
– Итак, господа, – после длительной паузы начала Екатерина, – в Турции война, кровь проливается, смерть разгуливает, а мы вот тут сидим да кой-кому косточки перемываем.
– Смею ласкать себя надеждой, мадам, – торопливо проглотив цукерброд, сладким голосом проговорил Елагин, – что война расширит пределы вашей империи и...
– Гений войны, – подхватил Строганов, – повергнет к вашим священным стопам все Черное море. А в нем... рыбы, мадам, рыбы!.. На всю Россию хватит!
– Ты все шутишь, Александр Сергеич, а мне, право, не до шуток. Ведь пять лет воюем...
– Но, матушка! Но, всеблагая! – воскликнули оба гостя. А Строганов сказал:
– Надо бы, Екатерина Алексеевна, к регламенту ваших вечеров добавить: «Входящий, не омрачай чела своего глубоким раздумьем».
– Да, ты прав, Александр Сергеич, – сделав над собой усилие, вновь оживилась Екатерина.
– Ты, Перфильич, извини меня и не злись, – сказала царица подобревшим голосом. – Как ты со своим костыльком управился по столь высоким нашим лестницам? – и она указала глазами на толстую с серебряным набалдашником трость его.
– О всеблагая, – складывая молитвенно руки и наклонив крупную голову к правому плечу, воскликнул Елагин. – Я воспарил в сию тихую обитель на крыльях Мельпомены и Терпсихоры.
– Я думаю, что тебе помогали все девять муз, а десятая на придачу – Габриэльша... Великий ветреник ты, Перфильич, неисправимый ферлакур. Я чаю, ты восхищен своей Габриэльшей выше меры.
– Это не есть восхищение ума, Екатерина Алексеевна, но восхищение сердца, – слегка грассируя, произнес Елагин.
– Охотно верю. Но страсти наши всегда против разума воюют, – с притворной застенчивостью улыбнулась Екатерина. – А столь прилежное восхищение сердца иногда в ногу ударяет, и человек с того разу начинает на костыльках ходить.
Елагин, комически состроив виноватую мину, распустил пухлые губы и пожал плечами, а Строганов, прикрыв рот рукою, сипяще захихикал.
Великосветскому миру, падкому на всякие слухи о любовных шашнях, было известно, что пожилой лоботряс и селадон Елагин по уши втюрился в красивую итальянскую певицу Габриэль. Много было смеху и пересудов, когда узналось, что жестокосердная оперная дива, желая поиздеваться над влюбленным в нее Елагиным, принудила его сплясать вместе с ней веселый танец. Тучный, неуклюжий, как бегемот, да к тому же и подвыпивший, директор оперы Елагин, исполняя каприз подведомственной ему дамы сердца, проделав несколько бравурных па с припрыгом, вывихнул себе ногу и на целый месяц слег в постель.
Екатерина разгневалась на Габриэльшу, но не ради ее коварного поступка с Перфильичем, а потому, что эта певица, перезаключая контракт на следующий театральный сезон, заломила с дирекции неслыханную годовую плату в десять тысяч пятьсот рублей, тогда как на содержание всей оперы отпускалось двором всего семнадцать тысяч в год.
Екатерина улыбнулась смеющемуся графу Строганову и, повернувшись к Елагину, спросила его:
– Послушайте, Иван Перфильич, а верно ли, будто бы, когда вы сказали Габриэльше, что-де в России столь огромное жалованье только фельдмаршалы получают, Габриэльша будто бы тебе ответила: «Ну так пусть ваши фельдмаршалы и в опере поют». Правда сие или вымысел?
Да, это была правда. Но Елагин с деланным возмущением, пристукнув тростью об пол, не задумываясь, возразил:
– Это, мадам, злостная ахинея, чушь, анекдот досужих сплетников.
Екатерина, сразу подметив, что он, щадя Габриэльшу, врет, смущенно отвернулась от него.
Елагин собрался уходить, ссылаясь на появившуюся боль в ноге. Екатерина резко встряхнула лежавший на столе звонок. Мигом, как из-под земли, явились два изящно одетых молоденьких пажа и фрейлина.
– Проводите его высокопревосходительство до кареты, – приказала императрица.
Когда все удалились, она, приняв из рук Строганова очищенный апельсин, сказала:
– Он большой повеса, этот самый толстячок. Помесь селадона с сибаритом...
– Есть, мадам, смачное, круглое словцо: «бабник».
Екатерина рассмеялась:
– Бабник, бабник!.. Ах, как это чудесно, – и, достав золотой карандашик, записала в книжечку: «Бабник – сиречь по бабским делам мастер».
– Про таких господ пышнотелые субретки из простушек говорят: «Этот барин ерзок на руку», – наддавал жару краснобай Строганов.
Екатерина снова рассмеялась. Кончики ушей ее закраснелись, видимо, от смущенья перед Строгановым, она записала: «Ерзок на руку – сиречь в бабской стратегии имеет достодолжный натиск и проворство, раз-два-три».
– С тобой, Александр Сергеич, поведешься, многим фигуральностям и веселым терминам научишься.
– Да, матушка, это правда... С собакой ляжешь – с блохами встанешь, как говорится.
– А знаешь, мне, как в некотором разе сочинительнице, хотя и весьма посредственной, все эти простонародные словечки и присказки зело необходимы.
– Матушка! – воскликнул Строганов. – Да вы же...
– Помолчи, Александр Сергеич, знаю, что расхваливать будешь мои листомарательные опусы. А вот господин стихотворец Сумароков да журнальных дел мастер Новиков поругивают меня в своих статейках. Иной раз, черт их возьми, пребольно. Хотя я к ним, к этим диатрибам, особой обиды не питаю, а все русское, народное – былины, песни – я ценю не меньше, чем они. Вот я и пословицы собрать заказала Ипполиту Федоровичу Богдановичу...
– Собрание пословиц было бы осмотрительнее заказать актеру Чулкову, – сказал Строганов. – Он записывает пословицы и песни непосредственно из уст народа и не портит их.
Екатерина, выразив на лице мину притворного недоумения, подняла брови и проговорила:
– А знаете что... Я очень ценю как пиита Михайлу Попова.
– Попова? Но ведь они с Чулковым только готовые песни собирают.
– Попов и сам отменно изобретает их, – перебила Екатерина. – Я знаю две его песенки по образцу народных, я наизусть вытвердила их. Одна, «Ты бессчастный добрый молодец», даже певчими моими распевается.
– Вы, мадам, видать, обожаете народные песни?
– А ведомо тебе, при каких обстоятельствах я полюбила их? Как-то, еще будучи великой княгиней, я ночью прокралась в комнату тетушки, императрицы Елизаветы, прельстила меня песня: кто-то складно-складно пел чудным голосом. А пел ее наш милый Алексей Григорьевич Разумовский, бывший пастушок... Он поет, а чуть пьяненькая матушка Елизавета подшибилась рукой, глядит на него и плачет. Сцена – умиления достойна. И я-то едва-едва не расплакалась, столь складно, столь изумительно пел граф Разумовский[83]83
Тайно венчанный супруг императрицы Елизаветы Петровны. – В. Ш.
[Закрыть]. С тех самых пор я без ума от простонародной песни.
– Я ценю Попова более за его комическую оперу «Анюту», – почтительно выслушав Екатерину, сказал Строганов.
– Да, – возразила Екатерина, – но Вольтер сделал свою «Нанину» более тонко. А сюжеты обеих пьес сходственны.
Часы пробили одиннадцать. Императрица, привыкшая ложиться в десять и чем свет вставать, заторопилась. И только лишь показалась она в зале, как ее окружила блестящая свита, и она, привычно улыбаясь всем, двинулась во внутренние помещения Зимнего дворца.
Вскоре, пользуясь правом входить к царице без доклада, проследовал в ее покои Никита Панин с красным портфелем под мышкой.
Иван Сидорыч Барышников, подъехав к дворцу графа Шереметева, что на Фонтанке, прошел в графскую вотчинную контору.
Две большие чистые горницы разделялись на «столы» или на «повытья». Особый судейский стол, накрытый красным сукном, помещался за перилами; на нем – «Уложение о наказаниях», приказы и формы графских бумаг. На высоких стенах царские портреты, писанные масляными красками, и эстампы с изображением генералов. На большой стене возле стола вотчинного управителя – генеральная всех вотчин ландкарта. Через сени, за железною дверью – кладовая для хранения денежных сборов с крестьян и предприятий, рядом с ней караульня с большим комплектом вооруженной стражи, рассыльных и артельщиков; все они, как и все служащие в конторе, – крепостные Шереметева. Против караульни вход в архив.
Когда Барышников вошел в контору, все встали – бургомистр, приказчик, секретари и писари, поднялся даже сам вотчинный управитель. Все отдали Барышникову поклон, как известному по Петербургу богачу. Барышников удовлетворенно прикрякнул, склонил в их сторону голову. Служащие сели, снова принялись скрипеть перьями, переписывая сводные ведомости, шнуровые книги. А управитель еще раз поклонился Барышникову и указал возле себя на стул. Управитель вотчинами, сухонький маленький старичок с приятным бритым лицом, Петр Иваныч Сывороткин, тоже крепостной Шереметевых, безвыездно жил в Питере, получал достаточное жалованье, выстроил в деревне многочисленной своей семье два хороших, под железом, дома и был собственной судьбой вполне доволен.
– Ну а как ваш сынок-с? – улыбчиво спросил Сывороткин.
– А мой Ванька в шляхетском кадетском корпусе обучается. Через годика два, глядишь, офицером будет.
– Приятно-с. Очень, очень приятно слышать-с!
– А я к тебе, брат, Петр Иваныч! Присоветуй, – и, слегка пригладив ладошкой рыжие волосы, Барышников изложил управляющему цель своего приезда: он, изволите ли видеть, задумал приобрести себе – конечно, на подставное лицо – тысчонку-другую мужиков с землей, так вот не присоветует ли ему Петр Иваныч, куда по таким делам податься, в какую губернию ехать? Да, может быть, и сам граф Шереметев уступит Барышникову участок из своей смоленской вотчины?
– Ведь я сам-то из Смоленской губернии, вот и хотелось бы обосноваться на родине.
– Да оно, конечно-с, – подумав, ответил приятный старичок. – У их сиятельства и в Смоленской, и в иных прочих губерниях деревеньки с землицей есть. Вознесенская, Мещериново, Братцево... да мало ли... Только навряд ли его сиятельство пожелает переуступить их. Однако стукнитесь к его сиятельству, авось договоритесь. А что касаемо адресочков разных господ, что, как я слышал, не прочь продать свою земельку, то... – Он вынул записную книжку из кармана своей серой куртки с золочеными пуговицами, на которых был изображен герб Шереметевых, и сказал: – Ну-с, вот вам бумажка, вот перышко, прошу записывать-с.
Выйдя из вотчинной конторы, Барышников заметил на стене коридора объявление и стал читать:
«Дворецкий его сиятельства графа Шереметева С. Л. Лакров продает сироп для делания бишофу. Цена бутылки 2 рубля, из коей выходит 12 бутылок бишофу».
– Интересуетесь? – окликнул его проходивший в контору дворецкий.
– Ох, голубчик, господин Лакров! – повернулся к нему Барышников. – Я у тебя сиропу бутылочек пять куплю. На-ка получи, – и он подал ему золотой. – Доложись, пожалуй, обо мне его сиятельству да не оставь словечко замолвить за меня. Я вот по какому делу... – Барышников кратко рассказал ему о своих хлопотах.
Граф Петр Борисыч Шереметев, или, как его прозвали за несметные богатства, Младший Крез, был не в духе. Сегодня в его великолепном дворце званый ужин. Да не какой-нибудь, не для одной вельможной знати, к которой чванный граф относился в душе с большим презрением, на этом ужине будет присутствовать высочайшая особа – великий князь Павел Петрович. Может статься, и сама «матушка» пожалует.
И, как на грех, во всем Петербурге нет свежих устриц. Скандал! Без устриц великий князь за стол не сядет, приученный к сей гастрономической дряни старым чертом Никитою Паниным. Во все места, где только можно встретить модные сии моллюски, были посланы гонцы: в рыбный ряд, в рыбные лавки богатых коммерсантов, ведущих торговлю с заграницей, на купеческую пристань. Устриц не оказалось нигде... Вот так российская столица, черт бы ее драл!.. Устриц – и тех нет!
Высокий, тучный и несколько сутулый граф, с гладко причесанными на прямой пробор французом-куафером русыми волосами, шагал по кабинету. Серые глаза под высоко вскинутыми бровями были сердиты, маленький рот раздраженно кривился.
– Даже в Гостином дворе у Гирса нет. А у него уже всегда свежие каперсы, анчоусы, цитроны, трюфеля и устрицы. У Форзелиуса и Генриха Шульца на Невском тоже нет. Ахти беда!
Граф запахнул табачного цвета бархатный халат и, скользя по изящным наборным паркетам мягкими сафьяновыми сапогами, спустился вниз, к парадному крыльцу, зашел в переднюю, что рядом с вестибюлем, сел под окно и стал смотреть сквозь стекла во двор, нетерпеливо поджидая вновь посланных по городу гонцов: авось каким-нибудь чудом удастся им добыть эти проклятые устрицы.
– Ну, прямо хоть ужин откладывай. Нет, сие дело невозможное. Ха, черт... Бывает же... Полцарства за бочонок устриц!
Степенно вошел в сером будничном полукафтанье старичок-дворецкий. Он остановился в пяти шагах от графа, замер, гордое лицо его окаменело, он отчетливо, не тихо и не громко, произнес:
– Ваше сиятельство. Известный коммерческий предприниматель господин Барышников прибыл во дворец вашего сиятельства и просит вашу милость дать ему аудиенцию по наиважнейшему делу. Ожидает в приемной.
– Ах, Ванька Барышников?! Гони к черту!
– Слушаюсь! – и дворецкий, сделав недовольную мину и пожав плечами, направился к выходу.
– Впрочем, стой. Спроси-ка, нет ли у него устриц? Он пройдоха. Полцарства за бочонок устриц! И спроси, чего ему надобно?
Граф несколько повеселел. Вдруг Ванька Барышников, этот прожженный жулик, выручит. Вот бы!
Вновь явившийся дворецкий, притворно вздыхая и соболезнуя своему хозяину, заявил:
– Ваше сиятельство. Оный Иван Сидорыч Барышников просил вашей милости доложить, что он насмелился явиться к вашему сиятельству с самой нижайшей просьбой: не продадите ль вы ему тысячу крепостных крестьян с землей в одной из вотчин вашего сиятельства. Он мог бы даже купить до пяти тысяч мужиков...
– Что, что? – приподнялся с кресла граф. – Я?.. Ему?.. Крестьян?.. Ну а устрицы?
– Устриц нет у него, ваше сиятельство... И не предвидятся. Он сам ищет для подарка Алексею Григорьевичу Орлову.
– Вон гони! – закричал Шереметев. – Я знаю этого каторжника. В три шеи гони! Ежели будет ко мне шляться, на конюшне выпорю! – Граф был в гневе. Большое круглое лицо его побагровело.
Дворецкий понуро шел к ожидавшему его Барышникову. Как же «посполитичнее» ответить этому выжиге? А то он, чего доброго, разгневается да и золотой империал стребует обратно. О Барышникове дворецкий знал всю подноготную. Какой-то задрипа-мещанишка из Вязьмы, он в Семилетнюю войну втерся к главнокомандующему графу Апраксину в доверенные. Как говорили злые языки, Апраксин получил взяточку от Фридриха II и велел Барышникову доставить в Питер несколько бочонков якобы с селедками, а на дне каждого бочонка было спрятано золото. Тароватый Барышников об этом пронюхал и, как прибыл из Пруссии в Питер, передал графине Апраксиной одни селедки, а золото же притаил. С того и в люди вышел. Эх, человеки! Божьего-то суда нет на вас, на подлецов...
Граф Шереметев, вдвое перегнувшись, недвижно сидел в кресле, как истукан. Уголок рта подергивался в нервном тике. Граф чувствовал себя несчастным из несчастных.
Снова появился дворецкий. Он не вошел чинно, как всегда, он потерял весь лоск и выправку; патрицианское, со строгими чертами, лицо его утонуло в радостной улыбке – стало похоже на самое обыкновенное лицо какой-нибудь смеющейся бабки Феклы, и голос у него сделался пискливый, с петушиной прихлюпкой. Позабыв, что перед ним сам сиятельнейший граф, первейший богач во всей империи, он, как полоумный, завопил:
– Петр Борисыч, батюшка!
– Что? – вскочил граф Шереметев.
– Купец Шелушин к тебе, Назар Гаврилыч, твой крепостной...
– Ну! – и Шереметев от сладкого предчувствия перестал дышать. Перестал дышать и дворецкий. – Да говори же, черт тебя заешь!..
– Кажись, с этими самыми, как их... Тьфу!.. Память от радости отшибло.
– Да уж не с устрицами ли?
– Во-во-во! С ними.
Шереметев побежал к крыльцу, от радости он прихлопывал в ладоши: «Ура, ура!»
Назар Гаврилыч Шелушин, с аккуратно подстриженной темной бородкой, с живыми быстрыми глазами, уже вкатывал пудовый бочонок на крыльцо.
– Назарка! Назарка! Черт, дьявол! – в веселом исступлении закричал Шереметев, бросился к купцу и стал обнимать его, как пропадавшего без вести и вдруг появившегося родного сына. – Ну, выручил, выручил! И откуда это Бог тебя принес?
– Из Риги, ваше сиятельство! Только-только паруса спустил на своем кораблике... Да вот услыхал, что вы интересуетесь... Я мигом к вам. Свеженькие... Куда прикажете, в кухню?
– Пойдем, пойдем, пойдем... Кати сюда, – и Шереметев, подоткнув полы халата, сам стал помогать купцу катить бочонок. Сел в кресло, опрокинул бочонок вверх дном, велел подать бумагу и перо.
– Ты сколько мне, Назар, сулил, чтоб я тебя на волю выпустил?
– Двести тысяч серебром, ваше сиятельство, – склонив голову набок и, словно ласковый кот, заглядывая в глаза своему владыке, сказал сладким тенорком купец. – У меня, ваше сиятельство, три сына молодца. В двоих дворянские дочки влюблены, а третий сам в одну иноземку благородненькую втюрившись, извините. И ни одна невеста за крепостных рабов не идет замуж: ни дворяночки, ни иноземочка. А ныне дела моей фирмы, слава Богу, хороши: лен, пеньку, да сало, да мед с добрым барышом продал в Риге. И согласен буду вашей милости за выкуп все триста тысчонок предложить.
Граф Шереметев, разложив бумагу на верхнем дне бочонка и не слушая купца, быстро писал. Затем посыпал бумагу песочком из фарфоровой песочницы, поднял голову, взял бумагу за уголок и подал ее купцу.
– Получай, господин Шелушин, Назар Гаврилыч. Отныне вольный ты... Со всем родом твоим.
– Батюшка!.. Петр Борисыч!.. – и больше ни слова купец не мог вымолвить; он всплеснул руками, его рот скривился, нижняя челюсть затряслась. Но вот, передохнув, он забормотал: – А деньги, а триста тысяч... Я мигом...
– Мне сегодня устрицы дороже твоих денег. Понял?
Назар Гаврилыч рухнул графу в ноги.
В отдалении стоял старичок-дворецкий. Наблюдая эту сцену, он тоже втихомолку хлюпал носом. Ему понятна была радость купца, но он не понимал поступка графа. «Мать-Богородица! Бывают же такие сумасшедшие!.. Да он лучше сдернул бы с купца триста тысяч да этими деньгами бедность бы одарил. Мало ли несчастных на белом свете», – думал он горько.








