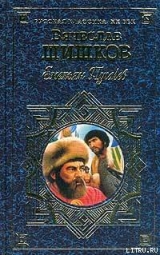
Текст книги "Емельян Пугачев, т.1"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 71 (всего у книги 75 страниц)
– Здорово, Митрий Павлыч, – сощурив хитрые глаза, вкрадчиво поприветствовал подходившего сержанта сухощекий, с козьей бороденкой Митька Лысов.
– Желаю здравствовать, господин полковник, – вежливо, чтоб не раздражать злого человека, ответил сержант.
– А ты чего-то все дома да дома торчишь? Батюшку-то и без тебя есть кому сторожить. Ха-ха. Батюшка-т, поди, не сахарный, не растает. А я к девкам гулять иду, составь компанство...
Сержант Николаев не охоч был до гулянок, он вел жизнь чистую, как подобает жениху, но ничего не поделаешь, надо же господина полковника уважить. И сержант, смалодушничав, ответил:
– Хоть и недосуг мне, да и нездоровится, но раз вы желаете – извольте, – и, длинный, сугорбленный, он пошагал рядом с низкорослым Митькой Лысовым.
– Вот гарно! – сказал Лысов. – Слободские девки на мельнице собираются, у мельника свои две девки, наливные да пригожие, как спелые дыни. Ну, плясы там у них, винишко.
Уже спустился вечер. В жилищах огоньки зажгли. Прошел старик сторож с колотушкой, к его кушаку привязан трехлапый пес, он култыхал за стариком и покряхтывал. Митька Лысов вложил два пальца в широкий рот и пронзительно свистнул. Пес хамкнул на него, караульный отпрянул прочь и с перепугу забрякал в колотушку.
Из сутемени выдвинулись на свет четыре молодых казака, двое с балалайками, двое с длинными дудками. Сняв шапки, они поклонились полковнику и как-то бессмысленно захохотали. Сержант заметил, что они пьяны. У одного, долгоносого, из кармана свитки торчит зеленого стекла штоф, на ходу слышно, как в нем булькает жидкость.
Тронулись вперед. Казаки во всю мощь горланили песни, наяривали на балалайках, насвистывали в дудки. Слобода кончилась, дорога пошла чистым полем. Вдали едва-едва виднелись два мутных огонька, как два глаза степного волка.
– Вот и мельница маячит... Видишь, сержант? Там и девки, – сказал Лысов.
Сержант молчал. У него затосковало сердце. Ему хотелось повернуть обратно, однако сзади него шли два казака и загадочно похихикивающий Лысов.
Сумерки сгущались все больше, облачное низкое небо было мрачно, справа темнел кустарник у речки, степь казалась нелюдимой, как заброшенное кладбище. Но вот конный разъезд казаков-пугачевцев.
– Стой! – и три всадника наехали на веселую компанию. – Кто? Куда? Пропуск!
– Я – полковник, – поднял бороденку Лысов. – С приятелями гулять идем.
– Добро, – сказал голоусик с чубом из-под шапки. – На мельницу, чего ли?
– Туда, туда, – ответили дружки Лысова и захохотали.
– Казаки, – сказал разъезду сержант Николаев, – возьмите меня кто-либо к себе на конь, мне занедужилось чего-то.
– Нук-чо... Садись ко мне, господин сержант, – предложил один, чубастый.
– Куда?! – и Митька Лысов с долгоносым казаком сгребли сержанта за азям. – Какой же ты, к чертовой бабушке, товарищ, раз компанство рушишь? Разъезд! Айда своим путем-дорогой! В слободе-то государя ждут, – скомандовал полковник.
Всадники двинулись вперед.
Почуяв неладное, Николаев молча бросился за всадниками вдогонку. Но его снова крепко схватила пара злобных рук:
– Ку-у-да?!
С великой тоской посмотрел сержант в спины удалявшемуся разъезду, еще раз рванулся и, поняв, что у него нет сил разомкнуть вражеские руки, бросил Митьке Лысову в упор:
– Что тебе надо, Лысов? Смотри, государь узнает... Пусти меня!
– Ага, затрясся, барин?! Нет, не пустим, – задышал сквозь вздернутые ноздри Лысов. – А то ты нас Пугачу... Ту бишь... Тьфу ты!.. Ха-ха-ха... А знаешь ли, сволочь, что таких вот дворянчиков батюшка-то в речке топить нам указал?
– Врешь, негодяй! – не помня себя, с отчаяньем завопил сержант и что есть силы ударил Лысова сверху вниз по голове. Тот, чавкнув зубами, слетел с ног, а Николаев опять бросился в сторону Берды. Но длинноносый успел подставить ему ногу и стукнуть чем-то тяжелым по затылку. Сержант Николаев во весь рост, с маху, упал лицом в снег и, теряя сознание, видел, как к нему подбегал с арканом Митька Лысов.
Тем временем Пугачев, заглядывая в порозовевшее круглое лицо тихой Даши, говорил:
– Так сказывай, красавица, кто такая и откуда прибыла?
– Я приемная дочь полковника Симонова, – ответила Даша дрогнувшим голосом. – Зовут меня Дарьей.
– Симонова? Коменданта Симонова?!
Даша тихо ответила: «Да» – и поникла головой. Брови Пугачева сдвинулись, и не то обиженно, не то сердито оттопырилась усатая губа.
Дверь в соседнее золотое зальце была закрыта неплотно. Глазастая Устя досмотрела, как в просвете раза два мелькнула в зальце женская фигура, и слышно было, как там прошуршало шелковое платье. Летучие женские шаги. «Кто же это там? Да уж не Харлова ли барынька?» – подумала Устинья. Она взглянула в строгие пугачевские глаза и, сделав выражение лица просительным и кротким, сказала:
– Даша-то, надежа-государь, сиротинка! Приемная она у Симонова. Ты не гневайся на нее, ваше величество, она ничем не виновата пред тобой.
– Знаю, что не виновата, – ответил Пугачев и почесал под бородой. – Мы супротив баб войну не ведем... А иным часом приключится и баб вешаем. Эвот комендантша Елагина в Татищевой из ружья в моих пуляла, ей-ей. Ну, знамо дело, повелел я вздернуть!
В золотом зальце тихий стон послышался. Пугачев покосился на полуоткрытую дверь, по его подвижному лицу прошла судорога. Помедля, он спросил Дашу:
– Твой Симонов за государя меня не признает, а считает за Пугачева какого-то. Ну, да он у меня еще спознается с веревкой. А ты, как ты? Говори, не таясь, по правде...
– Ой, не спрашивайте, ради Бога, об этом, – заломила Даша руки и умоляюще поглядела в хмурое чернобородое лицо его. – Я признаю вас добрым, милосердным человеком. Вот и Устя об этом говорила, и ваш казак Чика, что ехал сейчас со мной. Он очень расхваливал вас. Ведь вы защитник всех несчастных. А я, сирота, действительно несчастна. Родных отца и матери у меня нет... И единственно, кто дорог мне, это... – голос Даши дрожал, и устремленные на Пугачева глаза ее были полны слез. Вдруг, всхлипнув, она бросилась перед ним на колени:
– Батюшка, ради всего святого, помилуйте его, отпустите его со мной... Он мой жених...
– Да кто таков? О ком ты? Ась?
– О Митеньке. О Дмитрии Павлыче Николаеве прошу, – проговорила Даша.
– Эге-ге... Вот оно дело-то какое! – Пугачев во все лицо заулыбался, свесил ноги с сундука, встал и ловко поднял обливающуюся слезами девушку. – Не плачь, сирота, – сказал он, – все будет по-твоему. Хоть завтра и свадьбу сыграем. Только знай: ни тебя, ни сержанта Николаева я от себя никуда не пущу. Суженый твой мне тоже по сердцу пришелся. Согласна ли? Брось изменника Симонова. Замест него я, царь, твоим отцом буду....
Было просиявшее лицо Даши снова омрачилось. Она низко склонила голову и, молча вздыхая, роняла слезы.
Пугачев тоже вздохнул, коснулся рукою плеча Даши и тронул за локоть Устинью:
– Эх, доченьки вы мои, милые, пригожие. Коротко счастье-то девичье ваше на свете живет, и доведется, видно, мне, государю, просьбицу вашу обдумать, да вам раздуматься треба...
– Батюшка, – проговорила Устинья. – Я ведь тоже к тебе с великой просьбицей: отпусти ты домой Пустобаева-старика, – сказала Устя, отвешивая Пугачеву поясной поклон. – Дюже шибко по нем старуха его убивается, а он мне родных кровей человек.
– Пустобаева? Что ты, что ты! – замахал Пугачев руками, но глаза его улыбались. – Ведь Пустобаев мне присягу принимал. Ну, девки, этак вы всех верных слуг моих расхитите... Ой, да сколь же вредны вы, – покачал он головой.
Дверь скрипнула, просунулась чья-то бородатая голова.
– Войди, полковник, – сказал Пугачев.
В горенку вошел вперевалку, на кривых ногах, начальник артиллерии Федор Чумаков. Потряхивая широкой бурой, как медвежья шерсть, бородою, он низко поклонился Пугачеву, затем, прищурившись, оглядел девушек.
– Батюшки мои! – вдруг воскликнул он. – Да никак землячки?
– Землячки, землячки, Федор Федотыч, – улыбаясь, ответила Устя, а Даша беспокойно отвернулась. – Я вот твоего двоюродного братца выручать приехала, государю челом бить.
– Это кого же? Не Пустобаева ли? – спросил Чумаков.
– Вот что, Федор Федотыч, – перебил Чумакова Пугачев. – Дельце у нас знатное на очереди.
– Слушаю, ваше величество, – опустил руки по швам пожилой Чумаков; его круглое, толстоносое лицо стало серьезным и внимательным.
За окнами стемнело. Чубастый Ермилка внес горящие свечи в медных подсвечниках и, пока ставил их на стол, спроворил сунуть себе со стола в рукав кусок леденца и пряник. Подморгнув Усте, он крадущейся походкой, вывертывая пятки, вышел.
– Люди у тебя в порядке, полковник?
– В порядке, ваше величество.
– Нам, мой друг, – сказал Пугачев, – треба дурака Рейнсдорпа за нос провести. Ты вели-ка людям сей ночи как можно ближе к валу крепостному прокрасться. И пускай они там костров шесть, а то и поболе разложат. Да чтобы ярко костры горели, да чтобы костер от костра шагов на полтораста каждый. Чуешь, полковник? А коль скоро запалят костры, пускай на сторону втикают. Я чаю, Рейнсдорп перепугается да сослепу по кострам из пушек палить учнет. А ты, друг, тем временем на другом участке, темнотой-то укрываясь, пушки выкати. Да сколь можно ближе к крепости-то. Да чтоб не скрипнуло, не брякнуло... Чуешь?
– Чую, батюшка, как не чуять. Сколь пущенок-то?
– Как это – сколь?.. Все! Мы на зорьке трах-тарарах Рейнсдорпу учиним... Штурм!
Пугачев довольно долго говорил с Чумаковым. Наконец Чумаков ушел. В горенку из золотого зальца заглянул Давилин и кивком головы вызвал к себе Пугачева. Там, кроме Давилина, был еще и Чика. Вдвоем они подхватили царя под руки, отвели в дальний угол, к печке, зашептали наперебой:
– Батюшка, сей вечер Митька Лысов с четырьмя казачишками прикончили сержанта Николаева, в речке утопили. Нами все дело разобрано. Лысов с краю-то в отпор шел, а тут сознался, – и они вкратце рассказали, как им удалось быстро распутать дело.
– Ай-яй-яй... – закрутил головою Пугачев и с шумом выдыхнул воздух. – Как... моих людей убивать?!
– Я его, ваше величество, – с горячностью сказал Чика-Зарубин, – я его, подлюгу, самоуправца, Митьку того на дыбки поднял бы!...
– А ты не учи меня. Созовите-ка через часок-другой атаманов об это место. Всех! И чтобы Лысов всенепременно тут же. Ах ты, Боже мой! Как теперь с девками-то мне быть? Вот что, Чика. Распорядись, пожалуй, чтоб немедленно тройку заложили, да девок обратно, в Илецкий городок, с охраною. А оттудова они дорогу сами найдут. Ну их к чумару! По мне, лучше самую лютую сечу с врагом выдержать, чем бабью голосьбу слухать. – Он помолчал. – Да, вот еще что, голубь мой, – снова обратился он к Чике, – поди-ка ты к девушкам да перекинься с ними словечком... А о сержанте-то, смотри, молчок. Чуешь? Верней же того ты наскажи-ка девкам-то быль-небылицу. Пропал-де сержант Николаев без вести. Намеднись послал-де царь сержанта в Оренбург к губернатору с приказом крепость сдать, а он, видимо, по малодушию изменил нам и Рейнсдорпу передался. Стало, по всей видимости, в Оренбурге он теперь, жених-то, мол, твой, сержант этот. Чуешь? Значит, иди. А здеся-ка вам, кундюбочки, мол, оставаться не можно, штурм будет. Так и толкуй девушкам.
Выслушав Чику, Устинья задумалась, а Дашенька вся вдруг просветлела. «Слава Богу, слава Богу!» – радостно твердила она про себя. Ей было очевидно, что Бог сжалился над ее возлюбленным и спас его от великого бесчестья, и только часом позже, сидя в санках и вслушиваясь в лихое гиканье ямщика, она почувствовала такую нестерпимую тоску, что вслух разревелась.
Над степью шумела темная, непогожая ночь. Колючий ветер, озоруя в просторных степях, крутил летевший с неба снег, переметал обставленную вешками дорогу.
Время перевалило за полночь, а Пугачев с утра еще не пил, не ел.
Стряпуха Ненила с сонными глазами накрыла ему в золотом зальце стол, подала в оловянном блюде щей из кислой капусты со свининой. Он покрошил во щи чесноку, с жадностью, обжигаясь, съел и велел еще подать.
Вошли Овчинников, Творогов, Давилин, Чика и с ними Митька Лысов. Атаманы сказали:
– Хлеб да соль твоей милости!
– Благодарствую, – ответил Пугачев. Он пригласил всех, кроме Лысова, присесть к столу. – А ты, Лысов, подь к печке.
Лысову это не понравилось. Он отошел к печке, но по-сердитому прищурился на Пугачева.
– Вот, други мои, – обсасывая свиной хрящ, начал Пугачев. – У меня, к великому горю моему, секретарь загиб, сержант Николаев. А я без книжного человека, как без рук. Да, спасибо, заместитель в наличности, есть кому сержанта заменить. – Тут он поднял голос до строгости и круто обернулся к печке: – Повелеваем тебе, Лысов, отныне быть нашим секретарем. Отправляйся-ка эвот в тую горницу, подадут тебе там всякий письменный припас, и немедля сготовь ты губернатору Рейнсдорпу указ мой, чтоб крепость сдавал, а то горазд худо ему доспеется. Всякие умственные резонты подпусти, чтоб посолонее вышло, чтоб читал Рейнсдорп да носом крутил.
Вдруг побагровевшее лицо Лысова вытянулось, рот раскрылся, козья бороденка обвисла, но прищуренные глаза по-прежнему смотрели на Пугачева нагло, по-ехидному. Переступив с ноги на ногу, он сказал:
– И чего ты, батюшка, вздумал издевку чинить надо мной? Сам ведаешь, что в грамоте я навовсе темный.
Пугачев ударил кулаком в столешницу (подпрыгнула-затарахтела миска) и на полный голос закричал:
– Так как же ты смел, наглец, моего Николаева пагубе предать?!
– А ты, батюшка, того... не гайкай... Захлопни роток-то свой. Я, слава те Христу, не оглох еще, – дерзко прогавкал Лысов и, поправив кушак, откашлялся. – Ежели мы и прикончили дворянчика, так уж, верь, не зря. Он, гнида, твою милость материть почал, а я вступился за тебя, а он на меня, как волк бешеный, едва не убил.
– Врешь! – снова закричал Пугачев, вновь грохнув кулаком в столешницу. – Ты бабьих-то сказок не толкуй мне! Я Николаева почище тебя знаю. Он на меня черным словом не замахнется. Да и вас пятеро было супротив одного. Врешь, смрад ты этакий!
Наступило молчание. Лысов расстегнул ворот рубахи и, сипло дыша, раскашлялся. Затем едва слышно забормотал:
– Он, батюшка, хошь и грамотей хороший, а все же барин, барская душонка...
– Молчи! Барин ли, татарин ли – не твоего ума дело! Иной барин, да поверней тебя, смрада! Скользкий ты человечишка, Лысов, что твой налим.
– Я-то налим, – обозленно проверещал Лысов, – а ты вот в осетрах ходишь. Дак ты уж против нас-то, против атаманов, сдержись, в щеть-то не иди... А то... неровен час...
– Молчать, паскуда! – Пугачев вскочил и, сжав кулаки, шагнул к Лысову. Тот, выкинув руку вперед, в страхе пятился от грозного Пугачева, бормотал:
– Да ты не больно-то... Не ты меня в полковники выбрал, твое величество, казачий круг выбрал.
Пугачев, заглушая его голос, приказал:
– Давилин! Взять полковника Лысова под арест. На хлеб да на воду. Снять с него саблю... – и, обратясь к Лысову, погрозил ему пальцем: – Последнюю предосторогу я тебе делаю!
Когда Лысова обезоруживали, он шумно пыхтел, скрежетал зубами, из глаз у него катились слезы.
– Погодь, погодь, батюшка! – придушенно выкрикивал он. – Сочтемся... Чистоганчиком отблагодарю...
– Не уграживай! – и Пугачев вышел, резко хлопнув дверью.
Огни во «дворце» один за другим стали погасать. Сонная тишина в доме и на улице. Разве что всадник промчится или спросонок взбрехнет озябший пес. Еще слышно было, как тикают стенные английские часы в золотом зальце да за печкой однообразно и размеренно чирикает сверчок.
Прошло два часа. Вдруг тьма вздрогнула: в царской спальне внезапно возникли истошные крики, ругань, пронзительный визг, вопль, хлесткие удары нагайкой.
С заднего крыльца выскочила во двор полураздетая Лидия Харлова и, захлебываясь неутешными рыданиями, побежала мимо всполошившейся стражи. Она бежала через тьму, через огороды – вдаль.
А в четвертом часу ночи в Бердах забил барабан. Во «дворце» зажглись огни. Атаманы-пугачевцы съезжались на конях к царскому крыльцу. Вскоре на крыльцо вышел в сером суконном полушубке Пугачев. Он был мрачен. На левой щеке его, от виска к бороде, темнели царапины, и в свете, что шел снопом от окна, было видно, как слегка подергивалось припухшее, тоже левое, веко.
Ермилка подвел царю рослого коня. Пугачев проворно вскочил в седло, взмахнул рукою. Всадники гурьбой двинулись за ним. «Нет уж, хватит, – бормотал он про себя, сплевывая по ветру. – Правильно сказывают: с бабой свяжешься, сам бабой обернешься. Нет уж, будет!.. Нам и своих, придворных, отбавляй – не надо...»
– Ты что-то молвил, батюшка, ваше величество? – подъехав к нему, подал голос Чика.
– Так это я, – не сразу откликнулся Пугачев. – Вот, к примеру, эта Харлова у нас... Как волчицу не корми, а она все в лес да в лес глядит. А ведь женщина-то какая... Загляденье! – воскликнул Пугачев и глубоко вздохнул.
– Эх, батюшка, – возразил Чика. – На мой мужичий характер, всякая баба хуже козы. Да у семи баб и половины козьей души не будет... Ха-ха-ха!..
– Захлопни рот, Чика! – осадил его Пугачев. – На дело едем.
– Винюсь, батюшка, прошибся.
Ночь была еще в полной силе. Расшалившийся с вечера ветер почти угомонился. Он лишь ползал по лысым взгорьям да, бросаясь в крутые балки, исподтишка шевелил там черные оголенные кусты. И ни единого звука вокруг, кроме этого ползучего ветреного шороха да бодрящего слух снежного скрипа под конскими копытами.
Глава XIVХлопуше оказано доверие. Злодейская расправа. «Оженить надо батюшку». Воинственный казак
Выехав за слободу, всадники увидели справа от себя шесть бурно пылавших в темноте больших костров. Хитрость Пугачева удалась: с ближайших форпостов крепости по пожарищу открыли орудийную пальбу.
Тем временем, пользуясь попутными к городу местными прикрытиями, Пугачев с Чумаковым довольно искусно расставили подвезенные среди ночи пушки, выслали вперед цепи стрелков и чуть свет открыли канонаду. Крепость отвечала. Перестрелка с перерывами продолжалась почти весь день, но без всякого успеха для обеих сторон: только попусту тратили порох и ядра.
К крепостному валу во время перестрелки подъезжали одиночные пугачевцы и, не страшась пуль, кричали:
– Эй, господа казаки! Защитнички! Одумайтесь-ка, поклонитесь-ка государю Петру Федорычу! Он, батюшка, с нами.
– Никаких батюшков ваших не признаем, мы матушку Екатерину признаем! – орали в ответ с вала.
– Вашей Катерине наша Марина двоюродная Прасковья! – в ответ бросали озорники пугачевцы.
К вечеру, собрав совет, Пугачев держал такое слово:
– У Рейнсдорпа на каждую нашу пушку по пяти своих. Нет, детушки, нужды нам почем зря людей расходовать. Мы их, изменников, ежели не сдадутся, голодом выморим!
Втайне он не терял надежды как-нибудь захватить крепость врасплох. В течение двух недель, почти ежедневно, он подвозил пушки к крепостным фортам и размещал их всякий раз ближе да ближе к цели. Снова орудийная перепалка, снова приступ, снова ответная вылазка защитников, короткая схватка – и беспорядочное отступление осаждающих. Преобладающее количество крепостной артиллерии явно брало верх над пугачевцами, и тогда Емельян Иваныч решил, что «в крепость влезть не можно, с малым числом пушек крепости не одолеть».
Но вот стали приходить известия, что небольшими самочинно возникавшими отрядами пугачевцев заняты на Урале купеческие заводы: Воскресенский, Преображенский и Верхотурский. Вскоре в стан Пугачева были доставлены и трофеи: несколько пушек, снаряды, порох и деньги.
Емельян Иваныч всему этому был много рад и начал изыскивать способы к дальнейшему развитию своей артиллерии. Он направлял в разные стороны указы, или, как их называли в Петербурге, «прельстительные письма». Засылал на места и своих людей. Как-то он приказал разыскать и доставить к нему Хлопушу-Соколова.
Огромный, слегка подвыпивший Хлопуша, в новых валенках, черненом нагольном полушубке, перехваченном красным кушаком, подойдя к дому Пугачева, полез было на крыльцо, но его остановил караул:
– Куда прешь! Ослеп, что ли?..
– К самому требуют. Шигаев прибегал за мной с час тому назад.
– Эй, Маслюк! Давай во дворец к дежурному! Безносый-де просится.
Заскрипели ступеньки, запела скрипучую песню дверь, через минуту Маслюк крикнул сверху:
– Пущай идет!
Хлопуша только головой крутнул на новые порядки, выругался про себя, сказал: «Оказия» – и грузно пошагал наверх.
Его провели в боковую горницу. На окошках цветы, посреди пола, в кадке, большое заморское деревцо с разлапистыми листьями, над ним, у потолка – русский чиж в клетке.
Царь играл у окна с Шигаевым в шашки. На крутом плече Пугачева, перебирая лапками и задрав хвост, ужимался, мурлыкал, терся головой о волосатую царскую щеку белый котенок.
– А-а, Хлопушка! – произнес Пугачев и «съел» у зазевавшегося Шигаева «дамку». – Сыт ли, здоров ли?
– Благодарим покорно, покудов сыт и в добром здравии... чего и вашей милости желаем.
– О моей милости не пекись, за мое здоровье попы во всех церквах, снизу доверху, Бога просят.
Хлопуша умолк. Волосы у каторжника гладко причесаны, борода аккуратно подстрижена, взгляд диковатых белесых глаз вдумчивый, через искалеченный нос – чистая, поперек лица, повязка.
– А я ведь думал, Хлопуша, что ты все у меня повысмотришь да и к Рейнсдорпу обратно, – продолжал Пугачев, прищуривая правый глаз на шашки.
– Пошто мне бегать. – прогнусил Хлопуша. – Ходил однова тайком к своей бабе с робенчишком, да вот, сам видишь, опять с тобой...
– Ну, и на том спасибо. Коль ты со мной, стало – и я с тобой... Три шашечки зеваешь, Максим Григорьич. Все три, брат! – Пугачев с резким стуком перекрыл у Шигаева шашки, затем искоса, сбоку, взглянул на Хлопушу и спросил: – Ну как там, у Рейнсдорпа, порядки-то каковы, народ-то что гуторит?
– А что народ? Народу положено губернаторишку костить. Да и поделом. Ни тебе фуража для скотины, ни тебе пропитанья для жителей на запас. А как ты его нынче кругом запер, ему теперича ни вздохнуть, ни охнуть!
Пугачев скосил в улыбке рот, но вслед за тем ойкнул и сбросил с плеча котенка: в припадке нежности зверюшка запустил когти ему в шею. Котенок встряхнулся, подбежал к Хлопуше и принялся тереться мордой о его валеный сапог. Верзила нагнулся и огромной горстью взял котенка к себе на грудь.
– В шашках зевака ты отменный, Максим Григорьич, – снова обратился Пугачев к Шигаеву, – смотри, не прозевай, друг, сена в степу.
– Да уж прозевали, батюшка Петр Федорыч, прозевали, – потупился Шигаев и виновато замигал.
– Как так, прозевали? – воскликнул Пугачев. – Шутишь ты?
За Шигаева откликнулся Хлопуша:
– Сей ночи сотни четыре городских подвод на степу были, большую уйму сена в город ухитили, да, поди, не менее подвод в лес по дрова губернатором отряжено.
– Прозевали, ваше величество, прозевали, – подавленно твердил Шигаев, встряхивая расчесанной бородою.
Пугачев опрокинул на пол шашечницу, круто поднялся из-за стола, закинул руки за спину, принялся взад-вперед вышагивать.
– А где же наши разъезды были, где секреты? Спали, что ли? Ни порядку, ни строгости у нас, Максим Григорьич!
– Нету, нету, батюшка, – с горечью в голосе согласился Шигаев. – Ни сего, ни оного.
– Повесить! – гаркнул Пугачев, остановившись возле Хлопуши. Тот сбросил с рук котенка и попятился.
– Кого, батюшка? – покорно вопросил Шигаев.
– А кто на карауле сей ночи в степу спал, вот кого!.. Выбрать одного да для ради острастки и вздернуть... Под барабанный бой! И чтобы всех собрать, чтобы принародно!
Вошедший Падуров, поклонясь Пугачеву, с минуту наблюдал за ним, затем на цыпочках подошел к Шигаеву, остановился позади него, шепнул ему на ухо: «Встань – видишь, государь на ногах». Шигаев торопливо поднялся.
Падуров, взяв стул за спинку, произнес:
– Разрешите, ваше величество...
Пугачев сердито уставился на него глазами.
– Чего разрешить-то? Уж не опять ли жениться задумал?
– Разрешите сесть, ваше величество, – и молодцеватые усы Падурова дрогнули от улыбки.
– А! – воскликнул Пугачев. – Садись, садись... И ты, Шигаев.
У Хлопуши пот проступил на лбу. Уж если этот Падуров, заседавший от казачества у самой царицы на большом всенародном совете, так держится тут, даже величеством Пугача величает, то... чем черт не шутит: вдруг и впрямь он не Пугач, а царь взаправдашний!
– Я полагал бы, государь, – говорил между тем Падуров, – когда нашей силы скопится поболе, учредить у нас Военную коллегию.
– На манер той, где Захар Чернышев сидит? – живо откликнулся Пугачев.
– Вот! И чтоб всякий из начальников ваших был к чему-нибудь определен.
– Ништо, ништо... Гарно! – сказал Пугачев. – Поставим и мы графа Чернышева.
– Ваше величество, – робко ввязался Шигаев. – Хлопушу-то отпустили бы, чего ему тут тереться? Ведь он любопытник наторелый.
С обидой взглянув на Шигаева, Хлопуша обратился к Пугачеву:
– Я могу и уйтить, ежели на подозрении держите...
– Ан вон и нет, мой друг, – возразил Пугачев, подсобляя Шигаеву ногой сгребать на полу рассыпанные шашки. – Ежели б я подозрение имел, так уж, верь мне, Соколов, давно бы тебя черви грызли... У меня к тебе государственное поручение примыслено. Ну, таперь подь к печке и сядь. Да хорошень прислушайся, что скажу.
Услыхав слова «государственное поручение», Хлопуша разинул волосатый рот и попятился к печке. «А ей-Богу, царь! Либо ловко прикидывается», – сказал он себе.
– Бывал ли ты когда-нито в Авзяно-Петровском дворянина Демидова заводе? – спросил его Пугачев.
– Не доводилось, – молвил Хлопуша, усаживаясь на указанном ему месте.
– Так вот что, Хлопуша-Соколов... Приказываю тебе моим царским именем: возьми-ка ты в провожатые себе крестьянина Иванова Митрия, что явился перед наши царевы очи с того завода, да еще прихвати доброконных казаков пяток и поезжай немедля со Господом в оный завод. Путь не близкий – не менее как триста верст, а то и с гаком... И толкуй там моим вышним именем... Слышишь? Царским моим именем! – поднял голос Пугачев и сурово покосился на Хлопушу.
Того словно ветром вскинуло.
– Слышу, надежа-государь, – откликнулся он стоя.
– Так вот, объяви работным людям мой писаный указ. Да разузнай, не можно ли промежду них сыскать мастера – мортиры лить? А ежели это дело у них налажено ране было, пущай того дела не прекращают. Нам мортиры во как надобны! – и Пугачев провел ребром руки у себя по горлу. – Понял, Соколов?
– Понял, – начал Хлопуша, – понял...
– ...ваше величество, – подсказал ему Падуров.
Хлопуша тихонько взглянул на Падурова и гнусаво промычал что-то в тряпицу, но Пугачев махнул рукой:
– Иди, Соколов, сготовляй себя в поход.
Проводив Хлопушу, а вслед за ним и Шигаева, Пугачев сказал Падурову:
– Вот что, Тимофей Иванович, уж ты не больно-то церемонии у меня заводи. Я твое усердие понимаю и благодарствую, конечно. Только ведай: порядки нам положены не барские, не дворцовые, а какие есть – казацкие. Давай-ка, брат, как-нито попроще.
– О дисциплине пекусь, государь.
– Гарно, гарно, о дисциплине пекись – без нее ни страху, ни порядку. Только уж когда мы со своими ближними – можно, пожалуй, и не столь истово. Эх, Тимофей Иваныч, жалко мне сержанта Николаева, – неожиданно перевел он разговор. – Шибко, признаться, к людям я привыкаю. Похоже, и ты из таких?
– Из таких, ваше величество.
– А из таких, так слухай. Замотался я, веришь ли, с этой барынькой Харловой! Намеднись я ей слово, она мне десять, да как завопит, да как затопочет об пол пятками... Ну да ведь и я горяч. В горячке я себя не помню... В горячке я и за нагайку могу!
– Харлову? Нагайкой? – отступил на шаг Падуров и так взглянул на Пугачева, будто увидал за его плечами нечто жуткое, затем, брезгливо дергая усами, пробубнил, потупясь:
– Не дело, не дело, государь...
– То-то и есть, что не дело, – проговорил Пугачев раздумчиво. – Об этом самом и я помышляю... одно, выходит, беспокойство! Истинно говорится: как волчицу ни корми, она все в лес норовит.
– Да ведь и другой сказ есть, ваше величество, сами небось слышали: насильно мил не будешь, – угрюмо сказал Падуров. – Как же теперь быть-то, государь? Не гоже ведь нам не токмо что человека, а и тварь бессловесную зря терзать...
Пугачев помолчал.
– А знаешь что, Падуров? – внезапно оживился он. – Бери-ка ты цацу эту себе! Ась?
– Нет, ваше величество, благодарствую, мне и одной довольно, – с улыбкой откликнулся Падуров. – Будь мы в Санкт-Петербурге с вами, при дворце, – ну, куда бы ни шло! А ведь сами же только что изволили сказывать: порядков дворцовых нам не заводить
Пугачев понял его и тоже ухмыльнулся, потирая рукою бороду. – Вижу, Тимофей Иваныч, урок мой зазря не прошел тебе. Мозговат ты... Ну, ин довольно об этом!..
Вслед за Хлопушей был отправлен на сторону и полковник Шигаев. Ему поручалось объехать все верхние яицкие форпосты и собрать верных казаков в стан государя. Царский указ, врученный Шигаеву, начинался так:
«Всем армиям государь, российскою землей владетель, государь и великая светлость, император российский, царь Петр Федорович, от всех государей и государыни отменный». Далее следовало повеление «Никогда и никого не бойтесь, и моего неприятеля, яко сущего врага, не слушайте. Кто меня не послушает, тому за то учинена будет казнь».








