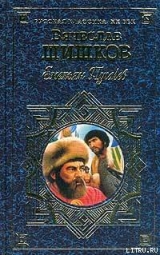
Текст книги "Емельян Пугачев, т.1"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 75 страниц)
...В Яицком городке возле церкви – несусветимый плач и вой: на многих подводах угонялись в Сибирь сто сорок четыре бедняцких души целыми семьями с малыми ребятишками и дряхлыми старцами. Огромное скопище бедноты, сбежавшейся на проводы, мрачно окружало готовый тронуться обоз, а народ все еще прибывал. Оцепившие обоз конные и пешие солдаты щетинили штыки, замахивались нагайками, понуждая народ не напирать и расходиться по домам. Офицерик-немец в темно-зеленом сюртуке и шляпе с белой выпушкой выкрикивал с коня:
– Какие тут узоры?! Р-р-разойдись!.. Н-не толпись! Что, что? По заслугам на каторгу везут... Зря не будут.
– Тебя бы, немецкого барина, туда-то, – запальчиво бросали бабы из толпы. – Тебе русской крови нешто жаль? А на них нет вины...
– Что, что? Благодарите всемилостивейшую монархиню, что ваши головы остались на плечах...
– Благодарим, благодарим! – явно издевательски зазвенели мужские и бабьи голоса. – Много довольны государыней.
Офицерик-немец, притворившись, что не понял «оскорбления величества», весь вспыхнул, стегнул коня – и прочь от крикунов.
По улицам ходили патрули, не давали собираться в кучки. От дома коменданта, полковника Симонова, усугубляя страдания приговоренных, прогарцевала к заставе нарядная сотня богатеньких казаков. Заломив бараньи с бархатом остроконечные шапки, сверкая на солнце сбруей и оружием в чеканном серебре, сотня важно проехала мимо печального обоза. Богатенькие бросали презрительные взгляды на удрученно сидевших в телегах каторжан, своих былых товарищей. Те, отворачиваясь и скрежеща зубами, посылали им вдогонку проклятия.
Но вот команда: «Вперед, вперед!» – заскрипели телеги, обоз двинулся, увозя насильно в Сибирь сто сорок четыре души приговоренных. Выдохнув протяжное «о-о-ой ты...» – они истово закрестились на церковь с погостом, надрывно, давясь слезами, взголосили в провожавшую толпу:
– Прощайте, прощайте, желанные казаченьки!.. Простите нас, грешных. Хоть когда вспомяните... Прощайте, могилки сродников наших! Ой, рядышком не лежать нам с вами, белы косточки. Прощай, Яик вольный!.. Прощай, весь мир честной... Прощай, прощай навек, вольное казачество!
Толпа отвечала, как буря в лесу, общим ревом, взмахивала шапками, платками. Заглушая грохот и скрип обоза, громко рыдал весь народ в толпе и на телегах – от нежных девушек до бородатых, закаленных в боях казаков. Густейшая пыль, поднявшаяся в воздухе, размазалась по лицам сырой от слез грязцой. На тридцати пяти телегах – котомки, сундучки, кошели, мешки, и в каждом заветном семейном сундучке упрятан заветный узелок с родной землей – когда настигнет смерть в чужом краю, всякий чает получить под гробовую доску щепоть священнейшего праха, родной своей земли, облитой в долгую жизнь яицкого казачества немалой кровью и слезами.
Из дворов выбегали запоздавшие, бросались пред проезжавшими телегами на колени в пыль, земно кланялись, с болью слезно выкрикивали: «Прощайте, прощайте, страдальцы безвинные, до страшного суда Христова!» И так – по обе стороны дороги, пока двигался обоз, вплоть до самого выезда из города. У женщин, сидевших на телегах, от напряженного плача и выкриков лица пожелтели, голоса осипли. Иные женщины, обессилев, лежали поперек телег, лицом вниз, вздрагивая плечами, взахлеб, приглушенно рыдая. Их отцы, мужья и братья сидели с окаменелыми лицами; иной сидит-сидит, и вдруг слезы потекут, он их не унимает, только головой трясет и хватается за сердце. Спокойно и даже с удовольствием сидели на телегах малолетки, весело перекликаясь с соседями.
– Ванька! – кричал белобрысый трехлеток. – У нас конь уда-ле-е-е...
– Нет, наш лучше... У нас с хвосто-о-ом!..
– Акулька! Глянь, два кота на крыше-е-е...
– Наплева-а-ть! А у нас у бабушки брюхо схватило... Плачи-ит...
Обоз ушел, сто сорок четыре души уехали мучиться, умирать в чужую землю, покинув на родине заколоченные хаты.
Обоз ушел, но не ушло из Яицкого городка смертное уныние. Вольное дыхание увядало, как вянет зеленеющая крона дерева, у которого подрубили корни. Хотя жизнь все же кой-как тащилась, но всяк существовал теперь, стиснув зубы, и каждое казачье сердце нудно ныло, как исхлестанная езжалыми кнутами спина.
Солнце светит, но света не дает, птицы распевают, но людские уши замурованы, колокола заливисто и весело гудят, но каждому бьет в душу погребальный звон. И каждый видит пред собою отверстую могилу, куда «милостыню» зазнавшегося Петербурга и высокоматерним попечением «благочестивейшей» императрицы свалены все вольности казацкие, свалены все вековечные устои свободолюбивого народа, задавлены и тоже свалены в могилу полные героизма мятежные вспышки казацкой бедноты, столь опасные для дворянского покоя Империи Российской.
И мерещится опальным казакам, что чьи-то услужливые руки уже похватали лопаты, чтоб эту отверстую могилу казачьих вольностей сровнять с землей. И мерещится казакам, будто ставят многочисленные виселицы, будто возводят эшафот и палач восходит по кровавым ступеням к плахе с топором.
Ждет, ждет казацкая громада избавителя, однако избавитель не приходит.
Но вдруг – как в подземном замурованном подвале, до отказа набитом людьми, где нечем дышать и не для чего жить, – вдруг чья-то сильная рука пробивает брешь и вместо смерти снова в подвале жизнь.
Вдруг, когда уже казалось, что все погибло, трубным звуком прогудела весть: «Избавитель нашелся!»
Шел теплый дождь, темнело. Еремина Курица задал лошадям овса, подбросил коровам сена, собирался домой на печку. Слышит, топочут кони, видит сквозь сутемень и сеть дождя – двое казаков-гулебщиков подъехали к умету.
– Не можно ли от непогоды укрыться у тебя, переночевать? – спросил низкорослый казак Кунишников. – А то сайгаков промышляли мы да запозднились.
– Заезжайте, заезжайте, места хватит, – сказал Еремина Курица, сразу сметив, что осторожные гулебщики не ради охоты на сайгаков приехали сюда.
Казаки соскочили с лошадей. Бородач Денис Караваев с бельмом на правом глазу, подойдя вплотную к Ереминой Курице, тихо проговорил:
– Не ты ли хозяин умета будешь?
– Я самый. А что?
– Да ничего. – Караваев помялся, повздыхал, с опаской поглядел по сторонам, спросил шепотом: – Правда ли, что у тебя скрывается человек, который будто бы называет себя государем Петром Федорычем?
Уметчик подергал пегонькую бороденку, переступил с ноги на ногу, боялся дать прямой ответ.
– Кто это вам наплел такие баляндрясы? – в смущеньи бросил он.
– Григорий Закладнов, вот кто.
– А-а, так, так, – сразу повеселел уметчик. – Стало, вы оба, ерем кур, войсковой стороны будете? Дело. В таком разе поведаю: есть у меня такой человек. Только теперя, ерем кур, видеться с ним не можно, чужие люди есть, а оставайтесь вы до утра, тогда уж...
Приехавшие пустили стреноженных лошадей на траву, пожевали хлеба с арбузом и, за поздним часом, устроились спать на базу на сене. У противоположной короткой стены сарая, за цветистой занавеской, ночевался Пугачев с хозяином умета.
– Гости, ерем кур, приехали к тебе, – ложась спать, шепнул уметчик Пугачеву, – утречком прими их, батюшка.
– Ладно, – шепотом же ответил Пугачев. – А ты утресь проведай, бывали ли они в Питенбурхе во дворце и знают ли, как к государю подходить? Ты прикажи им, как войдут ко мне, чтобы на колени стали и руку мою, руку облобызали бы.
Утром уметчик подошел к проснувшимся казакам, переговорил с ними, распахнул ворота сарая – хлынул ослепительный солнечный свет – и с торжествующим выраженьем помятого, еще не умытого лица отдернул занавеску. Казаки увидели пред собою сидящего за столом чернобородого, черноусого, с горящими глазами детину. Они вскочили, отряхнулись, оправили свои кафтаны и, подойдя к столу на цыпочках, упали на колени.
– Уж не прогневайтесь, вашество, мы путем и поклониться-то не смыслим, – с волненьем проговорил, заикаясь, бельмастый Караваев.
– Встаньте, господа казаки, – и Пугачев протянул им руку ладонью вниз. Те с робостью приложились к руке. – Ну а чего ради прибыли вы ко мне, господа?
– А мы к вам, ваше... величество, присланы милости просить и заступления за нас, сирых...
Пугачев взглянул в их лица пронзительно: уж не притворяются ли, не злоумышляют ли против него. Но лица их были подобострастны, голоса звучали искренно. Торопясь, но с толком казаки поведали Пугачеву о той немыслимой беде, в которую попало Яицкое войско.
– А мы хотели по-старому служить, по прежним грамотам, как при царе Петре Великом.
Пока шла беседа, у Пугачева было то скорбное, то гневное лицо, он пыхтел, сжимал кулаки, бормотал: «Ах, злодеи, ах, негодники!» А как кончили, он огладил бороду, потрогал книжку с золотым обрезом и, выбирая слова, произнес:
– Ну, други мои, слушайте в оба уха, что скажу, и старикам вашим передайте... Ведайте, други, ежели вы хотите за меня вступиться, то и я за вас вступлюсь. Помоги нам, Господи... – и Пугачев, подняв к небу взор, двуперстием истово перекрестился.
Казаки заплакали, повалились Пугачеву в ноги:
– Приказывай, надежа-государь!.. Все войско примет тебя. Не выдадим, надежа-государь... Верь!
Сердце Пугачева вскачь пошло, губы запрыгали, он сморщился, сморгнул слезу, быстро встал.
– Ну, соколы ясные, детушки мои! У вас таперя пеший сизой орел, так подправьте сизому орлу крылья! – И Пугачев выкинул руки вверх и в стороны. Большие черные глаза его сверкали, весь вид его, невзирая на бедную одежду, стал важен и внушителен. Казаки, разинув рты, попятились. Обнимая их, он, с дрожью в охрипшем от волнения голосе, говорил: – Я жалую ваше войско рекою Яиком, рыбными ловлями, угодьями, всей землей безданно и беспошлинно... А такожде и сенными покосами... И солью... Бери соль дарма, вези на все четыре ветра, кто куда похочет...
– Много довольны, ваше величество, милостью твоей великой, – вновь упали казаки в ноги Пугачеву. – Верой и правдой служить станем, крест поцелуем... Умрем!
В распахнутых воротах маячил, выставив бороду, беглый крестьянин Чучков. Внимая неслыханному разговору и тому, что казаки величают чернобородого надежой-государем, Афанасий Чучков обратился в столб. Заметя его, Пугачев махнул рукой, крикнул:
– Иди, иди, брат, не твое дело тут!
Совещание в сарае продолжалось. Пугачев велел казакам приготовить знамена, купить голи разных цветов шелку и шнура, а ему, государю, наряд добрый, фасонистую с бархатным верхом шапку.
– Не можно ли записать надежа-государь, что да что надобно купить. А то у нас головы дырявые. Да добро было бы указ ваш выдать на войско.
Пугачев смущенно замигал, покряхтел, почесал за ухом, молвил:
– Ни чернил, ни бумаги нетути здеся. Я бы, конешно, написал. Впрочем сказать, ведомо ли вам, детушки, что указы пишут великие писари царевы, а император токмо подпись кладет? Ну так вот, поезжайте скореича на Яик, объявляйте войску обо мне да дня через два, много через три, опять сюда скачите.
– Сенокосы у нас, надежа-государь, страдная пора! Не можно ли, батюшка, недельку повременить? – сказали казаки, кланяясь.
– Ну нет, господа казаки... – возразил Пугачев строго. – Надобно как можно поспешать. А то в огласку дело пойдет, и вам и мне худо будет... Тогда меня здесь и не сыщете. Уж вы, детушки, старайтесь сами о себе... Да и о других пекитесь...
Кунишников с Денисом Караваевым сели в седла и, приветствуя Пугачева поднятыми на пиках шапками, скрылись в степи.
Крестьянин Афанасий Чучков подбежал к Пугачеву, сдернул колпак с обритой по-каторжному головы, припал к ногам его и, целуя сапоги, выкрикивал сквозь внезапные слезы умиления:
– Батюшка, надежа-государь, не оставь рабов своих, холопов...
Пугачев поднял его.
– Скоро не станет рабов. И ты слободу примешь... А покудов никому не сказывай, кто я есмь, – сказал он и с проворством пошел к речке Таловой выкупаться. Его походка – четкая, быстрая, легкая. Чучков, глядя на него, залюбовался: «Ишь ты... Как девка складная идет, не по-нашенски, не по-мужиковски...»
Пугачев разделся, с маху бросился в речку. Лето кончалось, а вода все еще теплая, как молоко парное. Поплавал бы подоле, да спешить надо, и песню бы спел, да нет уж, опосля. Но в счастливые моменты Пугачев без песен не жил. Вот и тут, надевая одежду прямо на мокрое тело, он тенористо и складно запел:
При бережку, при лужку,
При счастливой до-о-оле,
При станичном табуне
Конь гулял на воле,
Казак был в нево-о-ле...
Пел с огоньком, бросая слова и выразительные взгляды в сторону Яика, ныне ставшего ему родным и близким.
Гуляй, гуляй, серый конь,
Пока твоя во-л-ля.
Вот поймаю, зауздаю
Шелковой уздою.
Ты бежи, бежи, мой конь,
Бежи, торопися...
– Да, верно, – оборвав песню, сказал он самому себе. – Торопись, поторапливайся, Емелька... Тебе, темному, на Иргиз к старцам треба спешить, писаря искать... А то казаки и впрямь в дураках оставят. Эх ты, ца-а-арь!..
Он вприскок – на умет и, на скорую руку похлебав овсянки, заторопил Еремину Курицу ехать с ним на Иргиз-реку.
– Не опасно ли, батюшка? – предостерег его уметчик. – Ведь вас знают там все...
– Бог сохранит, – сказал Пугачев. – Мне письменного человека в канцелярию мою до краю надобно. А их, чаю, в скитах довольно.
Дорога была грязная. Путники на двух сытых конях ехали верхами степью. В Исаакиевском скиту остановились. По приказу Пугачева уметчик сбегал к старцам, отыскал игумена, сказал ему, что объявился государь Петр Федорыч и что оный государь приказывает всем скрытным в иргизских скитах беглецам немедля идти под Яицкий городок и там дожидаться повелений. Игумен перекрестился, сказал:
– Дай-то Бог. А скрытных людей нет у нас. Было человек с полсотни, да от команды сыщиков поразбежались все. А как соберутся – пошлю, беспременно пошлю.
Путники тронулись в Мечетную слободу, к куму Емельяна Ивановича – Степану Косову, тесть которого, старик-крестьянин Семен Филиппов, в прошлом году с испугу донес на Пугачева. Сердце не лежало ехать к куму, да Пугачеву пришла блажь вызволить от Степана Косова свое имущество.
Прибыв в Мечетную, уметчик остановился у околицы, а Пугачев поехал к куму, но дома не застал того – кум возил хлеб на гумно. Пугачев направился к жнивью и возле слободы встретил возвращавшегося домой Косова. Тот изменился в лице, глаза его испуганно забегали.
– Откудов Бог принес тебя, куманек?.. Вот встреча... – озираясь по сторонам, сладко запел он.
– Откудов – сам ведаешь, – неласково ответил Пугачев. – Дай Бог здоровья тестю твоему, в Казанском остроге по его милости тюрю с червяками хлебал. А вот, кум, помнишь, поди, у тебя рубахи мои, да рыба, да лошадь осталась...
– Все, родимый мой, в Малыковку забрали, да и меня не единожды таскали на допрос... Слых был, что ты из тюрьмы утек... Верно ли? А паспорт-то, Емельян Иваныч, есть ли у тебя?
– Знамо есть, – зорко всматриваясь в лицо кума, ответил Емельян.
Степан Косов, мужик большой, сильный, шел по дороге пешим, рядом с ним ехал в седле встревоженный допросом Пугачев.
– А покажи-ка.
– Для ради каких делов, кум, запонадобился тебе мой паспорт?
Путники вступили в край Мечетной слободы.
– Паспорт-то? – переспросил кум и, завидя двух жителей, стоявших у ворот, поманил их рукой к себе. Те стали лениво подходить. Косов шагнул к Пугачеву, сказал в упор: – А пойдем-ка лучше к нашему выборному, – и протянул руку, чтоб схватить коня за узду.
Но Пугачев, опоясав плетью сначала кума, потом своего коня, помчался. Под быстрый топоток копыт, под шум ветра в ушах в его сознание внезапно вломились отрывки песни:
Ты бежи, бежи, мой ко-о-нь,
Бе-е-жи, торопи-ися...
Он покрепче нахлобучил шапку, взмотнул локтем, захохотал.
– Чего ты, ерем кур?! – крикнул подскакавший к нему уметчик.
– Лихоманка задави этого Косова, – вытирая пот с лица, ответил Пугачев. – Собака, паспорт требует. Было за грудки взял. Едва утек...
– Пошто же ты, батюшка, поехал к таким злодеям?
– Айда к скитам! Уж там-то нас не вдруг сыщешь... – и всадники ударились к Тимофееву скиту, что верстах в пятнадцати от Мечетной.
Было уже темновато, а в лесу и совсем темно. Всадники, перекрестившись на избяную церковь с восьмиконечным «древлего благочестия» крестом, въехали во двор скитского игумена, старца Пахомия. Вкусно пахло свежим хлебом.
Из пекарни вышел маленький курносый старец с седой косичкой.
– А, купец никак, раб Божий обшит кожей... Хе-хе... А это кто? Эге!.. Еремина Курица... Ах ты, живая душа на костылях, – посмеиваясь и щуря глазки, шутил старец.
Пугачев слез с коня, спросил:
– А нет ли, отец Пахомий, у тя письменного человека?.. Шибко надобен... А опричь того – беглецов нет ли?
– Да вот я! – воскликнул веселый старец и подбоченился. – Я и письменный человек, и беглец, и на дуде игрец... Хе-хе-хе...
В этот миг по дороге затарахтела топотня, на быстрых рысях пробежала ватага конников, впереди на рослом мерине пугачевский кум – Косов.
– Погоня, ер кур, ер кур... – прошипел уметчик.
Тут Косов вдруг завернул коня, крикнул своим:
– А вот, кажись, и они... Айда во двор, робята!
Пугачев, бросив лошадь, стремглав кинулся мимо пекарни, мимо старцевых келий, по огородам, через тын, скакнул в челн и, подпираясь шестом, переправился на тот берег реки Иргиза.
Чрез сутемень долетали до него крики, ругань во дворе Пахомия.
– Говори, чертов сын, куда утек смутьян? – сердито спрашивал Косов помертвевшего уметчика.
– Эвот-эвот туды он побежал, ер кур, – бормотал уметчик, кивая головой. – Вон в ту келейку.
Уметчика заперли в баню, и человек двадцать погони вместе со старцем Пахомием принялись обшаривать все кельи. Ударили в набат. Медный колокол гулко бросал сплошные звуки во все концы надвинувшейся ночи, в дремучий за Иргизом лес, в котором укрылся Пугачев. На звон набата вылезли из своих дальних келий сонные старцы. Творя «Исусову молитву», озираясь, искали, не зачался ли где, Боже упаси, пожар. Даже с соседнего, Филаретовского, скита приехали на конях люди. Поиски бесплодно продолжались, сентябрьская ночь была темна, а в скиту – всего два самодельных фонаречка.
Погоня, захватив с собой арестованного уметчика, уехала ни с чем.
Когда все смолкло, Пугачев перебрался обратно чрез Иргиз, зашел в монастырский двор. В кельях крепко спали. Он тихонько отворил дверь в пекарню, принюхиваясь, нащупал в темноте буханку хлеба, разломил ее, покормил хлебом своего коня и сам почавкал с аппетитом.
Не торопясь, Пугачев залез в седло и пришлепнул застоявшуюся лошадь по ядреной холке. Ехал лесом, озираючись. Дремучий лес безмятежно спал. По всему Иргизу, по всем марчугам и сыртам лежала ночь. Он посмотрел на звездное небо, ковш Большой Медведицы зацепил собою черную кайму лесов – невзадолге и рассветать начнет.
Пугачев крутил головой, дивился незадачливому дню. Но уныния и в помине не было, он легонько посвистал и замурлыкал себе под нос:
Гуляй, гуляй, серый конь,
Пока твоя во-о-ля...
Милое слово «воля» взбадривало его, он смело глядел вперед, в свое будущее и чрез открывшиеся степи, залитые розоватым светом восходящего солнца, правил серого коня к осиротевшему теперь Таловому умету, где должны ожидать государя своего от Яицкого воинства гонцы.
Глава XIПосмотренье царю гонцы делают с сумнительством. Петр так Петр, Емельян так Емельян
Яицкий городок осушал от слез глаза, солнце стало светить по-иному, а сердца многих сжимались волнующим предчувствием. Почти никто еще ничего путем не знал, но слухи о новоявленном царе распространялись. Этому способствовали бельмастый бородач Денис Караваев и низкорослый, с простоватым лицом, Кунишников, недавно вернувшийся домой из Талового умета.
Молодой казак войсковой стороны, краснощекий Мясников рано утром заглянул в дом Дениса Караваева, проведал о «батюшке» и с этой вестью поспешил к дружку своему Чике-Зарубину. Тот сидел в предбаннике, лил свинцовые пули с Петром Кочуровым, известным выпивохой.
– Слыхали чудо? – и белобрысый, мордастый Тимоха Мясников, покручивая маленькую бороденку клинышком, было принялся рассказывать.
– Чудо не чудо, – перебил его быстроглазый Чика, – а этот слых мне давненько в уши влетел, мне Гребнев сказывливал, а ему Гришуха Закладнов, живовидец... Только я шибкой веры не даю, мало ль что брякают... Вот болтали же, что в Царицыне объявился царь, ну ему ноздри и вырвали, царю-то...
Мясников не хотел распространяться при запивохе Кочурове, он позвал Чику с собой на базар, живенького-де поросеночка присмотреть. Путем-дорогой Мясников говорил:
– Батюшка ведь повелел прислать к нему двух человек. Не поехать ли нам с тобой, Чика?
– А за чем дело стало? Вот завтра и поедем, не мешкая, – ответил падкий до приключений Зарубин-Чика.
– Караваев толковал, что он тоже собирается с кем-то к батюшке...
– Ну и пускай едут, – сказал Чика, – они своим чередом, мы – своим.
Их встретили двое молодцов войсковой стороны.
– Куда, братцы, шагаете? Не на базар ли?
Остановились, стали закуривать, трут не зажигался, шутили, смеялись. Подошел патруль из трех солдат.
– Расходись, расходись, казаки-молодцы, – мягко сказал старший. – Нешто не читали приказа комендантского?
– Неграмотны, – прищурил глаза черный, как грек, Чика. – Уж шибко много приказов комендант вам пишет, лучше бы жалованья поболе платил.
– Попридержи язык, – изменив тон, строго сказал старший. – Я, брат, помню тебя... В канун преображенья Господня, помнится, по тебе плеть гуляла... Иди-ка, брат.
– Сегодня в твоей руке плеть, завтра в моей будет, – бросил задирчивый Чика и зашагал прочь, бубня: – Дождетесь, косы-то девкины овечьими ножницами обстрижем...
А в другом и в третьем месте появлялись патрули, следили, чтоб казаки войсковой стороны не табунились. Подходя к своей хате, Чика увидел пятерых, сидевших в холодке, казаков, они резали ножами арбузы и сторожко, озираясь во все стороны, вели беседу.
– Мне сам Денис Караваев сказывал, – потряхивая рыжей курчавой бородой, говорил вполголоса веснушчатый Андрей Кожевников. – Доподлинный государь на Таловом умете... Приглашает казаков к себе, двух, либо трех, вроде как депутатов войсковых.
– Беспременно надо ехать к батюшке, – подхватили казаки. – Эй, Чика, садись на чем стоишь!..
– К кому это ехать? – спросил Чика, присаживаясь к товарищам на луговину и подцепив сочный кусок кроваво-красного арбуза.
– Да ты что, впервой слышишь? Ведь объявился государь!
– Неужто? А кто вам сказывал? – прикинувшись непонимающим, спросил Чика.
– Да Денис Караваев с Кунишниковым, вот кто, – с раздражением ответил рыжебородый Андрей Кожевников. – Доведется ехать укрыть его, батюшку, а то у старшинской стороны ноздри широки, как у верблюда ухо, живо пронюхают... Не возьмешься ли ты за это дело, Чика? Государя поберечь?!
– Отчего не взяться, я возьмусь, поеду, – не задумываясь, ответил тот. – А куда же укрою его?
– А уж это не твоя печаль, – сказал Андрей Кожевников, поплевывая арбузными семечками. – Вези прямо ко мне на хутор, там Михайло да Степка, братья мои. Там есть, где укрыться. Стало, едешь?
Чика охотно согласился и на это предложение Кожевникова, утаив от него, что дал слово также и Мясникову ехать к «батюшке». Казаки, завидя патруль, похватали недоеденные арбузы и быстро разошлись.
В это время к бельмастому бородачу Денису Караваеву постучался в калитку высокий, сутулый, с надвое расчесанной темно-русой бородой Максим Шигаев. Ему открыла белобрысенькая девчоночка в красном платке. Караваев, от которого начались все слухи о «батюшке», сидел у печки, рылся в огромном сундуке, окованном железом. Ему помогала жена его, румяная и круглая. На полу навалены цветные тряпки, бабьи наряды.
– Здоров будь, Денис... Здорово, Варвара, – поприветствовал Шигаев. – Чего это вы тут ярмарку развели?..
– Да вот... по хозяйству... Девчонке ленту ищем подходявую, – запнулся хозяин.
Варвара неприязненно покосилась на гостя и вышла.
Умный Шигаев сразу сметил опасливое настроение хозяев. Усаживаясь на скамью, спросил:
– А правда ли, Денис, сказывают, в Таловом умете царя ты видел?
Караваев взглянул в серые, острые глаза гостя – и от-рекся:
– Ничего не знаю я... Это народ плетет... Глупость какая!
Казаки войсковой стороны относились к Максиму Григорьевичу Шигаеву с подозрением: 13 января прошлого года он принимал большое участие в кровавом деле против старшин и генерала Траубенберга, но почему-то был помилован и не понес никакого наказания. Хотя официально всякому было ведомо, что Шигаев прощен за спасение капитана Дурново от смерти, однако подозрительные казаки плохо этому верили и меж собой толковали: «Наверняка из войсковой в старшинскую сторону Максим Шигаев по тайности переметнулся».
Видя такое к себе недоверие хозяина, Шигаев помрачнел, еще больше ссутулился и, глядя в пол, сказал:
– Понапрасну вы, братцы, сторонитесь меня. Я завсегда за народ. Не я ли первый с тремя стариками да с иконами на Траубенберга шел, а вы все бочком-бочком да возле стенок? Добро, что от картечи меня Бог избавил, мимо просвистала... Эй вы, нелюди, обижаете меня зазря. Что ж вам, сердце свое, что ли, вынуть: на, смотри!.. – Он говорил быстро, заикаясь, затем встал, мазнул рукой по надвое расчесанной темно-русой бороде и зашагал к выходу. – Прощай!
– Постой, Максим Григорьич, – остановил его пристыженный Караваев. – Не потаю от тебя: доподлинно видел человека, кой называет себя Петром Федорычем. С Сергеем Кунишниковым оба-два – мы были у него третьеводнись. Царь приказал чрез три дня прибыть к нему. Поедем-ка со мной, голубь... раз ты не супротив народа... Ты человек головастый и в Питере бывывал, вот и посмотришь государя, перемолвишься с ним.
– Давай, поедем... – с готовностью согласился Шигаев, серые, острые глаза его подобрели.
– А мы вот с бабой, уж не потаю от тебя, тряпочек цветных государю-то выискиваем на хорунки[75]75
Знамена. – В. Ш.
[Закрыть] да позументу... Он наказывал. Стало, завтра двинемся?
– Ладно. Уж раз сказал, вилять не стану.
Меж тем Зарубин-Чика еще с вечера стал собираться в путь со своим дружком Мясниковым. Жена Чики, узнав, стала бранить его:
– Забулдыжник!.. Этакое дело затеваешь... Да тебе ли нос совать? Мало тебя дерут да в каталаге морят за буйство за твое?
– Замолчь! – заорал Чика и, предупреждая жену, чтоб она о «батюшке» никому и пикнуть не могла, оттрепал ее за косы.
В избе Мясникова тоже происходила свара. Молодой краснощекий Мясников боялся жены, как заяц волка. Жена у него суровая, черноглазая и сильная, любила погулять и выпить. Когда Мясников робко заикнулся, что завтра собирается с Чикой депутатом к государю, Лукерья сразу оглушила его страшным криком, сорвала с полки вожжи, чтоб дать мужу лупку. Мясников было схватился за саблю, но, опамятовавшись, бросился спасаться в огород. Лукерья настигла его, свалила меж гряд и потрепала. Тихий Мясников побожился Лукерье, что не поедет гонцом к «батюшке». И примиренье состоялось.
Утром за Тимофеем Мясниковым заехал громкоголосый, никогда не унывающий Зарубин-Чика. Лукерьи дома не было, ушла к обедне в церковь.
– Уж, полно, ехать ли нам, – стал мяться Мясников, вспомнив вчерашнюю перетырку с бабой. – И без нас найдутся... Да и пошто ехать-то? Как бы худа какого не было...
– Ну и дурак ты, Тимоха... Вот баба! Ведь вчерась ты сам меня звал. Сбирайся живо, толсторожий черт! – дружески заругался горячий Чика. – Вроде как гулебщиками будем, я и ружьишко прихватил.
Друзья выехали верхами в Таловый умет. А спустя часа два следом за ними потряслись в телеге и Денис Караваев с Максимом Шигаевым. Им и в мысль не приходило, что впереди них правятся «на посмотренье к батюшке» два других посланца войсковой стороны – Мясников и Чика.
Всадники прибыли в Таловый умет к вечеру. Зарубин-Чика спросил подметавшего двор крестьянина, дома ли хозяин и тот человек, что живет у него. Крестьянин ответил, что оба они, и хозяин и гость, куда-то уехали, а скоро ль вернутся, он не знает.
– Да не ты ли Афанасий Чучков? – спросил Чика.
– Я самый, а вы кто такие будете?
– Ты нас не страшись, – и Чика назвал себя с товарищем. – Мы депутаты от войска к батюшке-царю, гонцы. Вот видишь, и твое имя узнали. Не святым же духом мы. Нам сказано было. И ежели государь где схоронился, толкуй нам без боязни: мы слуги его величества.
Тогда крестьянин сказал:
– Царь велел, чтоб вы его подождали тут... А он, правда, что уехал, не вру... Сегодня в ночь, а то завтра будет здеся во всяком разе...
Зарубин-Чика понимал, что оставаться возле умета при большой дороге опасно: мало ль тут народу проезжего да прохожего бывает. Он сказал мужику:
– Мы в степь подадимся. Вон возле тех кустов крутиться станем. И заночуем там. А как батюшка пожалует, кликни нас.
Другая пара – Максим Шигаев с Караваевым, – не доехав верст трех до умета, заночевала в степи. Утром, бросив телегу в кустах, Денис Караваев погнал верхом в умет. Крестьянин Чучков сказал ему, что ни «батюшки», ни Ереминой Курицы нет еще, а вот два казака прибыли сюда, Мясников да Чика, эвот-эвот они за теми кустышками живут.
Услышать о двух незваных свидетелях Караваеву было неприятно. Ну, Мясников туда-сюда, а вот Чика – человек причинный и нахрапистый, от него всячинки можно ожидать. Вообще Караваев, да и не он один, а многие казаки побаивались друг друга «при начатии столь великих дел». А вдруг неустойка... Господи ты Боже мой!.. Хорошо, ежели петля, а то – четвертовать учнут.
– А ты ничего не сказывал им про государя?
– Все обсказал... Они назвалися епутатами. Ну, я и... тово...
– Ах ты, чудак-рыбак... Пошто ж ты всякому ляпаешь? Договоришься, снимут с плеч башку, – уныло поблескивая бельмом, пенял ему Караваев. – Ну, я с товарищем по ту сторону речки буду. Когда приедут, уведомь, мальчонку пошли...
Подъезжая к «ночеве», Караваев приметил у своей телеги двух всадников, Мясникова и Чику. А Максима Шигаева, с которым он приехал, возле телеги не было. Зная отношение к себе казаков и опасаясь встречи с Чикой, грубияном и охальником, осторожный Максим Шигаев спрятался в приречных камышах.
– Здорово, Денис Иваныч! – крикнул Чика навстречу подъехавшему Караваеву. – Сайгачишек, что ли, пожаловал стрелять? А где же товарищ твой? Мы тебя сам-друг видели. Кто он таков?
Караваев уставился бельмом на Чику, неохотно сказал:
– Да тут... как его... калмычонок один подсел ко мне. Сайгаков ушел промышлять, надо быть.
Зарубин-Чика на всю степь захохотал:
– Ой, да и лукавый ты, Караваев!.. Даром, что долгобородый, а лукав, лукав, брат. Ведь ты к государю, к Петру Федорычу, приехал с Шигаевым... А то-о-же – калмык, калмычонок... – И Чика снова захохотал во все горло.
– Полно врать-то тебе, болтушка, – огрызнулся Караваев. – Мы и не слыхивали этого ничего. Откудов здесь государю быть? Окстись!








