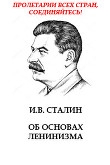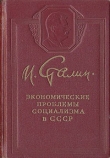Текст книги "Форд и Сталин: О том, как жить по-человечески"
Автор книги: (ВП СССР) Внутренний Предиктор СССР
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
* *
*
Безусловно, И.В.Сталин знал, что победе в Великой Отечественной войне он отдал очень много своего здоровья. Он знал, что первые (лёгкие по своим последствиям) инсульты он перенёс «на ногах», практически не прекращая руководства государственными и партийными делами. Безусловно, он знал, что в его окружение – внутриаппаратная мафия – просто не допускает на протяжении нескольких десятилетий молодых большевиков, из числа которых со временем кто-то смог бы войти в курс общепартийных и общегосударственных дел и возложить на себя высшую партийную и государственную власть, позволив самому И.В.Сталину уйти на пенсию по старости, как и всем гражданам СССР. И потому он прибегал к каким-то средствам маскировки своих истинных намерений от ближайшего окружения, которому имел основания не доверять, справедливо видя в них или исполнителей воли вождя, или беспринципных приспособленцев, но никак не инициативных творчески мыслящих большевиков, своих товарищей, служителей идеала коммунизма.
И было бы подлой клеветой или глупостью утверждать, что И.В.Сталин не сделал ничего для того, чтобы после его ухода в мир иной продолжалось и крепло большевистское дело перехода к истинному коммунизму – обществу праведного общежития свободных людей в глобальных масштабах. Но то, что он сделал для этого, не укладывается в иждивенческие представления прокоммунистической толпы о том, что и как должен сделать истинный вождь коммунистов перед своим уходом в мир иной.
Толпа, потребительски безынициативно настроившаяся по отношению к своему вождю, передачу власти преемнику-продолжателю представляет себе по существу в русле исторически сложившейся монархической традиции:
· в одном её варианте вождь при жизни сам должен избрать себе преемника, учить и воспитывать его, посвящая в разнородные тайны своего дела, а потом передать ему свои должностные полномочия, – так осуществляется преемственность власти в царствующих династиях, лишь с тем отличием, что обычно к царствованию с детства готовят только одного старшего сына вождя, а не кого-то пришлого в дело со стороны;
· в другом её варианте после смерти вождя или оставления им дел, «конклав» сподвижников сам избирает следующего вождя, – так кардиналы избирают Римского папу.
Но здесь необходимо особо подчеркнуть, что в обоих вариантах осуществления преемственности управления передаётся не сама власть во всей её полноте, а передаются должностные полномочия [311], как правило, на основе писаных законов или неписаных традиций.Но заботу и ответственность за дело, принимая должностные полномочия, каждый преемник власти возлагает на себя сам – в меру своего нравственно обусловленного понимания и самодисциплины.
И если вынести за скобки сопутствующие исторические обстоятельства, то все рухнувшие в истории монархии (как наследственные, так и ненаследственные диктатуры) рушились по одной единственной – общей для всех них – причине: принимая должностные полномочия, преемник вождя оказывался не готов к тому, чтобы самому возложить на себя весь необходимый круг забот и ответственности, соответствующий полноте внутриобщественной власти, за дело, возглавляемое им на основе должностных полномочий. Вследствие этого ошибка управления накапливалась в действиях череды сменяющих друг друга вождей, и наступал крах системы.
Принципиальное различие между толпо-“элитаризмом” и большевизмом в том, что в толпо-“элитаризме” для осуществления дела значимы – и потому первичны – должностные полномочия, признаваемые более или менее широкими слоями общества на основе закона или традиции. В большевизме же значимои потому первично принятие на себя по своей инициативе заботы и ответственности за дело, а должностные полномочия – вторичны по отношению к этому добровольно избранному самовластью в общем деле; они формируются и признаются остальными большевиками в зависимости от того, насколько претендент на руководство соответствует этому большевистскому делу.
Вследствие этого в большевизме не человек должен подстраиваться во всех случаях под сложившиеся структуры должностных полномочий и алгоритмику их функционирования, а структуры должностных полномочий, если и не полностью, то во многом выстраиваются соответственно межличностному распределению заботы и ответственности за общее дело между его участниками, складывающемуся на основе освоенных каждым из них навыков и знаний. Поэтому архитектура структур должностных полномочий должна быть достаточно гибкой и должна целенаправленно подстраиваться её участниками под возможности конкретных людей, чтобы соответствовать их личностному развитию и изменениям в персональном составе, одинаково влекущим изменение характера распределения между людьми заботы и ответственности за общее дело.
Иными словами, это означает, что И.В.Сталин мог передать свои должностные полномочия тому, кого он сам изберёт в преемники-продолжатели дела; либо должностные полномочия могли вырвать из его рук “сподвижники” – претенденты на власть, – как это и произошло в действительности.
Но принять заботу и ответственность за дело, которому служил И.В.Сталин, в любом случае кто-то должен был сам по своей личной инициативе вне зависимости от процедуры передачи должностных полномочий И.В.Сталина кому-либо. Своими действиями И.В.Сталин мог только создать условия к тому, чтобы преемники продолжатели сами возложили на себя заботу и ответственность за большевистское дело, не меньшую, чем нёс И.В.Сталин.
Всё это, сказанное о преемственности и о передаче должностных полномочий и различии реальной власти и должностных полномочий, И.В.Сталин ощущал непосредственно, частично знал из истории и как-то понимал это в свойственной ему системе понятий, поскольку он в период 1945 – 1952 гг. действительно создал условия, в которых преемники-продолжатели могли бы возложить на себя сами заботу и ответственность за большевистское дело, не меньшую, чем нёс он, и соответственно могли бы изменить при необходимости архитектуру структур должностных полномочий и алгоритмику их функционирования. И в мир иной он ушёл только после того, как создал необходимые для этого условия. [312]
Начнём с того, что весь послевоенный период истории сталинского СССР комментаторами-евреями и комментаторами-неевреями, однако утратившими осознание своей сопричастности судьбе своего простого народа, характеризуется как период, когда осуществлялась политика «государственного антисемитизма». На это время приходится ликвидация многих еврейских общественных организаций [313]; борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, с сионизмом, что затронуло персонально многих евреев и не-евреев; раскрытие псевдонимов многих деятелей культуры, обнажившее их настоящие фамилии, оказавшиеся в большинстве своём еврейскими; «дело врачей», непосредственно предшествовавшее устранению И.В.Сталина перепуганными “сподвижниками”; и оставшийся слух о задуманном, но так и не состоявшемся вследствие смерти И.В.Сталина, переселении евреев в Еврейскую автономную область на Дальнем Востоке.
Однако по существу это была не политика «государственного антисемитизма», осуществляемая исключительно как подавление прав и свобод людей по признаку их еврейского происхождения. Это была первая (после победы интернацистов в государственном перевороте 1917 г.) гласная[314] попытка государственного подавления активности осознанно целеустремлённого и стихийного бессознательного интернацизма в советском обществе.
Она была настолько эффективна, насколько было возможно в терминах исторически сложившейся к тому времени культуры и социологии марксизма выделить интернацизм в общем потоке явлений прошлой и текущей истории человечества в целом и России, в частности; настолько эффективна, насколько общество могло понять такое истолкование марксистской и общекультурологической терминологии; настолько эффективна, насколько люди, составляющие общество, и, прежде всего, должностные лица органов государственной власти были самодисциплинированы в том, чтобы не злоупотребить своими возможностями и воздержаться от соучастия в стадных эффектах политической активности толпы, живущей по преданию и рассуждающей по авторитету[315]; настолько эффективна, насколько сами евреи были способны выявить каждый в себе и в других интернацизм, свойственный их культуре и свойственный в той или иной степени каждому из них вследствие воздействия культуры, поскольку без выявления в культуре и в людях сути интернацизма невозможно размежеваться с ним и освободиться от его власти.
Это не было политикой «государственного антисемитизма», осуществляемой исключительно как подавление прав и свобод одних людей по признаку их еврейского происхождения и предоставления другим людям каких-либо преимуществ по признаку отсутствия евреев среди предков и родственников.
Это было государственными мерами снятия давления интернацизма, который на протяжении нескольких десятилетий после государственного переворота 1917 г. подавлял дух людей всею подвластной ему мощью марксистской идеологии и государства, злоупотребляя при этом властью карательных органов спецслужб. Он подавлял национальный дух всех народов СССР, а также и самой еврейской диаспоры, препятствуя духовному раскрепощению общества и становлению в нём неформальных свободы и народовластия, свойственных человечности.
И хотя слово «интернацизм» не было введено тогда в политический словарь и в культуру общества, но слова «сионизм», «космополитизм», «низкопоклонство перед Западом» в официальной сталинской пропаганде истолковывались именно по характерным признакам проявления того глобального исторического явления, которое в терминологии ВП СССР называется интернацизм.
Так под термином «сионизм» понималось не стремление евреев обосноваться в Палестине и создать своё государство, а эксплуататорская идеология крупной еврейской международной буржуазии, по своему характеру поработительная по отношению ко всем, включая и самих евреев; под термином «космополитизм» понималась не забота человека о судьбах всего человечества и планеты Земля, а отказ субъекта от заботы и ответственности за судьбы народов своей Родины и других государств, что по существу приобщало такого рода “космополитов” к местной “элитарной” антинародной периферии «мировой закулисы»; то же касается и «низкопоклонства перед Западом» [316].
Однако и эти особенности истолкования смысла названных слов в сталинской пропаганде антисталинисты, интернацисты и рабы интернацизма расценивают как ещё одно проявление лицемерия И.В.Сталина и идеологическое прикрытие антиеврейского расизма сталинского режима. Но было бы честно, и потому лучше, им свои претензии адресовать не И.В.Сталину, а уже упоминавшемуся в одной из сносок в разделе 6.3 автору книги “Евреи и антисемитизм в СССР” Ю.Ларину (М.А.Лурье) и ему подобным “исследователям” и “просветителям”. Он и ему подобные, представляя интернацизм через явления, в которые он смог проникнуть и под которые стал маскироваться, обходили и обходят стороной истинные причины и алгоритмику возникновения так называемого «антисемитизма», что способствовало и способствует сохранению в обществе антиеврейского расизма – неприязненного отношения к другим людям, исходящего из истинного или ложного предположения об их принадлежности к еврейству или сопричастности ему. Такого рода антиеврейский расизм тоже получил свободу в результате осуществления И.В.Сталиным государственных мер подавления интернацизма, и маскировался под них.
И всем опасающимся так называемого «антисемитизма» во всех его проявлениях следует усвоить для себя на будущее:
Так называемый «антисемитизм» неизбежно возникает не там, где есть евреи, а там, где библейская доктрина порабощения всех осуществляется под прикрытием традиции недопустимости обсуждения по его существу «еврейского вопроса» либо там, где её пытаются представить как Промыслительное благо.
То, что вы называете «антисемитизмом», в своей основе имеет праведное неприятие библейского интернацизма людьми, и только под давлением интернацизма, который несёте вы, либо под давлением нацизма, порождаемого национальными “элитами”, эта устремлённость к свободе и человечности извращается и предстаёт как антиеврейский расизм, бесплодный и беспощадно античеловечный [317] как и всякий иной расизм, включая и ваш расизм – интернацистский.
Политика государственного подавления интернацизма в послевоенный период истории сталинского большевизма была фоном, на котором протекала вся общественно-политическая жизнь страны. И одним из важных явлений общественно-политической жизни советского общества, о котором ныне уже позабыли и многие современники тех событий, были дискуссии по разным проблемам жизни советского общества и развития его культуры, которые проводились в печати. Эти дискуссии антисталинисты тоже относят к проявлениям сталинского лицемерия, провоцирующего иллюзией свободы слова и мысли оппозицию режиму на открытое выступление для того, чтобы потом с нею же беспощадно расправиться.
При этом вдаваться в существо высказанных в ходе дискуссий мнений критики послевоенной политики сталинского большевизма предпочитают не вдаваться, хотя именно они и есть главное в тех публичных дискуссиях, поскольку именно мнения, высказанные самыми разными людьми, были показателями, характеризующими развитие культуры миропонимания в советском обществе; а культура миропонимания во всей полноте её субкультур представляет собой то, что во многом предопределяет дальнейшие судьбы общества. Поэтому антисталинисты, не вдающиеся в существо мнений, высказанных в дискуссиях той эпохи, сами лицемерят или свидетельствуют о своём скудоумии, что по существу – одно и то же.
Но эти дискуссии были одной из проявлений жесточайшей борьбы большевизма и местной “элитарно” мафиозной периферии «мировой закулисы» за государственную власть во многонациональной Русской региональной цивилизации.
Одна из дискуссий тех лет была посвящена обсуждению проблем социологии в целом, которые однако рассматривались через проблематику развития экономической науки как теоретической основы управления развитием народного хозяйства советского общества. Поскольку всем хочется кушать, жить в уюте, чтобы дети были здоровы, получили образование, а старость была безбедной и т.п., а это обеспечивается непосредственно экономическим базисом общества, то экономическая проблематика способна вызвать к себе в обществе более широкий интерес, нежели чисто философская, которую многие почитают оторванной от реальных проблем жизни пустой абстракцией [318]. Соответственно этому господствующему в обществе (во многом под давлением исторического материализма и культа марксизма в целом) пониманию первенства экономической обусловленности его жизни, И.В.Сталин сам лично подвёл итоги именно дискуссии по экономическим вопросам.
Всё, что он считал необходимым и что он мог сказать в этом подведении итогов и анализе возможностей дальнейшего развития социализма в СССР и в мире, – было издано в 1952 г. в сборнике статей и писем-ответов участникам дискуссии под общим названием “Экономические проблемы социализма в СССР”, который мы неоднократно цитировали и упоминали в предыдущих разделах и к анализу которого особо обратимся в следующем разделе. Последнее из писем И.В.Сталина, включённое в этот сборник, датировано им 28 сентября 1952 г. Через неделю начал работу XIX съезд ВКП (б), на котором партия была переименована в КПСС. Эта аббревиатура оказалась двусмысленной. История подтвердила правомочность следующей её расшифровки: Капитулянтская Партия Самоликвидации Социализма.
XIX съезд работал в Москве с 5 по 14 октября 1952 г. Он избрал новый состав ЦК партии. Чтобы понять, почему в истории подтвердилась именно приведённая расшифровка аббревиатуры КПСС, следует обратиться к одному мало известному эпизоду из деятельности ЦК, избранного XIX съездом.
После съезда, 16 октября, состоялся пленум ЦК. На пленуме выступил И.В.Сталин. Его выступление для участников пленума оказалось неожиданным: не в том смысле, что никто не ожидал выступления лидера партии на пленуме, а по своему содержанию. Это выступление И.В.Сталина повергло пленум в оцепенение. Причин тому было две:
· во-первых, И.В.Сталин прямо предупредил членов ЦК о готовности к измене делу справедливости, буржуазном перерожденчестве и вступлении в сговор с империализмом тех, кого толпа считала его ближайшими верными сподвижниками, а в случае чего – преемниками. Так И.В.Сталин прямо выразил своё недоверие В.М.Молотову и А.И.Микояну.
· во-вторых, И.В.Сталин сообщил членам ЦК о том, о чём они должны были догадаться и сами: что он уже состарился и устал, и потому довольно скоро настанет время, когда он не сможет руководить партией и государством, вследствие чего необходимо подумать, чтобы заблаговременно избрать на должность Генерального секретаря ЦК правящей партии другого человека.
Этим уведомлением о содержании выступления И.В.Сталина можно было бы и ограничиться и перейти к дальнейшему рассмотрению проблематики. Но лучше обратиться к свидетельству участника пленума, поскольку в противном случае наши выводы об отношении к этому эпизоду участников пленума кому-то могут показаться беспочвенной клеветой.
Кандидатом в члены ЦК КПСС, избранного XIX съездом, стал известный, авторитетный и уважаемый в советском обществе на протяжении многих десятилетий писатель и поэт К.М.Симонов. В записанных им в больнице незадолго до смерти на магнитофон воспоминаниях, расшифрованных и опубликованных под названием “Глазами человека моего поколения” уже после его ухода в мир иной, он сообщает о пленуме 16 октября 1952 г. следующее:
«В мартовской 1953 года записи [319] о пленуме этом по многим причинам я не распространялся. Но всё же сначала приведу – такой, какая она есть, – тогдашнюю краткую запись, а потом по памяти расшифрую некоторые моменты, которые теперь, спустя двадцать семь лет, расшифровать, пожалуй, будет меньшим грехом [320], чем вовсе предать забвению.
Вот эта запись в первозданном виде:
“Естественно, я не в праве записывать всё то, что происходило на пленуме ЦК [321] , но, не касаясь вопросов, которые там стояли, я всё-таки хочу записать некоторые подробности.
Когда в ровно назначенную минуту начался пленум, все уже сидели на местах, и Сталин вместе с остальными членами Политбюро, выйдя из задней двери, стал подходить к столу президиума, собравшиеся в Свердловском зале захлопали ему. Сталин вошёл с очень деловым, серьёзным сосредоточенным лицом и, быстро взглянув в зал, сделал очень короткий, но властный жест рукой – от груди в нашу сторону. И было в этом жесте выражено то, что он понимает наши чувства к себе, и то, что мы должны понять, что это пленум ЦК, где следует заняться делами «выделено при цитировании нами».
Один из членов ЦК, выступая на трибуне, сказал в заключение своей речи, что он преданный ученик товарища Сталина. Сталин, очень внимательно слушавший эту речь, сидя сзади ораторов в президиуме, коротко подал реплику: “Мы все ученики Ленина” [322] .
Выступая сам, Сталин, говоря о необходимости твёрдости и бесстрашия, заговорил о Ленине, о том, какое бесстрашие проявил Ленин в 1918 году, какая неимоверно тяжелая обстановка тогда была и как сильны были враги.
– А что же Ленин? – спроси Сталин. – А Ленин – перечитайте, что он говорил и что он писал тогда. Он гремел тогда в этой неимоверно тяжелой обстановке, гремел, никого не боялся. Гремел.
Сталин дважды или трижды, раз за разом повторил это слово: “Гремел!” [323]
Затем в связи с одним из возникших на пленуме вопросов [324] , говоря про свои обязанности, Сталин сказал:
– Раз мне это поручено, значит, я это делаю. А не так, чтобы это было записано за мною. Я не так воспитан, – последнее он сказал очень резко” (выделено курсивом нами при цитировании, чтобы отделить приведённую К.М.Симоновым дневниковую запись 1953 г. от текста воспоминаний 1979 г.).
Что же происходило и что стояло за этой краткой, сделанной мною в пятьдесят третьем году, записью? Попробую вспомнить и объяснить в меру своего разумения.
(…)
Не хочу брать грех на душу и пытаться восстанавливать те подробности происходившего на пленуме, которые я помнил, но тогда не записал. Скажу только о том, что действительно врезалось в память и осталось в ней как воспоминание тяжёлое и даже трагическое [325].
Весь пленум продолжался, как мне показалось, два или два с небольшим часа, из которых примерно полтора часа заняла речь Сталина, а остальное речи Молотова и Микояна и завершившие пленум выборы исполнительных органов ЦК. Сколько помнится, пока говорил Сталин, пленум вёл Маленков, остальное время – сам Сталин. Почти сразу же после начала Маленков предоставил слово Сталину, и тот, обойдя сзади стол президиума, спустился к стоявшей на несколько ступенек ниже стола президиума, по центру его кафедре. Говорил он от начала до конца сурово без юмора, никаких листков или бумажек перед ним не лежало [326], и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидевшие перед ним и сзади. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, – всё это привело всех сидевших к какому-то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, приближается время, когда другим придётся продолжать делать то, что он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с капиталистическим лагерем предстоит тяжёлая и что самое опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих [327], что, в свою очередь, было связано с темою собственной старости и возможного ухода из жизни.
Говорилось всё это жестко, а местами более чем жёстко, почти свирепо. Может быть, в каких-то моментах его речи и были как составные части элементы игры и расчёта, но за всем этим чувствовалась тревога истинная [328] и не лишённая трагической подоплёки. Именно в связи с опасностью уступок, испуга и капитуляции Сталин апеллировал к Ленину в тех фразах, которые я уже приводил в тогдашней своей записи «1953 года, с которой мы начали цитирование воспоминаний К.М.Симонова». Сейчас, в сущности, речь шла о нём самом, о Сталине, который может уйти, и о тех, кто может после него остаться. Но о себе он не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом любых обстоятельств.
Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счёл нужным говорить о мужестве или страхе, решимости или капитулянтстве. Всё, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам Политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале, за его спиною, в двух метрах от него, к людям, о которых я, например, меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин.
Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, подозрений в трусости, капитулянтстве он обрушился на Молотова. Это было настолько неожиданно, что я сначала не поверил своим ушам, подумал, что ослышался или не понял. Оказалось, что это именно так. Из речи Сталина следовало, что человеком, наиболее подозреваемым им в способности к капитулянтству, человеком самым в этом смысле опасным был для него в этот вечер, на этом пленуме Молотов, не кто-нибудь другой, а Молотов. Он говорил о Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то не запомнившиеся мне примеры неправильных действий Молотова [329], связанных главным образом с теми периодами, когда он, Сталин, бывал в отпусках, а Молотов оставался за него и неправильно решал какие-то вопросы, которые надо было решить иначе. Какие не помню, это не запомнилось, наверное, отчасти потому, что Сталин говорил для аудитории, которая была более осведомлена в политических тонкостях, связанных с этими вопросами, чем я. Я не всегда понимал, о чём идёт речь. И, во-вторых, наверное, потому, что обвинения, которые он излагал, были какими-то недоговорёнными, неясными и неопределёнными, во всяком случае, в моём восприятии это оказалось так.
Я так и не понял, в чём был виноват Молотов, понял только то, что Сталин обвиняет его за ряд действий в послевоенный период, обвиняет с гневом такого накала, который казалось, был связан с прямой опасностью для Молотова, с прямой угрозой сделать те окончательные выводы, которых, памятуя прошлое, можно было ожидать от Сталина. В сущности, главное содержание своей речи, всю систему обвинений в трусости и капитулянтстве, и призывов к ленинскому мужеству и несгибаемости Сталин конкретно прикрепил к фигуре Молотова: он обвинялся во всех грехах, которые не должны иметь места в партии, если время возьмёт своё и во главе партии перестанет стоять Сталин [330].
При всём гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздержанностью, в том, что он говорил, была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвященной Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, ещё более злой и неуважительной [331].
В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался. Но четырёх членов Политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них у всех были окаменевшие, напряженные, неподвижные лица. Они не знали, так же как и мы, где и когда и на чём остановится Сталин, не шагнёт ли он после Молотова и Микояна на кого-то ещё. Они не знали, что ещё предстоит услышать о других, а может и о себе. Лица Молотова и Микояна были белыми и мёртвыми. Такими же белыми и мёртвыми эти лица оставались тогда, когда Сталин кончил, вернулся сел за стол, а они – сначала Молотов, потом Микоян – спустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин, и там – Молотов дольше, Микоян короче – пытались объяснить Сталину свои действия, поступки, оправдаться, сказать ему, что они никогда не были трусами, ни капитулянтами и не убоятся новых столкновений с лагерем капитализма и не капитулируют перед ним [332].
После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая звучала во многих местах его речи, оба выступавшие казались произносившими последнее слово подсудимыми, которые, хотя и отрицают все взваленные на них вины, но вряд ли могут надеяться на перемену своей, уже решённой Сталиным участи. Странное чувство, запомнившееся мне тогда: они вступали, а мне казалось, что они не люди, которых я много раз и довольно близко от себя видел, а белые маски, надетые на эти лица, очень похожие на сами эти лица и в то же время какие-то совершенно непохожие, уже неживые [333]. Не знаю, достаточно ли точно я выразился, но ощущение у меня было такое, и я его не преувеличиваю задним числом.
Не знаю, почему Сталин выбрал в последней своей речи на пленуме ЦК как два главных объекта недоверия именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, принизить, лишить ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было несомненно. Он хотел их принизить, особенно Молотова, свести на нет тот ореол, который был у Молотова [334], был, не смотря на то, что, в сущности, в последние годы он был в значительной мере отстранён от дел, несмотря на то, что Министерством иностранных дел уже руководил Вышинский, несмотря на то, что у него сидела в тюрьме жена [335], – несмотря на всё это, многим и многим людям – и чем шире круг брать, тем их будет больше и больше, – имя Молотова называлось или припоминалось непосредственно за именем Сталина. Вот этого Сталин, видимо, и не желал. Это он стремился дать понять и почувствовать всем, кто собрался на пленум, всем старым и молодым членам и кандидатам ЦК, всем старым и новым членам исполнительных органов ЦК, которые ещё только предстояло избрать. Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И речь его исключала такую возможность.
(…)
И ещё одно. Не помню, в этой же речи, ещё до того, как дать выступить Молотову и Микояну, или после этого, в другой короткой речи, предшествовавшей избранию исполнительных органов ЦК, – боюсь даже утверждать, что такая вторая речь была, возможно всё было сказано в разных пунктах первой речи, – Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве Генерального секретаря вести ещё и заседания ЦК. Поэтому от последней должности он просит его освободить, уважить его просьбу. Примерно в таких словах, передаю почти текстуально, это было высказано. Но дело не в самих словах. Сталин, говоря эти слова, смотрел в зал, а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока Сталин говорил, вёл заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение – не то чтоб испуга, нет не испуга, а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или яснее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трёх своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе [336]. И тогда, заглушив раздавшееся из-за спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!» или что-то в этом духе, зал загудел словами: «Нет! Нет! Просим остаться! Просим взять свою просьбу обратно! Не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент были, но, в общем, зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в первую секунду [337] показалось, что это всё естественно: Сталин будет председательствовать в Политбюро, будет Председателем Совета Министров, а Генеральным секретарём ЦК будет кто-то другой, как это было при Ленине [338]. Но то, чего я не сразу понял, сразу или почти сразу поняли многие, а Маленков, на котором как председательствующем в тот момент лежала наибольшая часть ответственности, а в случае чего и вины, понял сразу, что Сталин вовсе не собирался отказаться от поста Генерального секретаря, что это проба, прощупывание отношения к поставленному им вопросу – как, готовы они, сидящие сзади в президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря, потому что он стар, устал и не может нести ещё эту, третью свою обязанность.