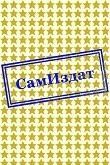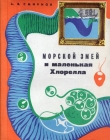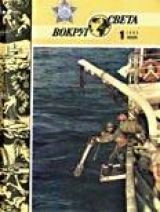
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №01 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Глава 5
На Мегере, казалось, все было испепелено. Однако, приспосабливаясь к новым условиям, под толщей пепла корчились в агонии бесчисленные организмы. – продукт радиационных мутаций. Делились, почковались, спаривались, прорастали, вылуплялись из коконов, гибли – и снова возрождались. В этом году сезон желтой радиации выдался особо яростным, но программа сезонной эволюции шла своим чередом: то там, то здесь наружу стали выползать существа совершенно иного типа, чем прежние обитатели планеты. Некрупные, закованные в конусный панцирь, они проворно сновали на змеевидном брюшном мускуле, отыскивая кусочки минералов – единственную их пищу.
Мысль, исподволь вызревающая после разговора с доньей Декамповерде, теперь разом выплеснулась из подсознания и захватила меня целиком. Почему Масграйв не захотел беседовать со мной? А вдруг убийство – незаметно для себя я принял это определение – совершил человек! Чудовищное предположение, недопустимое, а потому, может, никем и не проверенное.
Всю ночь я боролся с дикой мыслью, убеждая себя, что убийство – событие для человечества чрезвычайное, исключительное. Под утро, измученный сомнениями и угрызениями совести, я понял, что просто так мысли, как и навязчивую мелодию, из головы не выкинешь. Чтобы разубедить себя, возможен только один путь – досконально изучить всех участников Тринадцатой гиперкосмической и выяснить их отношения между собой. Как знать, не было ли у кого повода желать гибели Феликса Бурцена и Аниты Декамповерде? Если нет, то все подозрения сами собой отпадут.
Заверив себя, что расследование будет вестись не для того, чтобы обвинить ученых, а, напротив, чтобы высвободить их от обвинений, я сразу же почувствовал себя легче.
Итак, с чего начать? Со списка. Я задумался: в каком порядке записывать имена? И тут же спохватился: заранее определять порядок – значит предполагать различные степени подозреваемости. Так не пойдет. Стараясь не раздумывать, я быстро написал шесть имен. Бурцен, Тоцци, Масграйв, Декамповерде, Елена Бурцен, Саади. Тут же пришлось зачеркнуть Бурцена и Декамповерде. Уж не самоубийство они вдвоем совершили, в самом деле. Первым в списке теперь стоял Альберто Тоцци.
Войдя в кают-компанию, я сразу приметил Саади, вставшего навстречу мне с дальней стороны длинного стола. Профессор был одет в просторную голубую арабскую дишдашу с расшитым бисером воротом и широкими рукавами. Из-под дишдаши выглядывали плетеные, на босу ногу шлепанцы. Саади приложил руку ко лбу, коснулся груди и слегка наклонил голову. Волосы его были аккуратно зачесаны назад волнами, черные, чуть тронутые сединой. Затем Саади вытянул вперед крепкую ладонь с пухлыми пальцами.
– Рад лицезреть вас воочию, Алексей Васильевич,– приветствовал он.– Присаживайтесь. И позвольте на правах старожила – я на гиперлете уже пятые земные сутки – поухаживать за вами. Вы любите чай? – обратился Саади. И, покосившись на соседних пассажиров, сказал: – Знаете что... Пойдемте-ка, Алексей Васильевич, пить чай ко мне. Заодно и побеседуем. У вас, чувствую, накопилось немало вопросов. Не возражаете?
Я не возражал. Мы перешли в каюту Саади, как две капли воды похожую на мою. Впрочем, колоритная личность временного хозяина уже наложила отпечаток на спартанский интерьер комнаты: секретарь был безо всякой почтительности низложен на пол, а его место на столике занимало большое круглое блюдо из красной меди. В центре посудины стояла серебряная вазочка, покрытая затейливыми орнаментами. Вазочка имела антикварный вид и напоминала старинный сосуд, в каких когда-то хранили жидкость для письма.
– Нет-нет,– перехватил мой взгляд Саади,– это не чернильница.
Он откинул резную крышечку сосуда и в открывшееся углубление положил желтоватую, с ноготь величиной пирамидку.
– Именуется сей малоизвестный в наши дни предмет,– торжественно изрек профессор,– курительницей, и предназначен он для курения благовоний.
Саади щелкнул пьезоэлементом в основании курительницы, и пирамидка задымилась. По каюте пополз приторный, немного удушливый, но не лишенный приятности аромат.
Саади заглянул в столик, извлек оттуда два пузатых грушевидных стаканчика, разлил из термоса дымящуюся темно-коричневую жидкость. Я попробовал: чай, на мой вкус, был слишком крепкий и чересчур сладкий. Однако из вежливости пришлось изобразить восхищение. Профессор просиял.
– Алексей Васильевич, вам трудно представить, насколько я признателен за то, что вы пошли мне навстречу. Я уже давно мечтал еще раз посетить Мегеру, но не было случая.
Я немного смутился.
– Зовите меня Алексеем, профессор,– попросил я.
– Ну что ж, как прикажете,– улыбнулся Саади.– Только и вы в таком случае, Алексей, зовите меня Набилем. Я старше вас всего лет на двадцать пять, так что разница в возрасте позволяет...
Эти слова профессора пришлись мне по душе. Признаться, я с самого начала не был уверен, как к нему правильно обращаться.
– Люди, выросшие не на Востоке,– признался Саади,– редко бывают знакомы с обычаями моей родины. А они, кстати, очень просты. Берется имя полностью, а лучше – первая часть имени, и перед ним ставится вежливое обращение: профессор, доктор, саид, устаз. Но самая распространенная форма обращения на Ближнем Востоке – называть мужчину по имени старшего сына. Моего, например, зовут Фейсал.
– Тогда вы Абу-Фейсал?
– Ахлен-васахлен! Зовите меня просто Набиль, как договорились. Так что бы вы хотели узнать?
– Сначала о Мегере...
– Ну что ж, законный интерес,– согласился Саади.– Вам, должно быть, известно из документов, дорогой Алексей, что Мегера вошла в маршрут Тринадцатой благодаря своему спектру. В нем виделись залежи редкоземельных металлов, причем в промышленных количествах. Но ваш покорный слуга летел, заметьте, изучать биосферу и, не в пример космогеологам, с весьма пессимистичными прогнозами, не рассчитывая на большие открытия в этой области.
– Но вы числились не только астробиологом...
– Совершенно верно. Как контактолог я вообще не ожидал встретить на Мегере ничего заслуживающего внимания. А Мегера не замедлила проявить характер и перевернула наши расчеты и ожидания с ног на голову. Мне посчастливилось – да-да, посчастливилось! – несмотря на трагический инцидент, почти соприкоснуться с внеземным интеллектом. А геологи на этот раз остались ни с чем.
– Ошиблись при анализе спектра планеты?
– Отнюдь. Запасы богатейшие. Но из-за сумасшедшего климата, постоянной и резкой смены температур, влажности, давления на Мегере нет открытых месторождений или обнажений. Практически вся мегерианская суша покрыта мощным, до сотни метров, почвенно-органическим слоем. В самой верхней части он периодически вымирает, но остальные горизонты полны спор и бактерий, которые в благоприятные сезоны прорастают. Сами понимаете, разрушать литосферу ради разработки полезных ископаемых мы позволить не могли и с редким для нашего времени единодушием наложили экологическое вето.
– Так вот почему Мегеру «законсервировали»!..
– Конечно, проще всего «законсервировать»,– взорвался Сазди.– А в этих, как вы метко выразились, «консервах»—уникальнейший мир. Вы знаете, что на Мегере двадцать шесть времен года? Но надо видеть, как отчетливо они сменяют друг друга! Температура скачет от минус сорока до плюс шестидесяти Цельсия. То льют тропические дожди, то начинается засуха, непролазные болота превращаются в камень и растрескиваются, зарастают хвощами и пальмами, которые за два-три сезона вымахивают до шестидесяти метров и ломаются от собственного веса. А животный мир какой! Разве не мог здесь развиться разум? На шестом миллиарде мегерианских лет!
– Но многое могло помешать формированию разума на планете,– заметил я,– например, катаклизмы?
– То-то и оно, что нет! Не считая климатической карусели в рамках одного годового цикла, Мегера на редкость стабильная планета. Последние геологические возмущения проходили около миллиона лет назад. Срок для эволюции вполне достаточный. Да вы сами скоро убедитесь, насколько развита там органическая жизнь.
– Но если на Мегере сотни видов...
– Тысячи, Алеша, тысячи!
– Тем более, как же тогда определить, кто из них носитель интеллекта...
– Вот в чем вопрос! – воскликнул экспрессивный Набиль Саади.– Мечта всех контактологов вселенной – прилететь и увидеть на незнакомой планете города, застроенные причудливыми зданиями и населенные доброжелательными аборигенами. Утопия! Мы привыкли думать, что высшие формы разума должны быть доброжелательными. Но «должны» – не значит «есть». Сами-то мы, homo sapiens, давно ли стали «доброжелательными»? А разумными? А теперь давайте представим себе, почтенный Алексей Ва... Алеша, что мы с вами пришельцы, севшие на Землю в период раннего палеолита. В воздухе летают крылатые ящеры, не говоря уж о насекомых, на земле охотятся саблезубые тигры, пасутся стада мамонтов...
Как нам выделить существо, отмеченное, как говорили мои предки, печатью аллаха или, как говорили ваши предки, искрой божьей? Как?
Я пожал плечами. Вопрос не новый, тысячу раз обсуждавшийся – и так до конца не решенный. И все же ответил:
– Есть какие-то ведь определенные критерии. Тест Крамера. Уровень креативности. Мейзтест. Психометрия...
– Ах, оставьте, пожалуйста, Алексей. Выявлять разум этими тестами все равно что с помощью термометра определять, жив пациент или уже остыл. Мы можем только сказать, явно разумен ли объект или явно лишен способности мыслить. Но формы мышления могут и не походить на человеческие. И пока они-то и остаются вне нашего понимания, Алеша.
– Где же, интересно, вы прикажете взять детектор разума? Уж не его ли вы собирались продемонстрировать на Мегере, профессор?
Набиль Саади не обиделся. Напротив, вся плотная, не атлетическая, но и не расплывшаяся его фигура в свободно ниспадающей рубахе-дишдаше, выражала удовлетворение и расслабленность.
– Вы молодец, Алексей,– похвалил Саади,– чувствуется, мастер слова. «Детектор разума»...– будто пробуя слова на вкус, повторил он.– А мои помощники ничего лучшего аббревиатуры не предложили. С вашего позволения, я переименую прибор.
– Переименовывайте,– разрешил я с халифской щедростью.– Но, как крестный, могу узнать, в чем состоит его принцип работы? Если не секрет, конечно.
– Какие секреты, Алексей! – всплеснул руками Саади.– Мой прибор окрестили на Земле «полевым психоиндикатором». Этот аппарат не похож на привычные психометры. Теперь слушай внимательно. Высшая нервная деятельность на уровне мышления сопровождается биоритмами – от наиболее отчетливых альфа-, бета– и гамма– до почти неуловимых сигма– и тау-ритмов. Перемежаясь, ритмы создают сочетание, которое образно можно назвать волной разума. Ее-то и «пеленгует» мой прибор, который, замечу, пока несовершенен. Он фиксирует ритмы на небольшом расстоянии от источника и, возможно, небезотказен в экстремальных условиях. Собственно, мой аппарат даже не испытан как положено. Официально он просто не существует.
– Выходит, проблема, о которой мы говорили, решена? – Я недоверчиво покосился на профессора.– Или близка к разрешению?
– Если бы. Прибор сделан по человеческим меркам за неимением других. Разве можно поручиться, что у инопланетного разума будут те же психоритмы, что у нас?
– Думаете, ваш прибор нам может пригодиться?
– Если мозг человека в самом деле принимал излучения мегерианского разума – а я не знаю, чем еще объяснить видения у Феликса и Аниты – мир с ними! – то мой детектор разума эти биоритмы должен зарегистрировать.
«Молчание детектора ничего не докажет и не опровергнет мою чудовищную версию»,– пронеслось в голове. Я разочарованно вздохнул. Какой поворот начал было вырисовываться! Детектор разума – ключ к тайне исчезновения людей на Мегере. Надежды на прибор Саади, судя по всему, слабые.
– Что ж, отлично, испытаем ваш психоиндикатор,– без особого энтузиазма поддержал я профессора.– Но пора поговорить о людях. Тех, что были с вами, Абу-Фейсал. Мне надо знать, чем жила Тринадцатая гиперкосмическая. Представить обстановку на корабле и форстанции. Выяснить, что за люди, что за характеры были в экспедиции.
– Боюсь, обо мне вам придется расспросить кого-то другого, а что касается пяти моих товарищей – я к вашим услугам. Правда, прошло уже столько лет... Ну да постараюсь вспомнить. С кого начнем, сайд Санкин?
– Расскажите мне для начала... об Альберто Тоцци.
На планете, прокаленной шквальным желтым излучением, единственными живыми созданиями были «бронированные» конусные мутанты, у которых ни глаз, ни ушей, лишь рудиментарные матовые костяные пластины прикрывали отверстия в панцире, словно защищая примитивный мозг от какой-либо информации. На целый сезон конусы-броненосцы стали хозяевами Мегеры. Они бродили повсюду, не ведая опасности. Но что-то им подсказывало: надо избегать старых, безжизненных котлованов озер, пусть даже простерилизованных радиацией. Впрочем, радиация начинала ослабевать.
Продолжение следует
Инти Райми

Испанские завоеватели Южной Америки веками пытались вырвать из душ индейцев всякую память о былом. Тому были свои причины: завоевателям нужны были лишь покорные рабы, лишенные своего прошлого, католические же патеры все, что связано с язычеством, с древними богами и святынями, считали крайне греховным. А прошлое этих земель – империи инков, лежавшей на территории нынешних Перу, Боливии, Эквадора,– было величественно.
Инки строили из огромных каменных глыб крепости и храмы, прокладывали дороги, сооружали мосты. Стены зданий «завалены» были немного внутрь. И в этом был точный расчет древних строителей – сооружения устояли при частых в Андах землетрясениях. Тогда как построенные надежно и капитально – по европейским меркам – пышные испанские дворцы и соборы здесь не выдерживали единоборства с подземной стихией, обращались в развалины. А инкские сооружения – в Куско, Писко, горная крепость Мачу-Пикчу – нерушимо высятся и в наши дни.
Выдержала тяготы и испытания столетий память потомков инков – сегодняшних индейцев кечуа и аймара. Сначала казалось, что они покорились, забыли свою историю: стали носить испанские имена и ходить в церковь.
Но индейский мастер, изображая мадонну, придавал ей черты Пачамамы, инкской Матери-Земли. Сохранился и язык кечуа, и костюмы – их до сих пор носят в деревне, сохранились имена владык-инков. И – легенды о древнем государстве.
...Конечно же, империю инков трудно назвать «раем земным»: строго регламентированные законы общества предписывали, кому и как жениться, где жить, чем заниматься – всю жизнь.
Все работали, и всем была пища. А главное – страна была своею, не правили в ней иноземцы. И история инков, переходя из уст в уста, от отца к сыну, окружалась радужным ореолом; день позавчерашний представлялся в памяти народа «золотым веком».
В наши дни интерес к инкскому прошлому усилился, язык кечуа объявлен вторым официальным языком Перу. Возрождаются древние праздники.
Ежегодно в дни зимнего солнцестояния в перуанском городе Куско, столице инков, проходят торжества. Длятся они неделю, потому и называются «Неделей Куско». Со всей страны на праздник съезжаются зрители и участники. Из окрестных деревень ремесленники-индейцы приносят на ярмарку свои изделия: фетровые шляпы, пончо, статуэтки. Здесь же дары земли: картофель и кукуруза, как известно, именно отсюда распространились по всему миру. Грудами высится черный, белый, розовый, фиолетовый картофель, золотые, красные, белые початки кукурузы.
Каждый округ посылает на празднество свою фольклорную группу, и под печальное пение тростниковых свирелей ходят кругами танцоры. Именно «ходят», потому что танцы кечуа медленны и меланхоличны.
А в древней крепости Саксайуман устраивают театрализованное представление «Инти Райми» – «Праздник Солнца»: в нем участвуют и профессиональные артисты. Массовые сцены отданы самодеятельным коллективам.
И оживают перед зрителями картины прошлого. Появляется Верховный Инка (его выход изображен на снимке). Он поклоняется Солнцу, благодарит за урожай прошедшего года, просит обилия земных плодов в будущем.
А потом индейцы возвращаются по деревням. Лица их непроницаемы. Они запомнили все, что видели в Куско, до мельчайших подробностей, чтобы рассказать потом близким. Сдержанный характер индейца не позволяет говорить о празднике много и бурно. Нет, рассказов по вечерам понемногу хватит на целый год.
До следующего Инти Райми в Куско.
Спасение в ночную вахту

…Утром 2 июля 1981 года французская яхта вошла в Ленинградский морской порт. На борту ее латинскими буквами было написано русское слово «Спасибо». Несмотря на ранний час, встретить яхтсменов пришли многие моряки и портовики. Был среди них человек, который, пожалуй, волновался больше других. Это капитан теплохода «Черняховск» Анатолий Николаевич Беркун. Для него французские яхтсмены были не просто добрыми знакомыми.
...Братья Клод и Даниэль Врио и их товарищ Антуан Мюллер давно собирались пересечь под парусами Атлантику. Долго готовились. Казалось, предусмотрели все. На одиннадцатиметровой яхте «Юбу», еще пахнувшей свежей краской, французы решили выйти из порта Ла-Рошель, взять курс на Канарские острова, а затем пересечь Атлантику.
День отплытия пал на пятницу. Но, потому как моряки многих стран Европы считают выход в море в пятницу дурной приметой, французы решили отложить отход. В субботу погода испортилась – вновь перенесли день отплытия. Из порта Ла-Рошель вышли только в воскресенье 4 января 1981 года. Капитан Клод Врио, самый опытный из экипажа, заранее предупреждал, что предстоит тяжелая работа. Он оказался прав. Мозоли у Даниэля и Антуана появились в первый же день. Но разве стоит из-за этого унывать? На яхте есть удобная каюта и маленькая кухонька, можно послушать приемник. А вот рации нет. Клод сказал, что передатчик можно установить на Канарах.
Беда случилась ночью на вахте Антуана Мюллера – самого молодого в этом маленьком экипаже. Студент из Парижа отправился в свое первое большое плавание. Антуан внимательно смотрел по сторонам и думал, что ему очень повезло. Ведь в рейс он уходил с опытными яхтсменами. Сорокалетний Клод уже преодолевал Атлантику, совершал и другие длительные путешествия под парусами через Бискай, Средиземное море, Суэц – до Индии. Немало трудных походов совершил и двадцатисемилетний Даниэль. А еще успокаивало то, что оба брата врачи. В любой момент могут оказать необходимую помощь. Антуан же успел сделать под парусами всего один рейс – сходил из Франции в Норвегию, зато сейчас пересекает Атлантику...
Между тем разыгрался шторм. Волны достигали пяти метров. Пошел мелкий дождь. Вдруг Антуан услышал какой-то непонятный шум. Казалось, яхта трещит по швам. Из каюты на палубу «Юбу» уже выскочили Клод и Даниэль. Стали осматривать яхту. Что за шум? Может, показалось? Вроде все на месте. Полезли в машинное отделение. А там вода. Втроем стали ее откачивать. Началась схватка за спасение яхты.
Вода все прибывала. Как выяснилось, разошлись швы, одна за другой вылетали дюралевые заклепки. Постепенно шов стал расходиться все больше. И люди поняли: гибель судна неизбежна.
Подготовив спасательный плот, побросав туда кое-какие вещи, яхтсмены перебрались в него. А через несколько минут на их глазах яхта затонула. Мореплаватели оказались в одиночестве в открытом океане, полагаясь на волю случая. Драматизм ситуации усугублялся еще и тем, что спасательный плот раскрылся не полностью, его заливало водой, которую беспрерывно приходилось откачивать...
– Теплоход «Черняховск» Балтийского морского пароходства, совершая очередной рейс с грузом из Ленинграда в Южную Америку, уже пересек бушующий Бискай и был на подходе к Канарским островам,– рассказывал позже капитан Анатолий Николаевич Беркун.– Обычный рейс. Уже подходила к концу ночная вахта второго помощника Александра Созинова. Оставались считанные минуты до смены вахты, как вдруг где-то в стороне от курса Созинов увидел красную ракету – сигнал бедствия. Сначала не поверил, подумал, что показалось. Но стал более внимательно всматриваться в даль. Несколько мгновений – и вторая красная ракета взвилась в кромешной тьме над морем. Сомнений не было: кто-то просит помощи. И Созинов сыграл общесудовую тревогу.
Мы сидим в кают-компании теплохода «Черняховск». Капитан неторопливо вспоминает, как спасали французских яхтсменов. Сейчас Анатолий Николаевич спокоен, но можно представить, сколько тревожных минут пришлось пережить опытному моряку.
...Мощный судовой прожектор выхватил среди бушующих волн спасательный плот. На нем люди, но трудно разобрать, сколько их. Начальник радиостанции
Александр Мальцев переключил аппаратуру на аварийный канал. Но эфир молчал.
Капитан отдавал короткие команды: «Готовить спасательную шлюпку!», «Врача к левому борту!», «Готовить трап!». Все понимали капитана с полуслова, делали необходимые приготовления сноровисто, без суеты, хотя палуба ходуном ходила под ногами моряков.

«Черняховск» изменил курс, он шел теперь прямо в ту точку, где находился плотик. Вот уже видны люди на плоту. Капитан стал осуществлять маневр с наветренной стороны, чтобы прикрыть корпусом судна спасательный плот. После нескольких безуспешных заходов теплоход почти вплотную подошел к плоту, а матросы, метнув выброски, зацепили его. Эту крайне сложную операцию с блеском выполнили матросы Николай Елисеев и Владимир Кравчук.
Наконец, люди на плоту стали подтягиваться к борту. Через несколько мгновений сильные руки подхватили пострадавших. Осторожно их подняли на палубу.
Оказавшись на борту, спасенные начали безудержно смеяться, щупали палубу, надстройки. Чувствовалось, что люди перенесли огромное нервное потрясение. Яхтсменов сразу осмотрел врач, их отогрели, накормили. Члены экипажа «Черняховска» поделились со спасенными одеждой.
Теплоход доставил яхтсменов в порт Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. Здесь их передали французскому консулу. На прощание Клод, Даниэль и Антуан от всего сердца благодарили своих спасителей.
Советское судно продолжило рейс, и в порт назначения «Черняховск» прибыл в назначенное время.
Французские яхтсмены в знак благодарности за спасение назвали свою новую яхту добрым русским словом «Спасибо».
Экипаж этой яхты пришел в Ленинград, чтобы встретиться с советскими моряками, познакомиться с городом, где живут люди, ставшие им близкими. Даниэль Врио показал мне кипу французских газет и журналов, в которых были публикации об их спасении.
– Когда мы остались на плоту в бушующем океане,– сказал он,– то видели, как стороной проходили суда. На наши сигналы они не реагировали. Но вот появилось еще одно судно. В отчаянии Клод выпустил последние ракеты. Их-то и заметили советские моряки.
...И вот третья встреча. Яхта «Спасибо» и «Черняховск» случайно встретились в бразильском порту Сантус. Клод Брио рассказал нашим морякам, что его часто спрашивают, почему столь необычно названа яхта, а он в ответ обязательно говорит о мужестве и благородстве членов экипажа «Черняховска». Недолгой была недавняя встреча в Сантусе, но она доставила много радости и спасенным и спасателям. А на прощание на мачте яхты «Спасибо» взвились рядом французский и советский флаги.
Александр Дивочкин