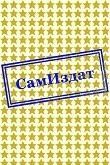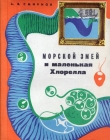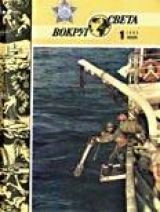
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №01 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Кто убил Алана Тайверна?

Началась эта история в 10 часов утра 28 апреля 1958 года. Сержант Алан Тайверн со своим взводом сидел на берегу гавани Лондон острова Рождества. Над морем, песчаными дюнами, оазисами кокосовых пальм разнесся голос из радиоусилителя. Он отсчитывал последние секунды. Солдаты прикрыли ладонями глаза после счета «ноль» – «зироу». И в пятнадцати милях от взвода Тайверна был произведен надводный взрыв водородного ядерного устройства...
Ритуал с прикрытием глаз оказался единственной мерой предосторожности.
– Я видел кости своих рук, как на рентгеновском снимке,– делился позже один солдат впечатлениями.
– Это что,– подхватил другой,– взвод Джона Тонгея весь побило кокосовыми орехами. Нашли место, где укрыться – в кокосовой роще! После взрыва орехи посыпались, как болельщики с матча «Арсенала»!
Остальные встретили его слова взрывом смеха... Солдатам было весело...
Сквозь «ножку» атомного гриба...
Трагедия тысяч британских военнослужащих, принимавших четверть века назад участие в испытаниях ядерного оружия, вышла на страницы английских газет совсем недавно. Долгие годы зловещего умолчания привели к гибели десятков и сотен людей от заболеваний, вызванных радиоактивным облучением. Мне не раз приходилось писать о событиях тех лет, и неудивительно, что, оказавшись на Британских островах, я поставил эту тему одной из первых в журналистском блокноте.
Что же произошло тогда в центральной части Тихого океана? Почему только сейчас бывшие военные моряки и пехотинцы, вдовы погибших и жены ветеранов смогли обратиться к британским властям с требованием ответить, кто виновен в трагических судьбах близких? Ответ на последний вопрос сейчас ясен. Английских солдат совершенно сознательно послали на верную гибель в район испытаний (именно на верную гибель: уже к 1952 году американцы обладали всеми данными о поражающих свойствах ядерного взрыва), но военные чины и политические деятели Великобритании преднамеренно скрывали правду. Это им удавалось на протяжении четверти века...
Обратимся к предыстории.
Англия довольно тесно связана с появлением ядерного оружия. Еще в 1903 году Эрнест Резерфорд (совместно с Ф. Содди) создал теорию радиоактивности, затем, в 1911 году, предложил планетарную модель атома, в 1919-м осуществил первую искусственную ядерную реакцию.
В начале марта 1940 года Пайерлс и Фриш из Бирмингемского университета подготовили документ под названием «О создании «супербомбы», основанной на ядерной цепной реакции в уране». Эти ученые заявили, что создание ядерной бомбы практически возможно. Уже в апреле 1940-го к разработке урановой бомбы, к осуществлению операции «Тьюб Эллойс», приступил специально созданный комитет министерства обороны Великобритании.
Тогда (если вспомнить результаты встречи Черчилля и Рузвельта в августе 1941 года) Великобритания и США поставили своей целью установить военное англо-американское господство на планете. В осуществлении этих планов супербомба стояла на одном из первых мест.
Кроме того, британские военные и политики считали, что реализация программы создания ядерной бомбы поможет Англии сохранить уходящее в прошлое положение великой державы. Хотя впереди оказались Соединенные Штаты, Англия не теряла надежды разыграть и свою карту в атомной игре.
Американо-английское сотрудничество, разумеется, не ограничилось тем, что одна из двух первых бомб, изготовленных в США для уничтожения японских городов Хиросимы и Нагасаки,– «Толстяк» – была названа так в честь тогдашнего английского премьер-министра У. Черчилля.
4 июля 1945 года Объединенный политический комитет в Вашингтоне зафиксировал согласие английского правительства на применение атомной бомбы против Японии. А в начале августа 1945 года со специального самолета-наблюдателя, сопровождавшего американские бомбардировщики, следили за действием атомной бомбы англичане Чешир и Пинни. С тех пор сотрудничество Англии и США в ядерной области не прекращалось.
3 октября 1952 года стартовала разработанная английскими военными операция «Ураган»: было взорвано первое ядерное устройство на острове Монте-Белло у северо-западного побережья Австралии. Потом в течение шести лет под кодовыми названиями «Тотем», «Мозаика», «Буйвол», «Схватка» и «Олений рог» Великобритания осуществила еще двадцать атмосферных испытаний ядерных устройств мощностью от килотонны до нескольких мегатонн в восточной и южной Австралии, а также на острове Рождества. Между 1953 и 1963 годами прошла еще серия экспериментов «Котята», «Лисица» и другие.
Характерной чертой всех этих испытаний было широкое участие в них крупных контингентов войск. Приблизительно двадцать тысяч солдат, военных моряков, летчиков, а также гражданских лиц приняли участие в этих операциях. Но, как выясняется только сейчас, большинству из них была отведена роль подопытных кроликов.
Вот наиболее трагичные примеры.
Во время первого взрыва – мощность заряда составила одну мегатонну – всего в пяти милях от эпицентра находились четыре корабля британских королевских военно-морских сил – «Нарвик», «Траккер», «Кампаниа» и «Зеербрюге», на которых содержалось полторы тысячи военнослужащих. Еще, казалось, звучал адский грохот атомного взрыва, когда морским пехотинцам приказали высадиться на берег лагуны острова Монте-Белло. Перед ними стояла задача – собрать образцы почвы. Ее насыпали специальными лопатками в небольшие цилиндрические контейнеры. В результате сильному радиоактивному заражению подверглись и люди экипажа, и катер...
Офицер Уильям Джонс (он умер на исходе четвертого десятка от рака, через тринадцать лет после испытаний) вместе со своим отделением обслуживал танк «Центурион», который специально поместили в эпицентр ядерного взрыва, чтобы выяснить, каково будет воздействие на него ударной волны. Сразу же после взрыва Джонс и его отделение направились к танку и установили, что мотор в порядке, нужно лишь заменить несколько вышедших из строя деталей. Пока ремонтировали машину – на это ушло 48 часов,– офицер и солдаты находились около танка...
– ...В конце 1957 года наше боевое подразделение погрузили на «Скарборо». Никто не знал, куда и зачем нас везут,– рассказывает бывший рядовой Колин Эвью.– Вместе со «Скарборо» шли два вспомогательных судна с неизвестным грузом. После разгрузки у острова Рождества они, взяв на борт местных жителей, ушли за горизонт. Там суда оставались все время испытаний, и аборигенам с утра до вечера крутили голливудские боевики.
У нас была задача – патрулировать зону испытаний. Зона вроде бы и большая – сто квадратных миль. На самом деле же мы находились в «ящике» со стороной в десять миль. Взрыв производился в его центре, похоже, самое большее, в пяти милях от «Скарборо».
Это выглядело нереальным. Облако вознеслось в небо, как гигантская колонна, на вершине ее разбухал огненный шар. Над ним ослепительно сияла ледяная призма: поднятая на невиданную высоту вода из океана превратилась в сверкающий ледяной айсберг.
От взрыва наш корабль содрогнулся, мы все свалились с ног. Ужас сковал людей, даже самые дисциплинированные были в панике. У многих шла кровь из носа и ушей. Я получил сильный ожог спины – задралась куртка; у других обожгло лица. Офицеры – такие же необученные, зеленые, как и мы; они не имели представления, как оказывать помощь в таких случаях. Мол, надо просто потерпеть, как принято у настоящих мужчин. Потом мы узнали – это была волна теплового излучения.
А дальше... «Скарборо» таранит «ножку» атомного гриба. Идет полоса сплошного тумана. Принимаются «меры предосторожности»: за борт опустили шланги, помпа надрывается, и мы, на верхней палубе, оказываемся под водяным зонтиком. Никто тогда и не задумывался, что вода берется прямо с места взрыва.
В это самое время на вершину атомного гриба взлетал бомбардировщик «Канберра». Рассказывает пилот Крис Донни:
– Мы должны были взять образцы пыли на верху гриба. Кокпит охватило адское пекло. Я успел лишь заметить островок внизу, как густое облако песка и желтой пыли ударило в фонарь. Через двадцать секунд я буквально ослеп. Штурман прохрипел: «Пошли назад! Приборы не работают». Мы вырвались на свет. Помню, посреди песчаного острова увидел пятно: песок спекся в зеленое стекло...
Когда к вечеру офицеры и солдаты вернулись в лагуну, шел дождь – довольно редкое явление на атолле, расположенном всего в двух градусах от экватора...

Они ничего не знали
Эта кинохроника была снята министерством обороны Великобритании для служебного пользования в 1957 году.
На экране – веселые загорелые британские «томми» на острове Рождества. Вот они купаются там, где только вчера было взорвано водородное устройство, загорают, едят оглушенную рыбу и лангустов, собранных в полосе прибоя, пишут письма домой, развлекаются, накалывая друг другу на память татуировку: контуры атомного гриба.
Сколько из них осталось в живых? Сколько еще погибнет от мучительных болезней? Ведь, как выяснилось, не были приняты практически никакие меры предосторожности.
Том Брандон и Грей Янг вспоминают, что у команды специалистов стояла «машинка»: «Сунешь в нее руку – раздается звонок, значит, есть радиация». Но большинство избегло и этой проверки, считая ее пустой формальностью. Теперь они так не считают.
«Раскрутили» историю австралийцы Адриан Тайм и Роб Роуботом. Два года назад они выпустили книгу, где прослеживаются генетические последствия воздействия радиации на аборигенов Австралии и жителей некоторых из тех островов, что служили полигонами для испытаний ядерного оружия.
В Англии книга произвела эффект взрыва. Те, кто принимал участие в испытаниях, узнали из нее о судьбах больных и погибших. Многие обратились к врачам по поводу зловещих симптомов.
В мае прошлого года в Великобритании была создана Ассоциация британских ветеранов испытаний ядерного оружия, сейчас существуют и региональные комитеты. Ведь двадцать тысяч человек были брошены под сень атомного гриба. Председатель ассоциации Кен Мак-Гинли – сам участник пяти испытаний – от имени ее членов требует от правительства расследования инцидентов на Монте-Белло, Маралинге, острове Рождества и побережье Австралии.
Ряд прогрессивных английских ученых, и среди них доктор Алиса Стюарт, крупный эксперт в области эпидемиологии, предприняли собственное параллельное расследование. В письме, опубликованном в авторитетном медицинском журнале «Ланцет», доктор Стюарт привела такой пример: процент заболевания раком крови или лимфатической системы среди участников испытаний в десятки раз выше среднего показателя в их возрастной группе. «Это неоспоримое доказательство того, что ряд участников испытаний получил дозу облучения, значительно превосходящую установленную норму безопасности»,– заключает она.
Поначалу британское министерство обороны ограничилось весьма скупым объяснением: «В ходе испытаний личный состав не получил никакой значительной дозы радиации ни в результате облучения, ни вследствие радиоактивного заражения местности». Но неопровержимо установленные факты, показания очевидцев, все новые и новые жертвы атомных авантюр Уайт-Холла, наконец, активная работа Ассоциации ветеранов заставили власти как-то отреагировать. Ведь речь идет об ответственности британского министерства обороны, во главе которого в 1957—1959 годах стоял консерватор Данкен Сэндис. И сейчас обвинения направлены прежде всего против консервативной партии и нынешнего правительства, не желающего отказываться от подготовки к ядерной войне.
В этих условиях министерство обороны вынуждено было объявить, что оно приступило к расследованию, которое, по его подсчетам, потребует не менее двух лет. Расчет жестокий: сколько еще свидетелей и очевидцев событий уйдут из жизни за это время?
Собранные по крупицам факты уже сейчас позволяют сделать вывод, что вовсе не только «образцы почвы», не «радиоактивные осадки» и не «поведение техники» были объектом исследования британской военщины. Речь шла о проверке физического и психологического воздействия бомбы на солдат в целях последующей подготовки вооруженных сил Великобритании к ведению боевых действий с применением ядерного оружия.
Речь шла о подготовке к ядерной войне...
Известно, что с 1945 по 1963 год свыше 500 тысяч американских военнослужащих побывали в зонах радиоактивного облучения. О точном числе жертв подобных «экспериментов» Пентагон умалчивает. Однако цель их ясна – определить способность солдат сохранять боеспособность после различных доз радиоактивного облучения. Английское военное командование не уступало Пентагону в циничности по отношению к своим подчиненным. Впрочем, специалисты министерства обороны Великобритании продолжают лицемерно утверждать, что «игра велась по правилам», что «уровни радиации были небольшими». Но ветеранам от этого не легче:
– Нашим неискушенным головам кажется, что даже малые уровни радиации могут принести большую беду,– говорит Кен Мак-Гинли.
Островитяне у неостывшей воронки
В этой трагедии есть еще один акт, что поставлен в мрачной тени кулис «игры по правилам».
...На краю еще не остывшей после атомного взрыва воронки сидела группа аборигенов. Они развели костер, разложили снедь. Тут же палатки. Островитянам нужно налаживать жизнь: свою, не ту, что показывали им в голливудских фильмах на кораблях слежения во время испытаний. Тела островитян покрыты гноящимися ожогами, лица обезображены язвами.
За несколько месяцев до того, как к островку пришли британские корабли, прилетели самолеты с желтой полосой на фюзеляжах, у лагун, как грибы, выросли блиндажи и казармы, склады и полигоны, рощи пальм острова Рождества, открытого Куком в 1777 году и называемого тропическим раем, опутала колючая проволока.
Поначалу в дни испытаний аборигенов действительно вывозили с острова Рождества: либо переждать на баржах в открытом море, либо высаживали на другие острова и атоллы. Потом вывозить перестали. На них просто не обращали внимания. Вот что рассказывает один из очевидцев:
– Я смотрел на юг и увидел громадное черное облако, стелющееся по равнине. Оно двигалось на нас, поглощая кустарники и деревья, будто огромный вал густого тумана. Старики закричали, что идет «маму» – злой дух. Мы зарылись в песок. Черный шквал пронесся над нами.
У многих началась рвота, боли в желудке, воспалялись глаза, опухали ноги. Кошки и куры будто сошли с ума: они метались, прятались в заросли, а потом погибали. Море было черным от заживо испепеленных птиц. И еще многие недели кайма дохлой рыбы окружала берега...
Недавно министр обороны Австралии Г. Скоулз и министр энергетики и ресурсов П. Уэлш призвали к проведению серьезного расследования воздействия британских испытательных ядерных взрывов на коренное население пятого континента и прилегающих островов.
Бьют тревогу и новозеландские власти. До сих пор и в этой части Тихого океана творятся загадочные вещи: на песчаных дюнах обнаружены гранулы плутония, по неизвестным причинам птицы покидают излюбленные ими атоллы, неведомые болезни внезапно уносят жизни десятков аборигенов.
... Алан Тайверн, пациент королевской больницы в Гилфорде, тоже был свидетелем смерти аборигенов. После завершения серии испытаний он еще три года оставался в пустыне Маралинга для проведения «операции по очистке» – официальный Лондон заметал следы. Тайверн видел, как они умирали – здесь же, неподалеку от армейских временных бараков,– высохшие, словно сожженные изнутри, мужчины, женщины, дети. Они пытались вернуть свою жизнь в прежнее русло: строили хижины из досок и гофрированного железа, снятых с временных наблюдательных пунктов на полигонах, мастерили из сидений оставленных самолетов детские качалки, раскладывали нехитрую снедь на столах из кабельных катушек, брошенных солдатами войск связи.
Однажды к сержанту Тайверну, работавшему в противорадиационном костюме на месте бывшего полигона, подошли несколько аборигенов попросить воды. Следы их тянулись от того самого места, где когда-то был эпицентр взрыва и где стоял плакат с предупредительной надписью об опасности радиоактивного заражения. Но ведь читать аборигены не умели.
В больнице сержант Тайверн уже не улыбался – как тогда, когда он позировал для военной кинохроники. Шли годы, жизнь брала свое. Пережитый в молодости ужас забылся в калейдоскопе новых впечатлений: демобилизация, возвращение на Альбион, женитьба, работа в солидном офисе.
Об аборигенах он вспомнил лишь совсем недавно, когда врачебный диагноз «лейкемия» разом стер двадцать пять лет его жизни. Несколько недель в больнице стали для Алана Тайверна временем адских мук – и физических и нравственных. В иссушенном мозгу вставало раскаленное грибовидное облако... По изумрудной стеклистой поверхности пустыни бредет кучка островитян, лишившихся пищи и крова... Улыбающийся «док» из команды специалистов: «Мы хотим сделать чистую бомбу»... Младенец-сын, которого Тайверн с женой так и не решились взять из роддома... Заголовок в «Таймс» – «США определили 40 000 целей для ядерного нападения на Советский Союз»...
Ночная сестра мисс Розмари Брэвери показала на следствии:
– ... Утром Алан Тайверн лежал на своей кровати у окна, натянув одеяло на голову, и, казалось, мирно спал. Я подумала: «Знает, что больше двух месяцев не протянет, а спит сном праведника». Поправляя одеяло, я вдруг заметила, что на голове у больного пластиковый мешок, перетянутый на шее поясом от больничного халата...
У детектива – сержанта Майкла Мак-Канна из полицейской части Гилфорда смерть пациента вызвала подозрение, поскольку пятидесятилетний Алан Тайверн поступил в больницу с диагнозом «лейкемия»... Произвели вскрытие.
В официальном заключении смерть Тайверна зафиксирована как самоубийство в состоянии депрессии.
И все-таки это было убийство. У Алана Тайверна отнял жизнь атомный гриб.
Лондон – Москва
Андрей Дубровский, кандидат исторических наук, корр. АПН специально для «Вокруг света»
Точка «Чарли» и другие

В тот день, 30 декабря 1978 года, природа обрушила на северное побережье Мозамбика сильнейший тропический циклон, и он крушил все на своем пути. В Шотландии и Швеции из-за снегов парализовало движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Высота снежного покрова достигла полутора метров. В Индии, в штате Бихар, от резкого похолодания погибли десятки людей: температура упала до нуля градусов! А далеко севернее, у станции Джамку, при сорокаградусном морозе был вбит «серебряный» костыль 301-го от Комсомольска-на-Амуре километра БАМа. Но сорокаградусный мороз для тех широт соответствовал декабрю, а вот на крайнем западе нашей страны, в Калининграде, к вечеру температура упала до минус тридцати восьми. Предновогодний город был необычайно пустынен. Как и Москва, на улицах которой появлялись только те, кому это было абсолютно необходимо.
Не совсем обычная была в тот день погода и в Атлантике, на точке «С», где днем и ночью, в мертвое безветрие или в ураган, вы можете застать научно-исследовательское гидрометеорологическое судно под советским флагом. Эта точка для моряков всего мира носит условное название точки «Чарли», и ее местоположение определено советом Всемирной службы погоды.
Почему именно эта точка удостоена внимания в безбрежных просторах Северной Атлантики? Здесь парные эшелоны с экватора встречаются с толщами вод, несущих на себе многоэтажные айсберги с массой холодного воздуха.
В этой круговерти рождаются штормы и ураганы, устремляющиеся в зону пониженного давления. Им не миновать точки «Чарли», вахта на которой тотчас оповещает материки и все суда, находящиеся в океане: «Шторм идет!» Подсчитано, что некоторые погодные выходки равноценны катастрофам. Кинетическая энергия одного тропического циклона равна энергии, освобождающейся при взрыве нескольких сотен 20-мегатонных бомб. «Катастрофы, связанные с резкими изменениями погоды, тайфунами, приносят гораздо больше опустошения, чем землетрясения, извержения вулканов и другие природные явления, вместе взятые»,– говорит известный американский журналист Ч. Мэнн. Это утверждает и директор Центральной аэрологической обсерватории Госкомгидромета СССР доктор физико-математических наук А. А. Черников.

Мы стояли на одном из причалов Одесского порта, от которого через минуту-другую должно было выйти в океан научно-исследовательское судно одесского отделения Океанографического института Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Моряки, ученые – около ста молодых людей – уходили в океан. На работу. Среди провожавших остался на берегу и Федор Федорович Гришаков, кандидат географических наук, заведующий лабораторией морских методологических исследований отделения института. Он не так давно вернулся из подобного рейса, выполнив с группой коллег очередную программу исследований физических и химических явлений в океане.
– Поймите меня правильно...– продолжал он нашу беседу, прерванную церемонией проводов судна.– Мы не занимаемся прогнозированием погоды. Наша задача – исследование взаимосвязи двух сред на планете – океана и атмосферы. Когда-то передовые умы человечества поняли, что многих бед можно избежать, если предугадывать засуху, ливни и ураганы. В двадцатом столетии ученые объединили свои усилия в попытках определить места зарождения циклонов, их энергию, скорость, направление, чтобы предсказать прогноз погоды, но... она продолжает загадывать загадки...
Над Одесским портом и ближайшими кварталами города прозвучал прощальный бас судового гудка: «Эрнст Кренкель» извещал о своем уходе. Опустел причал. Федор Федорович предложил проехать в институт. По дороге он продолжал свой рассказ.
– Планета Земля на три четверти покрыта водой, и вот в ее взаимодействии с придонными катаклизмами, с атмосферой рождается то, что мы называем погодой. Кстати, о придонных катаклизмах. Недавно научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», разумеется, его научная группа, обнаружила в северо-восточной части котловины Тихого океана так называемый термальный «остров». У разлома земной коры вода на километровой глубине оказалась нагретой до 500 градусов Цельсия! Короче, ныне без учета Мирового океана, без уточнения океанических и атмосферных течений, циркуляции или выявления новых процессов немыслимо представить даже приблизительного прогноза погоды.
Чтобы знать, какая погода будет завтра, через месяц и год, мы должны проникнуть в тайны явлений, происходящих на планете, в космосе, на Солнце и в самом океане. Ведь океан накапливает огромную массу тепла, отдавая его атмосфере. Как, по каким законам оно транспортируется на материки – пока неизвестно. А это надо знать. Понятно, что какой-либо одной державе решение сей задачи не по плечу. Поэтому ученые всего мира пришли к выводу: необходимо объединение усилий. Так родилась Всемирная служба погоды...
Перед встречей с учеными из Одессы мне было уже известно, что во Всемирную службу погоды входят около ста пятидесяти национальных метеорологических служб, которые обеспечивают заинтересованные государства информацией о состоянии погоды на данное время и ближайшую перспективу. Поток информации Всемирной службы мчит по каналам глобальной связи в мировые метеоцентры. Обработанный в считанные минуты на компьютерах, он ложится линиями циклонов и антициклонов на синоптические карты будущего прогноза. Результаты наблюдений разлетаются в четыре тысячи метео– и 700 аэрологических станций. Через газеты, радио и телевидение они доходят до нас, и мы знаем, прихватить ли с собой зонтик или одеться потеплее, чем думалось.
– Так вот, сведения,– продолжал Федор Федорович,– из разбросанных по всей планете наблюдательных пунктов Всемирной службы погоды получают и две тысячи судов, находящихся одновременно в морях и океанах, в их «болевых» точках типа точки «Чарли». Таких несколько. Так, например, у острова Кергелен штормит в четыре раза больше средней нормы, а в Бенгальском заливе проносятся около 110 штормов в год! Поэтому наша забота – это постоянное дежурство на точке с координатами 52 градуса северной широты и 38 градусов западной долготы, на «Чарли». Правда, у этой «точки» размеры не совсем соответствуют названию: квадрат первой зоны имеет площадь в сто квадратных километров, и из него судно не имеет права выхода без особых обстоятельств, для которых существует вторая зона. О ней чуть позже...
Федор Федорович легко рассказывал и так же легко вел «Жигули». Мы миновали район Аркадии, поднялись чуть вверх и свернули вправо, снова к морю: институт возвышался почти на самом берегу. Мне припомнилась подобная же вывеска-визитка у входа в ленинградское отделение института.
– Вы, конечно, не одни работаете на службу погоды?
– Разумеется. От Советского Союза в Мировом океане по международным и национальным программам трудятся ученые многих институтов Академии наук СССР. Среди советских организаций, принимающих участие в программах, одесситы отвечают за Северную Атлантику, где, как предполагают многие ученые, находится «кухня погоды» северных широт...

О «кухне» я знал не только по справочной литературе.
...Это было у Фарерских островов. Резкий ветер с дождем и градом враз вздыбил океан. Через четверть часа упала температура, исчез с глаз горизонт. Наша плавбаза превратилась в многоэтажные качели... Только качало ее с борта на борт и с носа на корму, да так, что волны свободно гуляли по палубам (это на высоте-то одиннадцати метров!).
– Кухня погоды заговорила,– уважительно отметили бывалые моряки.
– Баллов десять-одиннадцать...
Разбежались рыболовные траулеры, кто успел – попрятались в фиордах и за острова. Потом синоптики (при флагмане экспедиции работала группа синоптиков) разводили руками:
– Понятия не имеем, откуда он мог взяться, окаянный!..
...В небольшом кабинете за спиной его хозяина во всю стенку висела карта с воткнутыми в нее крошечными флажками. На них – названия научно-исследовательских судов.
То и дело звонил телефон, наша беседа прерывалась: Гришаков выходил, возвращался и однажды пришел не один.
– Знакомьтесь, Радомир Ростиславович Белевич – заведующий лабораторией океанических исследований приэкваториальной зоны Атлантики.– Заметив мое внимание к карте, Федор Федорович подошел к ней и переставил один из флажков из Одессы почти на середину северной части Атлантики.
– Чего не сделаешь по мановению руки! А идти им туда восемнадцать суток! Всего у нас восемь современных научно-исследовательских судов. Шесть из них – автономного плавания, настоящие плавучие лаборатории с комплексом оборудования для изучения океана и атмосферы над ним. В рейсовых заданиях каждого – месячная вахта на «точке» и около двух месяцев производство «разрезов» и постановка станций в океане. Дежуря на «Чарли», экипажи судов каждый час передают по международному коду в ближайшие метеорологические центры сведения о состоянии нижних слоев атмосферы. Молнией уходит информация под шифром «Шторм идет!».
Безусловно, весь океан пока трудно держать под наблюдением. Наши суда совместно со спутниками действуют от экватора до северных широт. Кроме сказанного, в обязанности науки входит оповещение о тропических ураганах, о ледовой обстановке в северо-западной части Атлантики и о результатах работ по Международной программе ОГСОС (Объединенная глобальная система океанских станций). Четыре раза в сутки отправляются сведения о состоянии океана в пределах глубин от 0 до 200 метров. Четким языком цифр рассказывается о температуре воды по глубинам, ее солености, направлении и скорости течений. Вашингтон, Токио и другие центры в обмен шлют результаты своих наблюдений в «горячих» точках Тихого океана. Но наибольший вклад во Всемирную службу погоды наши ученые вносят участием в Межправительственном соглашении по океаническим судовым станциям. Соглашение было подписано десять лет назад.
...Идея родилась чуть ли не в 1918 году. Заинтересованы были прежде всего европейские страны, которым приходится первыми встречать шторма и ураганы. В 1938 году вышел первым на патрулирование французский корабль погоды «Карема». Руководил экспедицией Дель Камбр. В начале войны судно было потоплено. Его место заняли другие. Они обеспечивали информацией о погоде «океанский мост» – транспортные караваны из Америки в Советский Союз и обратно. Фашистские субмарины охотились за ними как за боевыми единицами союзнического флота. Не единожды ученым приходилось вступать в единоборство с морскими пиратами.
К концу войны их осталось двадцать восемь. Вахту они несли на точках Альфа, Брауэ, Дельта, Индия, Джульет, Эхо, Майкл, Лима, Рома, Чарли.
– Но,– Федор Федорович развел руками,– время неумолимо выставляет свои счета. В сорок восьмом году из-за дороговизны содержания судов теперь уже Международная ассоциация гражданской авиации оставила всего десять кораблей погоды. Они давали информацию винтомоторной авиации. В том же году на Женевском совещании МОГа Америка отказалась участвовать в финансировании судов службы погоды, а с появлением спутников к семьдесят четвертому году в Атлантике осталось всего четыре погодных точки, в том числе – «Чарли». И первым из советских судов на патрулирование в ее район вышел «Муссон»...
– Но с того времени задачи ученых намного усложнились. Теперь они производят четырехразовое – в сутки – зондирование атмосферы ракетами до высоты 30 километров. Сведения о температурах по высотам давления, влажности, направлении и скорости ветров, обеих кромок облачности, осадках, редких явлениях природы и волнении моря в автоматическом режиме уходят на приемные устройства метеоцентров.
– Какие вы заметили отклонения за минувшие год-два?
– Например, зимой 1983 года в Атлантике Азорский максимум – антициклон – был на десять миллиметров ниже обычного, а Исландский – на пятнадцать выше нормы. Улыбаетесь?
– Миллиметры...
– Ну да, миллиметры. А знаете, что стоит за ними? Зима в океане была вся начисто штормовая, с немалыми бедами, а лето на материке, как вы, наверное, помните, прямо-таки одарило дождями.
Тут вступает в разговор и Радомир Ростиславович:
– В общем-то ученые считают, что в природе существует какой-то средний климат. Наше дело – изучить, найти закономерности отклонений от него, и тогда можно будет прогнозировать с большей точностью и судить о так называемом «знаке аномалий», то есть говорить, будет лето теплым, засушливым или холодным и дождливым.
– А осязаемо как это можно понять, представить?
– Федор Федорович сказал, что мы наблюдаем океан в своей части в течение десяти лет и кое-что уже можно предложить из собранных сведений. Например, Гольфстрим. В зимние периоды этого десятилетия он оказался значительно теплее, чем, скажем, по данным тридцатых-сороковых годов. Поэтому мы с вами стали свидетелями в основном мягких зим, отличных от довоенных и военных.