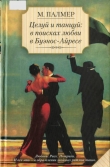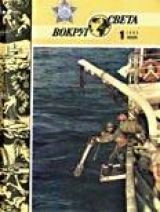
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №01 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Город тысячи портеньос

Образ города, в котором довелось прожить недолго: неделю, две или месяц,– формируется впоследствии не только из запечатлевшихся в памяти улиц и площадей, переулков или монументов. Лица знакомых или случайно встреченных людей, фразы, оброненные в очереди перед кинотеатром, анекдот, услышанный в метро, лозунг, начертанный на стене, пронзительное рыдание бандонеона, вырвавшееся из приоткрывшейся на мгновение двери ночного кафе в Сан-Тельмо, испуганный вскрик ночной электрички, пронзающий небо над бывшей площадью Британии, переименованной в «Площадь аргентинских ВВС», всполохи световой рекламы на авениде 9 июля...
Но как из калейдоскопических впечатлений сложить портрет этого латиноамериканского города, который так похож на десятки европейских столиц?
Путешествовавший в конце прошлого века по Южной Америке русский дипломат Александр Семенович Ионин сделал категорический вывод: «Буэнос-Айрес во всем уже напоминает большие города Европы, построенные заново, с преднамеренною пышностью, как будто напоказ».
Да, именно так: «с преднамеренною пышностью, как будто напоказ» пробивалась через кварталы старых домов широченная авенида 9 июля, которой для полного сходства с парижскими Елисейскими полями не хватает только Триумфальной арки. Еще более импозантны и... неиндивидуальны парки аристократического квартала Палермо, которые могут напомнить парижанам Булонский лес, а мадридцам – сады Эль Ретиро. На бывшей площади Британии возвышается копия лондонского Биг Бена. Есть в Буэнос-Айресе кварталы, где почувствует себя в родных стенах приезжий из Рима или Севильи, Барановичей или Львова, Вены, Стамбула, Алжира...

В 1826 году на шестьдесят тысяч местных жителей приходилось до тридцати тысяч англичан, французов, немцев, итальянцев, бразильцев и выходцев из других стран – и всего тысячи три испанцев.
В 80-х годах прошлого столетия в городе проживало полмиллиона человек и ежедневно (!) прибывала тысяча иммигрантов.
Сейчас в Большом Буэнос-Айресе – Байресе – насчитывается немногим менее половины населения страны – около двенадцати миллионов. Называют они себя «портеньос», то есть «жители порта». Ведь Буэнос-Айрес – не только столица, но и крупнейший в Аргентине порт.
Так что же такое Байрес и кто такие «портеньос»?
Приезжавшие сюда люди приносили с собой свои традиции и вкусы, взгляды и привычки, уклад жизни и методы решения житейских проблем. Буэнос-Айрес складывался как гигантский витраж, каждое стеклышко, каждый фрагмент которого были доставлены сюда из-за океана.
В этом были свои плюсы и минусы. Плюсы очевидны: массовая иммиграция давала стране квалифицированные рабочие руки, ибо переселенцы привозили с собой не только умение готовить гуляш по-венгерски или пиво по-баварски, но и свои инженерные дипломы, мастерство плотников, столяров, башмачников или шоферов.
Говоря о минусах, достаточно вспомнить немецкую иммиграцию, создавшую в Аргентине мощную колонию, послужившую надежной базой для экономического, политического и идеологического проникновения нацизма в Южную Америку. Аргентинское правительство объявило войну Германии лишь в марте 1945 года. Неудивительно, что после разгрома фашизма Аргентина стала рассматриваться бежавшими из «третьего рейха» нацистами как земля обетованная.
Но обратимся к сегодняшнему Буэнос-Айресу и его обитателям. И логичнее всего будет начать этот рассказ с того квартала, который все без исключения портеньос называют самым древним, самым типичным районом столицы, откуда она, столица, и началась. Мэр Чиоппо, когда я поинтересовался у него, что он советует посмотреть в Буэнос-Айресе в первую очередь, ответил: «Боку и Каминито».
Каминито с туристами и без них
«Бока» – по-русски означает «устье». Буэнос-Айрес лежит в устье самой широкой (здесь, у впадения в Атлантический океан она разливается на двести километров) и едва ли не самой короткой реки мира Ла-Платы. Она рождается всего в нескольких десятках километров отсюда, в точке, где сливаются воды рек Параны и Уругвая. В том месте, где в Ла-Плату впадает небольшая речушка Риачуэло, образовалась уютная бухта.
– В 1536 году здесь высадился основатель нашей столицы испанский конкистадор дон Педро де Мендоса. Он сразу же увидел, что природа создала тут удивительно удобную гавань. Из природной гавани получился порт, а вокруг него вырос город, который был назван «Сьюдад де ла Сантисима Тринидад и Пуэрто де Нуэстра Сеньора де Санта Мария де лос Буэнос Айрес».– Профессор Делаканал произнес это действительно умопомрачительное название без запинки, с легкостью кондуктора, в миллионный раз выкрикивающего название ближайшей остановки автобуса. И я понял, что профессор хорошо знает свое дело. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: ведь он – директор исторического музея Боки, того самого района, о котором идет речь.
Беседуем с ним, прогуливаясь по самой знаменитой в квартале и одной из самых известных в Буэнос-Айресе улиц, которая называется «Каминито». Это слово можно перевести как «улочка», «дорожка», «тропинка». Узкая, шириной с баскетбольную площадку, и короткая (ее длина не превышает сотни метров), Каминито удивительно нарядна. Ее трехэтажные, сколоченные из жести, шифера и досок дома окрашены в ослепительно яркие, сочные цвета: красный, синий, зеленый, желтый. Объясняется это не только и не столько эстетическими соображениями и отнюдь не стремлением поразить прохожего, а прежде всего тем, что для покраски своих домов жильцы издавна раздобывали остатки корабельной краски с ремонтировавшихся в Боке, в двух шагах отсюда, судов. Вот и получилась эта крохотная Каминито похожей на маленькую, приготовившуюся поднять якоря флотилию. Все вроде бы было готово когда-то к началу далекого похода, но команду так и не отдали, и маленькие суденышки постояли, постояли и навечно вросли в асфальт мостовой.
– Кстати, об асфальте... Он появился здесь сравнительно недавно,– продолжает свой обстоятельный рассказ профессор.– Каких-нибудь пять или шесть десятилетий назад здесь лежали рельсы и шпалы, сквозь которые пробивалась трава. Да, да, сеньор, по этой улице проходила ветка идущей в порт железной дороги. Но постепенно ею перестали пользоваться, забросили, образовалась свалка. Зрелище было крайне неприглядное, но... и тут мы с вами подходим к самому главному, исторически важнейшему, ключевому этапу в жизни Каминито, Боки, а, может быть, и всего Буэнос-Айреса: наш знаменитый художник Бенито Кинкеле Мартин предложил городским властям расчистить свалку и организовать здесь нечто вроде музея. И вот, посмотрите еще раз, что из этого получилось.– Профессор простирает руку, приглашая оглядеться и восхититься.
Мы послушно оглядываемся и дружно восхищаемся. И ничуть не кривим душой: Каминито действительно прекрасна. Как утверждает профессор, и он, возможно, прав, это – единственная в мире улица-музей. Музей, созданный на месте бывшей железнодорожной ветки и городской свалки. На ярких стенах домов и на каменных оградах множество барельефов, мемориальных досок, скульптурных групп, мозаичных фресок. Все это подарки художников и скульпторов Буэнос-Айреса, которые за несколько десятилетий превратили маленькую улочку в едва ли не самую богатую и интересную коллекцию аргентинской жанровой живописи и мемориальной скульптуры. Учитывая, что имя основателя этого музея под открытым небом – Бенито Кинкеле Мартина – уже названо, не буду перечислять остальных художников. Всех назвать невозможно, а выбрать несколько имен было бы несправедливо по отношению к остальным. Сам Бенито, скончавшийся совсем недавно, стал символом патриотизма, любви к своему народу и в особенности к портовому кварталу Бока, который он воспел в своих полотнах, собранных в находящемся тут же, рядом с Каминито, мемориальном музее.
Разместился он на верхнем этаже довольно высокого по здешним масштабам здания. Из окон четвертого этажа открывается впечатляющий вид на порт – на деловито суетящиеся буксиры, приткнувшиеся к замшелым причальным стенкам суда, лодки, словно вклеившиеся в грязную, застойную воду, покрытые булыжником набережные, серые крыши складов, пакгаузов, ремонтных мастерских, узкие улочки с гордыми названиями «Гарибальди», «Магеллан», «Ла Мадрид». Все это – Бока, серая, пыльная, усталая Бока, на фоне которой особенно хорошо заметны яркие краски Каминито.
Особенно нарядна эта улочка в субботу и воскресенье, когда на ней появляются художники. Они расставляют работы, развешивают их в ожидании туристов, желающих увезти с собой эскиз, рисунок или картину с классическими видами Боки или Каминито, которые давно уже признаны такими же типичными приметами «старого» Буэнос-Айреса, как набережные Сены – для Парижа или стены Колизея – для Рима. Разумеется, предложение значительно превышает спрос на эти шедевры, и поэтому каждый появившийся на Каминито турист мгновенно становится объектом повышенного внимания, предупредительности, а затем и настойчивых ухаживаний со стороны будущих, пока еще не открытых, не признанных миром аргентинских Утрилло и Лотреков.
Там, в этой сутолоке, я познакомился с Педро Гулькисом. Сейчас ему к семидесяти. Родился он в Западной Украине, входившей тогда в состав Польши. В Буэнос-Айрес привезли его пятилетним мальчишкой в середине двадцатых годов, когда отец, истомленный вечной нуждой портной, потащил свою обильную семью за океан в поисках лучшей доли. Вся родня его вымерла, так и не найдя счастья за океаном. Педро остался один. И с каким-то трогательным упорством он считает себя нашим соотечественником.
Узнав, что я из Москвы, Педро разволновался и немедленно предложил свои услуги в качестве «чичероне» по Каминито и Боке. «Все ясно,– подумал я.– Хочет заработать. Постарается продать мне свои рисунки...»
Теперь мне стыдно вспомнить об этом подозрении: Педро оказался добр, бескорыстен и беспредельно честен и щедр. Он показал мне такую Каминито, которую я никогда не увидел бы без его помощи и о которой не узнал бы из самых обстоятельных лекций профессора Делаканала. Педро пригласил меня войти в эти восхищающие туристов яркие домики и познакомил с живущими там людьми.
Педро и обратил мое внимание на одну существенную деталь: ни в один дом, ни в одну комнату во всех без исключения домах, находящихся на Каминито, входа с этой улицы нет! Да, да, пройдя Каминито из конца в конец, можно легко убедиться (хотя на это поначалу не обращаешь внимания), что на улицу не выходит ни один подъезд, ни одна дверь. Ни выйти на Каминито из дома, ни войти в дом. Все подъезды, двери, входы и выходы находятся на соседних улицах: Магальянес и Ла Мадрид. Это и понятно, если вспомнить, что когда-то по Каминито проходила железнодорожная ветка. Какой смысл в двери, если, выйдя через нее, рискуешь угодить под колеса паровоза?
А потом, когда Каминито обрела современный вид, прорубать двери не было нужды по другой причине: нищета, обитающая в этих домах, не должна отпугивать туристов. Зачем нужны на Каминито оборвыши, клянчащие монетку, высматривающие, как стащить чужой кошелек? Разве украсит живописную туристскую толчею нищенка с заморенным ребенком, припавшим к иссохшей материнской груди? Ведь нищета вблизи отталкивает и пугает. Нищета живописна, только если смотреть на нее издали, из лимузина, оснащенного кондиционером, если скользить равнодушным взглядом через стекло по пестрому белью на веревках, перекинутых из окна к окну; детский крик вдалеке, женский плач и мужские проклятья становятся тогда просто экзотическим фоном.
Оказалось, что в одном из этих домов Педро снимает, как он сказал, «ателье-мастерскую». Это была, вне всякого сомнения, самая неудобная мастерская: крохотная комнатушка с маленьким окошком, выходящим во внутренний двор. Естественно, света там почти нет, и даже днем Педро вынужден зажигать лампочку.
– Они встретили меня неприветливо,– сказал Педро, кивая головой на стены и потолок.– Они думали, что я – друг домовладельца. Да и вообще: раз художник, значит, богатый человек. А потом поняли, что я – такой же, как они. Почти нищий. Труженик, который еле-еле сводит концы с концами. И никогда не станет богатым. А когда соседи поняли это, они приняли меня в свою общину, в свой маленький, такой сложный мир.
...Сверху послышался грохот. Я опасливо гляжу на потолок: не обвалится ли?
– Это Томас – водитель автобуса. Идет домой,– объясняет Педро.
Шаги Томаса стихают. Раздается стук. Скрипнула, хлопнула дверь. И снова тишина.
Мы с Педро выходим в узкий, как колодец, вымощенный камнем дворик. Поднимаемся по скрипучей лестнице на второй этаж. Я нагибаюсь, пытаясь не задеть головой развешанное над лестницей белье, и вижу старую женщину, склонившуюся над тазом с мыльной пеной.
– Здравствуйте, сеньора! – учтиво говорит Педро и идет еще выше, на третий этаж. Я неловко протискиваюсь между женщиной и перилами лестницы, чуть не опрокидываю таз и бормочу извинения.
– Это – Горда, прачка,– поясняет Педро, когда мы сворачиваем с лестницы.– Обстирывает «приличные» семьи с соседних улиц. Тем и живет. Когда-то была красавицей, как эта Роза.– Педро снижает голос до шепота и кивает на вышедшую на лестничную площадку девицу в довольно изящном, я бы даже сказал, слишком изящном здесь меховом жакете.
Роза прошла мимо, грациозно поводя плечами, равнодушно кивнула Педро, скользнула взглядом по моему лицу, отсчитала тонкими каблучками деревянные ступеньки лестницы, каменные плиты дворика, после чего звук ее шагов затих за воротами, выходящими на улицу Магальянес.
– Самая сложная фигура здешнего общества,– продолжает Педро после минутного молчания.– Профессию ты уже, конечно, определил. А по совместительству – осведомительница полиции. Докладывает в участке о том, что происходит в квартале.
По деревянной галерее идем к противоположному крылу дома. Нестерпимо пахнет пеленками, чесноком и керосином.
– Хочешь, посмотрим, как живут эти люди? – Педро стучит в обитую жестью дверь.
– Кто там? – слышится женский голос.
– Это я, Педро, ваш сосед.
– Что угодно сеньору?
– Простите, у меня к вам маленькая просьба.
Дверь слегка приоткрылась. В щели – настороженное женское лицо.
– Я хотел попросить вас,– говорит Педро с заискивающей улыбкой,– если это, конечно, вас не стеснит, на секундочку разрешить моему другу пройти к вашему окну, чтобы он смог сфотографировать Каминито сверху.
– Зачем еще? – спросила женщина, все еще не открывая дверь.
– Для журнала,– заторопился, объясняя, Педро.– Мой друг – иностранец. Он из Европы. Хочет написать статью о нашем городе. И конечно, фотография Каминито не может не сопровождать такую статью.
– Ну и что?
– Но из вашего, сеньора, окна открывается самый лучший вид на Каминито. Самый лучший... Мы вас не задержим, поверьте! Всего одна минутка!
– Ну что же,– говорит женщина после минутного колебания,– если вы это сделаете быстро...
Она сбрасывает цепочку, открывает дверь. Мы входим. Тяжелый воздух ударяет в нос. Мрачно, темно. Через узкую прихожую проходим на кухню, и я успеваю увидеть в открытую дверь маленькую комнату, в которой стоит старый диван. На нем, закрыв газетой лицо, лежит мужчина.
В ногу ткнулась мокрым носом собака. На кухне горит лампочка, хотя сейчас полдень. Темно, душно. На плите шипит сковородка: в оливковом масле жарится зеленая фасоль. На полу возятся пятеро детишек мал мала меньше. При нашем появлении они смолкают и, раскрыв рты, разглядывают нас.
Окно маленькое, двустворчатое. Одна створка заколочена фанерой.
Женщина рванула эту створку на себя, окно жалобно скрипнуло, раскрылось. Стало немного светлей. Радостно взвились дремавшие на потолке мухи.
Я подхожу к окну. Художники стоят у полочек, стендов и стоек со своими картинами, туристы бродят, щелкая фотоаппаратами, разглядывают этюды. Мне стало не по себе; не могу стоять у окна, зная, что в спину смотрит эта женщина и ждет, когда мы наконец уйдем и оставим ее в покое.
– Боится выселения,– говорит извиняющимся тоном Педро, когда мы торопливо выходим.– Владельцы домов после того, как улица стала такой знаменитой, начали постепенно выселять жильцов. Ремонтируют кое-как каморки и сдают художникам. Ты видел мою мастерскую? Конечно, не лучший подарок художнику. Но сейчас иметь на Каминито ателье престижно. И потом... То, что мы здесь пишем,– для туристов. Это можно делать даже совсем без света, с закрытыми глазами...
В поисках центра
Пора, однако, познакомиться с городским центром. Для этого нужно прежде всего установить, где он находится. Обратившись к путеводителю для автомобилистов, мы обнаружим, что все дистанции на дорогах страны отмеряются от площади Конгресса, точнее говоря, от гранитного монолита «Нулевой километр», высеченного скульптором Хосе Фиораванти и установленного рядом с Конгрессом. Впрочем, сами аргентинцы не склонны считать эту площадь и этот дворец символом или центром своей столицы.
Гораздо более правомерно считать центром площадь Мая, на которой в 1810 году была провозглашена независимость Аргентины от испанской короны. На этой площади находятся сразу два правительственных дворца: и самый первый – «Кабильдо», и современный – «Каса Роса да». Но все-таки площадь Мая центром никто не считает.
Есть в Байресе улица, о которой обязательно упомянет каждый портеньо, рассказывающий чужестранцу о своем городе. Она направляется на запад от порта – узкая, совсем обычная улочка, которую и «авенидой»-то непонятно почему назвали. Ведь гордое это слово предполагает простор, размах и уж, по крайней мере, ширину хотя бы на три-четыре транспортных потока. Но нет, бежит себе скромная авенида Ривадавия через кварталы и районы, и странное дело – чем дальше от центра, тем шире и оживленнее она становится. Давным-давно уже кончились или поменяли свои названия параллельные ей улицы, которые начинаются там же, у порта. Потом Ривадавия ныряет под виадук кольцевой автомобильной дороги имени генерала Паса и, распрощавшись с территорией Федеральной столицы, вырывается на просторы Буэнос-Айреса. Рядом с ней железная дорога. Небоскребы остались далеко позади, вокруг – коттеджи и виллы. На автобусах– названия других городов и поселков. И все чаще и чаще встречаются гаучо на лошадях, грузовики и повозки, везущие кожи, муку, картофель. И нумерация домов уже перевалила за двадцать тысяч... Нет, никто не знает, где кончается Ривадавия.
Кто-то мне говорил, что она тянется километров на двадцать. Но мальчишка, заправлявший машину на бензоколонке, убеждал меня, что по Ривадавии можно доехать до Мендосы, а это, как известно, самый западный из аргентинских городов. Оттуда уже рукой подать до Сантьяго-де-Чили. Хочу предупредить, что заблудиться в Байресе невозможно: планировка этого города удивительно логична. Весь он разделен на «куадры» – кварталы, образуемые перпендикулярно пересекающимися улицами. Длина каждой «куадры» – сто метров, и в каждом квартале, даже если количество домов и дверей в нем меньше сотни (а так это обычно и бывает), нумерация домов ограничена одной сотней: от 100 до 200 или от 1500 до 1600 и так далее. Такой же порядок сохраняется и на параллельных улицах. Таким образом, если вы разыскиваете, например, дом номер 815, а находитесь, предположим, против триста сорок седьмого дома, то можете быть уверены, что нужный вам дом и подъезд будут найдены ровно через пять перекрестков!!!
Но как все-таки быть с «городским центром»? Тут все зависит от того, что вкладывать в это понятие.
Приехавший в Байрес за покупками отправится на знаменитую Флориду: торговую улицу, закрытую для автомобильного движения и отданную пешеходам, точнее говоря, торговцам и покупателям.
Те, кто хочет развлечься, выберут авениду Корьентес, точнее, ее отрезок между Флоридой и Кальяо. Здесь кинотеатры и кафе, пиццерии и залы с игральными автоматами, дешевые сувенирные лавки, бары, пивные. Корьентес – самая беспокойная, оживленная и никогда не засыпающая улица. В три дня и в три ночи не смолкают на Корьентес рыдающие звуки танго и грохот джаза. В воздухе висит автомобильный чад, смешанный с запахами жареного лука и дешевых одеколонов. И откуда бы вы ни шли и куда бы вы ни направлялись по этой авениде, вам нельзя миновать находящийся на пересечении Корьентес и авениды 9 июля стройный, взметнувшийся в небо 72-метровый обелиск. Его так и называют «Обелиск», и он-то и служит Байресу самым точным и известным во всем мире графическим символом.
История Буэнос-Айреса, города с тысячью лиц, города сотен тысяч портеньос, неразрывно связана с жизнью, заботами, с радостями и горестями своей страны и всего остального мира. И в том, что говорят, что думают, к чему стремятся аргентинцы, с которыми я встречался в Буэнос-Айресе, отражается биение сердца всей этой нации.
– Наша страна должна взять в свои руки борьбу за утверждение своего суверенитета, за освоение своих богатств. И руководство этой борьбой должно находиться в руках самих аргентинцев,– вспоминаю я слова отставного генерала Гуглиалмелли.
– Сейчас необходимо действовать так, чтобы добиться подлинной независимости нашей страны, покончить с постоянным и грубым вмешательством в нашу жизнь транснациональных монополий,– мнение коммуниста Оскара Аревало.
Я вспоминаю другие встречи с портеньос на Каминито, на авеню Ривадавия, и думаю, как все-таки определить главную, самую характерную черту их характера: оптимизм, веру в свои силы, уверенность в том, что невзгоды пройдут и завтрашний день будет лучше, чем нелегкий сегодняшний.
– Жизнь каждого из нас напоминает книгу, страницы которой бывают яркими, радостными, а могут оказаться трагическими, грустными, печальными,– сказал мне ветеран профсоюзного движения, старый и мудрый портеньо Рубен Искаро. И добавил: – Но мы должны всегда стремиться к тому, чтобы забывать печали и сделать радости постоянным спутником нашей жизни.
Буэнос-Айрес – Москва
Игорь Фесуненко