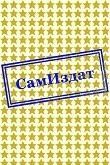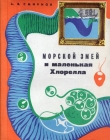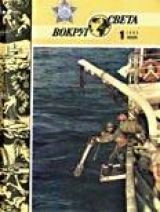
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №01 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Ночью мы несколько раз выходили на крыльцо. Слушали, как Моква стонал, рычал и чмокал. Стая здорово отделала бедолагу.
Продержал нас Моква в напряжении двое суток, а в ночь на третьи ушел. На полу сарая в пятнах крови торчали примороженные клочья шерсти, но следы медведя в тундру были чисты. Выходит, зализал раны.
С месяц Моква бродил по снегам, его видели и подкармливали буровики и оленеводы. А потом пропал. Видно, нашел местечко, где можно было спокойно доспать зиму.
Объявился он только весной. Первым его, конечно, увидел сын, лакомившийся на склоне морены прошлогодней шикшей.
– Скоре-ей, смотрите, наш Мо-оква бежит! – услышали мы как-то ликующий голос.– Ур-р-ра!
Я посмотрел, повздыхал и принялся убирать на улице все, что «плохо» лежит...
Волки после неудачной погони за медведем снова вышли на след Рэквыт. И тогда она сделала петлю по горам вокруг озера, разыскала совхозное стадо и на остатках сил довела своих соплеменников до него. Мы долго обдумывали этот маршрут Рэквыт и назвали его «Петлей разума».
А стая Нымэйынкина?
Она осталась в окрестностях перевалбазы, питаясь на многочисленных колониях леммингов. Ближе к весне пропала. Потом пастухи видели след стаи высоко в горах. Он вел на юг. Нымэйынкин увел собратьев в родные угодья.
Николай Балаев
Внутри «головки сыра»

Счастливчики, которым удалось записаться в очередь на лекцию профессора Нейла Халлама, томятся в ожидании не один месяц. Лекция эта проходит вне стен Мельбурнского университета. Нейл Халлам вот уже десять лет изучает «дыры» – уникальные подводные расселины и пещеры в соседнем штате Южная Австралия. Последние годы он подключил к сбору информации студентов-биологов. Но за один раз много народу не возьмешь: даже такой знаток пещер, как Халлам, всегда берет с собой опытного гида. Подземное царство велико и запутанно. Чтобы отправиться с профессором, мало быть прилежным и дисциплинированным – необходимо еще и отлично нырять с аквалангом. ...Выезжают рано утром. Нейл Халлам, трое студентов и гид, Джон Маккормик, укладывают свое снаряжение для подводного плавания в багажник пикапа.
Солнце встало, но его пока за холмами не видно. Пикап выезжает из дремлющего поселка Маунт-Гамбир, столицы пещерного края, и мчится по берегу Голубого озера, лежащего в кратере давно потухшего вулкана.

У спутников есть официальное разрешение на ныряние в пещерах. А Джон – профессиональный гид, прошедший курс обучения в Ассоциации спелеологов-подводников.
В сегодняшнее путешествие просился Фил Поттер – когда-то он был преуспевающим бакалейщиком, потом увлекся, как шутили соседи, «присох» к подводному царству. И стал первооткрывателем большинства расселин и пещер. Это было двадцать лет назад. Поттер стал гидом и для туристов, и для ученых. Однако наплыв посетителей увеличивался – возросла и опасность. Лет десять назад за год погибло сразу одиннадцать спелеологов-новичков. Власти закрыли доступ в самые трудные и интересные пещеры. Самые опасные даже замуровали навеки. В другие можно попасть лишь по специальному разрешению.
Поттер – ныряльщик старый, опытный – оказался не у дел: отстал от времени, не знает новейшего снаряжения. За самовольные же посещения нещадно штрафуют. Поэтому Джону Маккормику пришлось отказать Поттеру, хоть именно он когда-то открывал ему секреты подводного царства.
Пикап останавливается у деревянной пристани. Здесь начало озер Пикканини – цели путешествия.
Профессор достает фотографии озер с птичьего полета и показывает студентам, в каком месте начинаются «дыры».
– Точно сапог,– говорит один из студентов, заглянув через плечо Халлама. Профессор соглашается: и впрямь очертания озер напоминают карту Италии. Вокруг крупных озер, среди болотистых лесов, россыпь прудиков. Некоторые таят в своих глубинах ходы в подводные лабиринты. Невидимые царства прячутся где-то под сосновыми лесами, под лугами. Там вечная темнота.
То, что на аэрофотоснимке было «каблуком» сапожка, с берега выглядит уютной бухточкой.
– Глубина расселины пятьдесят семь метров, ширина – шесть,– рассказывает Халлам.
Такие карстовые «дыры» встречаются кое-где в мире, но здесь, в Южной Австралии, они отличаются разнообразием строения и чрезвычайно прозрачной водой.
Обилие озер и прудов создает характерную особенность ландшафта и по горизонтали и по вертикали. Если пустоты в земле находились близко к поверхности, то верхний ее слой проваливался и в прогибе скапливалась вода. Озеро Пикканини – как раз пример отрогного провала почвы. Но в этом провале есть ответвления – полости. Если бы гигантским ножом просечь здесь землю на сотни метров вглубь, то разрез был бы похож на исполинскую головку сыра.
Наконец, аквалангисты надвигают маски и уходят вглубь – вниз по расселине, среди густых кущ водорослей,– ко входу в Собор.

Маккормик делает призывный жест рукой и вплывает в клубок водорослей. Студенты следуют за ним, протискиваясь в узкую щель. Полумрак сменяется полной темнотой, которая словно густеет от тщедушного лучика фонаря.
Студенты направляют лучики фонарей в разные стороны – тьма, стен нет. Ощущение бездонной пропасти. А когда Маккормик и Халлам устанавливают несколько небольших прожекторов, былые страхи проходят. Зал – размером с готический собор. И фонариками всей его красоты, конечно, не охватить. Аквалангисты зависли у дна, своды высоко-высоко, слоистые стены глыбятся вверх – где прямо, где арками. По углам мерещатся статуи, в центре – алтарь, наверху проходы в другие пещеры – словно лестница на хоры.
Вдруг тень – угорь из щели выметнулся и змеится подальше от света.
Освоившись в Соборе, студенты замечают, до чего прозрачна вода – будто ее и нет вовсе. Телом ощутить можно, а зрительная иллюзия рождает чувство полета. Не зря профессор говорил, что аквалангист здесь ощущает себя как бы в невесомости.
Гид ведет группу вверх к пещеркам, входам на «хоры». Халлам, так долго учивший студентов плавать, не поднимая ила, сам забылся, и его ласты поднимают тучи ила. Выбираются все из пещеры на ощупь.
Внезапно яркий луч солнца бьет в подводное подземелье. Здесь стали видны сказочные сады водорослей. Иные пловцы сравнивают их с ухоженными английскими парками. Поттер, бывало, ворчал (про себя, конечно): плывешь внутри кастрюльки с овощным рагу.

Из сплетений водяных лютиков поднимаются стройные стебли триостренника. Клубни его съедобны, аборигены, рассказывают, разнообразили ими свой рацион.
Все окрестные «дыры» славятся прозрачнейшей водой. Это связано с тем, что из подземных ключей бьет дождевая вода, профильтрованная мощным слоем известняков. В ней много кальция. Органические остатки в озерах и пещерах очень быстро выпадают на дно. Буйная растительность удерживает ил на дне. Вода меняется быстро и не застаивается. Ряску можно увидеть на поверхности только «дыр-одиночек», не связанных со всей системой пещер.
Благодаря исключительной прозрачности воды фотосинтез зеленых растений на глубине необычайно интенсивен. Света так много, что некоторые растения развили красноватую окраску – защиту от избытка солнца. Обычно кислород выделяется подводными растениями невидимо. Но если улитка, угорь, рачок повредят лист, трещинка заметно выделяет пузырьки кислорода, которые поднимаются вверх, как в бокале шампанского.
Озера Пикканини немного солоноваты, в их воде достаточно фосфора и азота, а значит, много фитопланктона и одноклеточных водорослей – основы сложных пищевых цепей. В Юэнсовых прудах, которые накануне посещали студенты с профессором, вода прохладнее – пятнадцать градусов, в ней кислорода растворено больше. Зато фосфора и азота в ключевой воде тех прудов меньше, и это отражается на растительности – она там куда скудней.
Юэнсовы пруды – первая часть лекции Халлама. Они названы так в честь незадачливого здешнего полицейского Юэнса, который лет сто назад провалился в них как был – в форме и верхом, вместе с лошадью. Искали его, а обнаружили три расселины, и в каждой по нескольку пещер. Самая большая расселина шириной тридцать метров, глубиной десять. Пруды соединены восьмимильной речушкой Эйт-Майл-Криком, которая что ни день несет в океан двести тысяч кубометров воды. Хотя в Австралии «криком» называют пересыхающие реки, Эйт-Майл-Крик никогда не иссякает. Ключи – очень сильные, напор потока чувствуется особенно в соединяющих их протоках.
Профессор Халлам со студентами провел эксперимент: у одного из ключей установил контейнер с безвредным красителем. Через десять минут на поверхности стало расплываться бурое пятно, вскоре окрасился весь пруд. Но не прошло и семи часов, как поверхность снова заголубела. За это время, по подсчетам, сменилось тридцать тысяч кубометров воды!
В засушливом районе (семьдесят миллиметров осадков в год) Эйт-Майл-Крик – большое подспорье фермерам, которые используют воды реки для орошения и снабжения системы бассейнов с проточной водой, где выращивают форель.
Лет сорок назад фермеры нанесли Юэнсовым прудам «удар ниже пояса» – частично осушили окрестные болота. Уровень воды упал лишь на полметра, но входы в неглубокие пещеры обнажились, равновесие нарушилось, многие уникальные растения погибли. Сейчас огромный вред Юэнсовым прудам наносят туристы, поэтому местная общественность и требует превратить их в заповедник. Озера Пикканини и Тантанула – уже заповедные зоны.
Тем временем профессор со студентами продолжают экскурсию. В специальные мешочки они отбирают образцы флоры расселин, отбирают пробы ила в дальних пещерах. В клубках водорослей кипит своя жизнь: там прячутся улитки, рачки, мечутся мальки. Много разных видов раков – некоторые из той сотни видов, которая нигде в мире, кроме Австралии, не встречается.
Следующее место работы спелеологов – заповедник Тантанула. Там, под сосновыми борами, прячется Спринг-кейв – пещера, доступная только опытным ныряльщикам. Начинается она глубоко в провале: огромная комната, точнее, мансарда – стены под сорок пять градусов,– переходит в известняковый выступ, от него целая цепочка пещер.
Лабиринт мечется то вниз, то вверх, то расслаивается на три-четыре этажа; есть проходы, в которые едва протиснешься,– и вдруг – огромный зал. Если потерять место входа, то в одиночку с фонарем не сразу выберешься. Случалось, аквалангист искал выход слишком долго. Смертельно долго...
Лишь когда все поднимаются на поверхность, сидя на берегу бухточки, профессор отвечает на вопросы студентов. Внизу-то ни спрашивать, ни отвечать невозможно: воды в рот наберешь...
В. Задорожный По материалам зарубежной печати
Узор на лезвии ножа

Долго мне пришлось искать встречи с эвенскими мастерами. Я забрался в самое сердце Юкагирского нагорья, чтобы увидеть рождение серебряных узоров. И вот сейчас передо мной лежит лезвие только что законченного ножа – «хиркана». Сверкают красная медь и желтая латунь, отчетливо видны серебряные насечки...
Лет пятнадцать назад в Магаданском краеведческом музее, в эвенской экспозиции, среди яркого бисерного шитья я увидел глиняный тигель с заскорузлыми потеками металла и шлака. Что эвены-ламуты издревле знали железо и другие металлы, известно: этнографы находят подтверждение этому в архивах; сохранились и старинные предания. Но, похоже, никто из путешественников прошлого не рассказывал, как эвены делали снеговые очки – «чимыт» из серебряных пластинок, или кованые оленьи рога для шаманской шапки, или женские посохи-«нёри» с орнаментом, инкрустированным цветными металлами. Хотя многие из путешественников отмечали необычное для северян пристрастие эвенов к украшениям, особенно серебряным. Например, В. Тан-Богораз пишет: «...У котла хлопотала девушка с длинным железным крюком в руках, в красивом наряде, испещренном всевозможными вышивками, и, кроме того, обвешанная с головы до ног бусами, серебряными и медными бляхами, бубенчиками, железными побрякушками на тонких цепочках...»

Так неужели сегодня потеряны секреты своеобразного эвенского ремесла? Неужели остались лишь легенды да отдаленные реликвии?
Мне захотелось найти мастеров по металлу в таежных стойбищах. И вот первые результаты поисков: у подножия гор Молькаты, в палатке оленевода Хонькана из гижигинского совхоза «Рассвет Севера», мне показали несколько интересных старинных изделий. «Наверное, у русских или якутов отцы ваши покупали?» – спросил я, еще не веря, что нашел то, что искал.
У одной из женщин лукаво блеснули глаза. Она ушла в свою палатку и вскоре вернулась со свертком, в котором оказалась старая камусная сумка, а в ней множество инструментов и украшений.
– Так, говорите, у якутов покупали? – сказала она.– А Губичан – какое имя?
– Эвенское, конечно!
– Деда моего так звали. Это его вещи. Сам мастерил инструмент, сам и работал им. Вот этим топориком – «тибак» – делал блюда – «укэн», лопаты – «эрун», стамеской узоры рисовал на них.
– А как делал-то, как?
– Не знаю, маленькой была...
Потом мне удалось выяснить, что знатоки-умельцы могут быть среди эвенов, ушедших десятилетия назад в горы и живущих ныне на реке Рассохе в Магаданской области и на реке Березовке в Якутии. Сознаюсь, встреча с ними мне казалась тогда не более реальной, чем с таинственными «пикэлянами» – «снежными людьми» колымских преданий. Но не зря, видно, говорится, что, если чего сильно пожелаешь, обязательно сбудется. И вот я лечу с агитбригадой на Рассоху.
От базы на Рассохе до бригады на Гуситэ около ста тридцати километров. Добираемся на тракторе целую неделю через болота в пойме реки Намындыкан. Река вздулась от непрерывных дождей – о переправе нечего и думать. Болота сменяют невысокие увалы, поросшие лиственничной тайгой, потом снова тянутся болота. Нескончаемая туманная морось висит над землей...
Прибыв в бригаду, лишь переночевали – и снова дорога. Поражаюсь выносливости и мастерству таежных механизаторов: наш тракторист немного отдохнул после трудного пути и опять кочует с бригадой на новую стоянку, поближе к стаду.
Кочуем... Под унылым дождем приумолкли даже ребятишки, только трактор натужно ревет, вытаскивая гусеницы из раскисшей земли. Наконец след повел в гору, но все по-прежнему закрыто туманом, и не верится, что сбудутся слова патриарха бригады Ивана Кириковича:
– На Бурлякичь солнце встречать будем!
Место для новой стоянки выбрано в седловине между двумя вершинами горы Бурлякичь. Пока мы с ветврачом ставили клубную палатку, затаскивали груз, женщины успели соорудить юрту, установить пологи и сготовить ужин (или завтрак?). Уже часа три утра, а просвета в тумане не видно, так и засыпаем в отсыревших кукулях, под стук капель по замшевой крыше древнего кочевого жилища...
А утром пробудило нас... солнце. Заголубели таежные дали, засинел на севере горный хребет. Да и в юрте многое изменилось: над костром на крючке висит старинный медный чайник, рядом – не менее старый котел со свежей олениной.

– Чай урулли! – приглашает хозяйка, доставая мясо из котла кованым крючком, на лирообразной ручке которого поблескивают светлые узоры. Видно, очень уж выразительны были наши лица, если Улита Николаевна сказала улыбаясь:
– Моей бабушки вещи, всегда ими пользуемся, когда на новой стоянке первое солнце встречаем.
Хозяев тоже не узнать: на Улите Николаевне вместо домашнего халата – новый темный кафтан из летнего оленьего меха, на шее сверкают старинные бусы с ажурным литым кулоном – «один», покачиваются тяжелые серьги из серебряной проволоки с голубыми камнями, на пальцах мерцают двойные кольца – «унькэпэн». Хозяин Прокопий Семенович в замшевом кафтане с черно-красной оторочкой, светлыми пуговицами и с поясом, украшенным литыми бронзовыми бляхами. Заглянувшая в юрту бабушка Октя тоже разодета празднично – расшитая бисером шапочка, серебряные цепочки с ажурным крестом... Казалось, мы перенеслись во времена Тан-Богораза. Но бабушка мгновенно разрушила это впечатление: она пришла пригласить Прокопия Семеновича к рации – побеседовать с директором совхоза.
Расспрашиваю Ивана Кириковича о мастерах. Он показывает мне старинное копье, пожалуй, последнее и на Рассохе, и говорит, что совсем недавно почти все ковали себе вещи, украшая их орнаментом:
– Я тоже когда-то мог...
Бабушка Октя, сидя рядом, набивает свою трубку из расшитого кисета со множеством цепочек, на которых висят щипчики, шильца, уховертки. Все это покрыто ювелирной работы насечкой и гравировкой...
– Поезжай на Нитчан,– сказал дед Иван.– Там еще есть мастера.
Нитчан – высокое безлесное плоскогорье в верховьях речки Авлыякан. Обычно в августе в этих местах стоит тихая солнечная погода, но в этом году густые туманы окутывали все плоскогорье, было сумрачно, холодно, даже дым от костра, будто боясь непогоды, стелился по юрте. Зато оленям благодать: ни комара, ни мошки нет. Оленеводам тоже гораздо спокойней, в плохую погоду можно и отдохнуть.
Мой хозяин, Василий Сергеевич Хабаровский, сразу после чаепития вытащил сумку с инструментом, достал черенок от большой серебряной ложки, на доске укрепил тисочки, зажал в них серебро и начал пилить обычной ножовкой.
– Буду кольцо делать,– сказал он.
Отпилив кусочек металла величиной чуть больше пятака, мастер взял сверло-коловорот, просверлил по центру отверстие; потом приготовил другой верстак – бревно с вбитым в него круглым железным стержнем. На этом стержне начал расклепывать, развальцовывать заготовку маленьким молоточком. Сидел мастер на оленьем коврике, придерживая ногой верстак.
– Как раньше делали такие кольца: ведь инструмента не было? Или недавно научились? – спросил я Василия Сергеевича.
– Почему не было? Почти все делали сами: и зубила, и бруски из камня, и сверла лучковые. Молоток чаще покупали. А теперь, когда есть готовый хороший инструмент,– зачем буду самодельным работать? – ответил мастер и снова углубился в работу.
Развальцовка продолжалась до обеда – под ровными, точными ударами заготовка превратилась в кольцо, пока еще грубое.
– А как делается двойное кольцо?
– Можно и это сделать двойным,– ответил Василий Сергеевич.
Он еще полчаса поработал молоточком, осторожно выравнивая изделие, затем взял напильник и пропилил посреди кольца бороздку. Прикладывая железный стерженек по бороздке, сильно ударял по нему, расширяя и выравнивая углубление. Через несколько минут кольцо приняло характерную «эвенскую» форму двух спаянных колец. Мастер обработал его мелким напильником, шкуркой, отполировал сланцевой пылью и куском ровдуги – и вот оно засияло на руках хозяйки, не отличаясь от других перстней, украшавших ее пальцы.
Потом я попал к молодому мастеру Ивану Гавриловичу Болдухину – руководителю бригады, кочующей у подножия хребтов Карчан и Карынджя. Изделия Болдухина оригинальны, он даже идет на нарушение традиционных приемов. Вот и сейчас на ручке нового ножа – «хиркана» вырезаны силуэты лося и медведя, обычно не изображаемых эвенами.
– Это еще не готовая ручка, сейчас оловом заливать буду – красивее и крепче будет.
Иван Гаврилович вбил нож в бревно, ручку плотно обернул пергаментной бумагой и крепко обвязал нитками ниже узора, оставив вверху отверстие для заливки металла. В старину изделие обертывали берестой.
Болдухин знает, что я интересуюсь, как эвены работают с металлом, поэтому все разъясняет, не ожидая расспросов:
– Это литье называется «уррын», но это название для настоящего литья, когда в каменной форме отливали из бронзы и олова бляшки для нашивки на женскую одежду, большие кольца, кулоны, бляхи для мужских поясов. Для плавки металла были у некоторых банки глиняные – не знаю, где брали...
У самого Ивана тигель был из обычной консервной банки с согнутой в виде клювика стенкой. В тигле уже стояло на печке расплавленное олово. Через бумажную воронку мастер залил металл в полость узора. Когда олово остыло, на фоне темного дерева возникли четкие серебристые силуэты почитаемых в старину зверей – хозяев тайги, кормильцев эвенов. Потеки металла мастер убрал напильником.
– Как видите, все просто. Только узор надо вырезать крупный, и его части, соединяясь между собой, должны охватить всю рукоятку – тогда крепко будет. Вы спрашивали, как делать насечку? Она «тутдандар» называется. Вот время свободное будет – покажу...
Кузница у Ивана устроена за палаткой: железная печка вместо горна, на снегу постелен брезент, на нем – наковальня: бревно с вколоченным топором, на обухе которого и работают, придерживая бревно ногой. На куске ровдуги лежит медная и латунная проволока, кусочки серебра, зубила.
– Держи и много не говори. Что неясно, потом объясню.
Иван Гаврилович вытащил из печки раскаленную заготовку ножа. Передал мне клещи, сам взял широкое зубило и начал прорубать бороздку вдоль обушка заготовки. Работал без предварительной разметки, но бороздка получилась прямой. Вторая бороздка прошла параллельно первой, затем он пробил дужки орнамента специальными полукруглыми зубильцами. На этом черновая работа была закончена. Затем мастер нарезал кусочками медь и серебро, латунь изогнул по форме полукруглого зубильца. Велел мне крепко держать заготовку ножа на наковальне и, взяв кусочек меди маленькими щипчиками, приложил к бороздке. Точными, несильными ударами вбил медь в бороздку, еще несколькими ударами закрепил и разровнял ее. Так, поочередно вгоняя медные и серебряные полоски, прошел первый ряд орнамента.
– Лучше, конечно, вгонять цветной металл в раскаленную заготовку – крепче держаться будет,– пояснил Иван Гаврилович, начиная очередной ряд орнамента. Теперь он раскалял заготовку, но она остывала, едва он вгонял в нее две-три полоски меди. Так мы и работали до вечера, пока солнце не окрасило снег вечерним светом, а тени гор протянулись почти до палатки.
Иван Гаврилович собрал инструмент, унес в палатку и уже здесь прошелся несколько раз молотком по готовому узорчатому лезвию, окончательно выравнивал инкрустацию, потом зачистил все напильником, отшлифовал мелким наждачным порошком, замшей и протянул мне лезвие, сверкающее медью, серебром и латунью.
– Теперь любому докажешь, что мы сами делали и делаем ножи с насечкой,– сказал Иван Гаврилович.
А я подумал о том, как важно, чтобы мастера, подобные Ивану Гавриловичу Болдухину, сумели и сыновьям передать наследие своего народа – самобытное искусство – эвенский серебряный узор.
С. Козловский. Фото автора г. Хабаровск