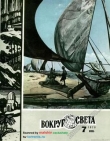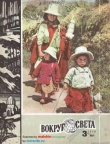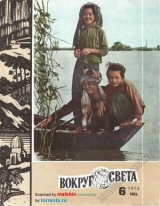
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 1979 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Судьба «Атлантиды»

На Подолье много пещер. Миллионы лет трещины в гипсовых пластах земли, возникавшие в результате процессов горообразования, размывались мощными потоками воды – и рождались пещеры, таинственные и труднодоступные.
Одна из пещер – «Атлантида» – находится в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Она не поражает размерами, как некоторые другие пещеры Волыно-Подольской возвышенности. Длина ее лабиринтов всего около трех километров. Но она быть может, больше других очаровывает своей красотой.
...Морозный налет белоснежных гипсовых кристаллов покрывает стены и потолки залов, светятся медово-желтые кристаллы пластинчатого гипса. Застыли в камне виноградные грозди, хризантемы, маки, розы, листва... И уже не удивляешься, что природа создала здесь и музыку – достаточно легонько прикоснуться к кристаллу, как возникают глубокие мелодичные звуки. А после вспышки фотолампы стены еще долго светятся в темноте зеленоватым светом.
Пожалуй, не напрасно один из первых залов называется залом «Радости». В низеньком гроте «Оранжерея» коллекция фигурок из глины, оставленных теми, кто побывал здесь. В гроте, которому дали имя Юрия Гагарина, природа украсила стены хрустальной мозаикой. Ход в грот «Алые маки» усеян острыми копьями кристаллов, стены затканы каменными соцветьями, и среди всего этого великолепия, словно черный лесной орешек, висит маленькая летучая мышь.
Но что это?.. Следы топора? Втоптаны в грязь кристаллы. Отодран даже тоненький слой гипсовой изморози, и стены во многих местах в темных пролысинах...
Говорят, что некие «дельцы» наладили производство «сувениров» из лучших кристаллов и торгуют ими. Рискуя здоровьем и даже жизнью, без снаряжения и соответствующих знаний, нарушая закон, ломая поставленные энтузиастами-спелеологами двери, эти люди уродуют то, что невосстановимо, не может быть вновь создано, не имеет цены.
Существует единственное средство, позволяющее сохранить «Атлантиду», – это сделать ее экскурсионным объектом. Пещера уже объявлена памятником природы республиканского значения, и в карьере неподалеку от пещеры прекращена добыча камня. Сравнительно небольшие затраты по созданию экскурсионного объекта должны себя оправдать и принести значительную прибыль, так как пещера находится неподалеку от старейшего и живописнейшего украинского города – Каменец-Подольский, через который проходят всесоюзные туристские маршруты.
Время торопит. То, что природа создавала миллионы лет, может исчезнуть на наших глазах...
Но «Атлантида» не должна погибнуть!
А. Никитин, Г. Пискорский
«Каллисто» ищет риф

В 1978 году флагман Дальневосточного научного центра АН СССР «Каллисто» провел исследования у Большого Барьерного рифа Австралии. Экспедиция советских ученых проходила в рамках международной программы «Человек и биосфера», один из проектов которой посвящен изучению островных экологических систем. Наш корреспондент В. Левин обратился к участнику экспедиции, доктору геолого-минералогических наук Е. В. Краснову с просьбой рассказать о задачах и итогах исследований.
– Евгений Васильевич, вы уже более двадцати лет занимаетесь изучением коралловых рифов. Произошли ли за это время изменения во взглядах науки на кораллы ?
– И такие, что вряд ли их даже следует называть осторожным словом – изменения. По сути дела, только за последние десять лет была оформлена, если так можно сказать, совершенно новая отрасль – рифология. По инициативе академика Л. А. Зенкевича и члена-корреспондента АН СССР В. Г. Богорова началось – и получило международный размах – изучение коралловых рифов как биологического феномена, не имеющего аналогов в Мировом океане. Была разработана программа всестороннего изучения коралловых экосистем Тихого океана, ибо накопленные наукой данные позволили определить следующее: коралловые острова и рифы – уникальные сгустки жизни океана, своеобразные оазисы в океанической пустыне.
– Пустыне?. .
– Именно пустыне. Первичная продуктивность атоллов Тихого океана в сто и более раз выше, чем в окружающих водах! Если не бояться преувеличений, то теперь мы можем сказать, что кораллы – важнейший источник жизненно необходимых веществ для обитателей океана. И второе принципиально новое открытие последних лет – этот источник жизни, на формирование которого природа затратила многие миллионы лет, может быть уничтожен за годы.
Вот тому пример. В начале 60-х годов появились данные о неожиданном увеличении у Большого Барьерного рифа Австралии скоплений акантастера – морских звезд – пожирателей кораллов...
– Кстати, журнал «Вокруг света» публиковал в свое время записки одного аквалангиста об этом вторжении .
– Я читал их. И думаю, нынешним читателям нашего журнала будет любопытно сравнить то, что писалось, с тем, к чему пришла сегодня наука.
– Это нетрудно сделать. Вот отрывки из очерка «Морские звезды против ББР».
«...Всего лишь десять лет назад они считались редкими ночными хищниками. Сейчас же в силу еще точно не выясненных причин они размножились в таких гигантских масштабах, что угрожают съесть коралловые рифы на громадной территории Тихого океана...» Дальше... «За два с половиной года звезды погубили четверть стомильного рифа, защищающего остров Гуам».
...Так, а теперь гипотезы. Вот мнение доктора океанологии Гуамского университета Ричарда Чешера: экологическое равновесие на рифах было нарушено, так как промысловики вели интенсивный сбор тритонов-моллюсков, естественных врагов этих морских звезд... Доктор Чешер также полагал, что уничтожение тритонов не единственная причина резкого увеличения морских звезд. Дело в том, что, убивая кораллы взрывными работами при прокладке проходов в рифах, люди способствовали размножению акантастера... И, наконец, заключительная мысль очерка... Кое-кто из коллег Чешера занят исследованием, не явилась ли гибель коралловых образований следствием ядерных взрывов, проводившихся в этом районе, или результатом загрязнения вод океана химическими веществами.

– Прицел, если так можно оказать, безусловно правильный – в то время экологические проблемы встали уже во всей остроте. Но обратите внимание – основная мысль гипотезы не выходит за пределы частных случаев. Лишь кое-кто задумывается над причинами более общими.
– ...И то, видимо, больше в силу «экологической образованности», нежели на основании каких-то фактов .
– Их тогда и не было. В то время казалось, что нашествие пожирателей кораллов вызвано лишь местными нарушениями природного равновесия. Но симптоматично было уже само имя, которое тогда дали акантастеру, – «терновый венец». Так оно и оказалось. Буйное размножение морских звезд было венцом – и поистине терновым для всего океана – промышленной деятельности человека.
Эти звезды распространились по всему Тихому океану – в прошлом году их скопления зафиксированы, например, в водах Самоа. Акантастер проник в Индийский океан. Совсем недавно «терновый венец» достиг даже берегов Японии, а его там вообще никогда не было: под угрозой оказались коралловые рифы архипелага Рюкю и Южного Хонсю. И именно в это же время в печати появились сообщения о массовых отравлениях японцев соединениями ртути и кадмия – отходами промышленного производства, содержащимися в морской рыбе.
И это не случайное совпадение: теперь фактов накопилось достаточно, чтобы уже не предполагать, а утверждать – морские звезды лишь довершают то, что начато человеком, так как их массовое размножение является следствием загрязнения Мирового океана нефтью, нефтяными отходами, ядовитыми соединениями тяжелых металлов.
В 1971 году, во время шестого рейса «Дмитрия Менделеева» в Океанию, мы зашли в порт Вила на острове Эфатэ (Новые Гебриды). Мы увидели, что полчища пожирателей кораллов облепили лишь те рифы, которые были загрязнены пищевыми и нефтяными отходами... Это была очень тягостная картина – живых кораллов здесь почти не осталось, кругом белели только их обглоданные скелеты. А на противоположном, безлюдном, берегу залива коралловые рифы находились в первозданном состоянии. Акантастер воистину лишь венчает нарушенное человеком природное равновесие в океанических сообществах.
И кардинальных средств к борьбе с ним пока не найдено. Она ведется порой вручную. В Самоа, например, объявили премию за каждую добытую звезду – за полгода местные жители уничтожили свыше 250 тысяч «терновых венцов».
– Но подобные методы не могут, конечно же, решить проблемы .
– Кардинально – безусловно, нет. Чтобы решить ее, не только спасти «оазисы и кормовые базы» океана – одной из важнейших житниц всего человечества, – но и обезопасить их вообще, необходимы комплексные международные изыскания.
Коралловый риф – это целый мир, в котором действуют такие же сложные законы, как и в глобальной экосистеме всей планеты. А мы пока находимся лишь в самом начале изучения этого мира, хотя многое, конечно, уже сделано... Усилиями советских и зарубежных исследователей сейчас создана, как мы говорим, «логическая модель рифовой экосистемы», как сообщества тесно взаимодействующих друг с другом животных и растений. Теперь основная задача – сбор данных для создания уже ее математической модели.
– И рейс «Каллисто» был посвящен именно этой задаче ?
– Наша экспедиция была комплексной. Сотрудники лаборатории тропических морей, возглавляемой начальником экспедиции Б. В. Преображенским, провели картирование дна и его обитателей.
Группа физиологов под руководством Э. А. Титлянова и В. И. Звалинского изучала жизнь мельчайших водорослей, обитающих в теле коралловых полипов. Впервые в рифовой экспедиции приняли участие гидробиологи-экспериментаторы, руководимые М. В. Проппом, – и получили очень важные данные для понимания жизнедеятельности рифов.
Можно продолжить перечисления и дальше. Но мне хочется сказать об одном эксперименте, который начал осуществляться в этом рейсе. Михаил Владимирович Пропп и его сотрудники собрали коллекцию кораллов для создания искусственного рифа в заливе Восток Японского моря...
– Чтобы стационарно – с начала и до конца – проследить все этапы роста рифа ?
– Дело не только в теоретическом значении эксперимента, который даст уникальную возможность как бы изнутри вести наблюдения над жизнью рифового мира. Он имеет огромное народнохозяйственное значение, так как может стать началом работ по созданию в прибрежных зонах наших морей искусственных рифов для увеличения промысловых ресурсов. Путь этот, как показывает опыт, весьма перспективен. Так, по сообщению японского профессора Иваситы, в настоящее время около трети улова рыбы, добываемой у берегов Японии, приходится на искусственные рифы. Однако, как признают сами японские исследователи, им не хватает фундаментальных теоретических исследований. Вот почему в основе всех задач нашей науки сейчас лежит необходимость организации системы тщательных и достаточно продолжительных стационарных наблюдений на рифах – над их топографией, распределением экологических групп животных и растений, ростом и разрушением рифовых построек. Для сбора информации необходимо создание сети регистрирующих датчиков в различных зонах, воспринимающих электрические, акустические, световые, химические, механические, температурные и другие сигналы. Стоит даже вопрос о привлечении космических средств наблюдения и связи.
– Иными словами, проблему можно решить только комплексом средств и методов ?
– Сейчас это аксиома. Но, к сожалению, и в науке велика сила инерции. Меня лично, например, те результаты, которые были получены экспедицией «Каллисто», еще раз – и, видимо, окончательно, – утвердили в убеждении, что настала пора выбора стратегии развития морских хозяйств в прибрежных зонах морей, омывающих наши берега.
Но на какой основе их создавать? По-прежнему ли делать ставку на отдельные виды рыб, беспозвоночных и водорослей, направляя максимум усилий на изучение тех или иных популяций? Или, признав, что главнейшим в структуре жизни на Земле является биоценоз, срочно начать всестороннее исследование самых разных по происхождению, но связанных по экологии животных и растений – от микробов до хищников?
Я – за второй путь. Он более сложен, но отдача от него в итоге бесконечна. Как бесконечен опыт самой Природы, подсказывающий нам этот путь.
Молния в храме
Утром пятого августа 1977 года работники музеев Кремля пришли на работу, как всегда, задолго до их открытия. В начале девятого над центром Москвы разразилась гроза, которая, однако, никого не обеспокоила, поскольку давно миновало время, когда удары молний могли повредить здания столицы. Тем неожиданней было случившееся дальше: над Кремлем внезапно появился огненно-желтый шар, который стал спускаться к Архангельскому собору. Дверь собора была открыта, смотрительница музея Н. С. Антонова готовилась к приему посетителей.
«Я сидела за столом у входа в музей, а С. А. Савкин стоял в метре от меня, – вспоминает она. – На улице дождь лил как из ведра, гремел гром, вдруг в дверь между нами на уровне примерно метра пролетел раскаленный шар сантиметров пяти в диаметре. Цвета он был как горящая лампочка, только такой яркий, что мы друг друга перестали видеть. Почти беззвучно он далее пролетел через помещение и взорвался на алтаре, ударившись о царские врата».
Работник охраны С. А. Савкин добавил: «Все произошло в несколько секунд. Я увидел только, как что-то блеснуло передо мной. Потом был треск и удар... Удивительно, что кисее, которая висела тут же, за вратами, ничего не сделалось...»
Действительно, ущерб оказался невелик: обгорел завиток на деревянной резьбе царских врат.
Опрос свидетелей, видевших молнию снаружи, теодолитные замеры, тщательный осмотр территории Кремля и самого Архангельского собора позволили восстановить всю картину. Выяснилось, что молния была не одна, их оказалось гораздо больше!
Первая шаровая молния диаметром около метра внезапно возникла метрах в двухстах над Большим Кремлевским дворцом. Предшествовал ли ей удар обычной линейной молнии в молниеотвод, уверенно сказать нельзя. Постояв на месте две-три секунды, огненный шар двинулся к Константиново-Еленинской башне, но вскоре распался на три новые молнии. Одна из них пролетела между Успенским собором и колокольней Ивана Великого, затем опустилась на Ивановскую площадь. Вторая также снизилась и исчезла в Тайницком саду. О третьей мы уже рассказали. Таким образом, утром пятого августа 1977 года над Кремлем возникли и прекратили свое существование четыре, считая и родоначальницу, шаровые молнии)
Тщательное исследование этого случая еще продолжается. Поэтому, не вдаваясь в подробности, отметим все же некоторые детали. При появлении шаровой молнии в Архангельском соборе возник запах озона, что свидетельствует об активном ее взаимодействии со средой и медленном рассеивании энергии. Никто, однако, не ощутил никакого исходящего от молнии тепла, зато ее свет буквально ослепил всех. Более того, она оказала на близстоящих людей заметное биологическое воздействие: в последующие два-три дня у свидетелей этого феномена наблюдались симптомы, характерные для гипертонического криза, – значительное недомогание, сильные головные боли, резкое ослабление зрения и т. д. Позже здоровье восстановилось, что при встрече с шаровой молнией бывает не всегда; отмечены случаи, когда зрение так и не приходило в норму.
Подсчеты показали, что свет шаровой молнии в соборе был в 5—10 раз сильнее солнечного! При этом доля жесткого ультрафиолета, чем, очевидно, и объясняется сильное физиологическое воздействие, составляла не менее одной пятой общей интенсивности излучения молнии.
Все это говорит о большой концентрации энергии в малом объеме. Действительно, судя по подсчетам, шаровая молния, чья масса составляла 15—20 миллиграммов, за время своего краткого существования в полете выделила столько энергии, что ее хватило бы для питания электрической лампочки мощностью 250 ватт в течение полутора-двух часов. Тут есть над чем задуматься специалистам по плазме! Тем более что в полете израсходовалась, конечно, далеко не вся энергия; анализ достоверных случаев появления шаровой молнии показывает, что иные из них при взрыве выделяют столько же энергии, сколько ее содержат многие десятки килограммов нитроглицерина. Поэтому не приходится удивляться тому, что иногда разрыв шаровой молнии причиняет большие разрушения.
Но порой молния исчезает «тихо», как это, к счастью, и случилось в Кремле. Почему иногда происходит так, а иногда совершенно иначе, непонятно, взрыв в Архангельском соборе был очень слабым, тогда как шаровая молния несла в себе большой заряд энергии. Куда же она делась за мгновение до взрыва? Как исчезла, чем рассеялась? Не исключено, что главные открытия, связанные с дальнейшим изучением шаровой молнии в Московском Кремле, еще впереди.
Тут дело не только в научном интересе. Ведь архитектурный комплекс Кремля снабжен самыми совершенными системами молниезащиты. А молния вела себя так, будто никаких средств защиты вообще не было. Уже позднее благодаря работам историка Е. С. Сизова выяснилось, что примерно четыреста лет назад на территории Кремля произошло почти то же самое, что сейчас.
Судя по архивным документам, шаровая молния и тогда влетала в Архангельский собор. Совпадают даже детали: четыре столетия назад молния достигла царских врат и там взорвалась... Выходит, есть молниеотводы или их нет, для шаровой молнии все едино? Действительно, получается, что обычные, давно обезопасившие здания от обычных молний средства тут недействительны. Меж тем залетевший в Архангельский собор «шарик», повторяю, обладал такой энергией, что дело могло бы обернуться гибелью бесценных сокровищ и даже разрушением собора.
Конечно, можно предполагать, что следующие четыреста лет шаровая молния больше не побеспокоит Архангельский собор. Но делает ли это загадку «огненного шара» менее актуальной? Принято думать, что шаровая молния – редкость. Действительно, она возникает гораздо реже, чем линейная. Однако собранные сейчас мировой наукой данные говорят о том, что, как ни парадоксально, именно в молниезащищенных зонах дело обстоит наоборот: там шаровые молнии возникают чаще, чем линейные! Причина и тут неясна прежде всего потому, что мы до сих пор толком не знаем, как же возникают эти сгустки энергии и что они собой представляют.
М. Дмитриев, доктор химических наук
Амузгинский клинок

Кавказские сабли и кинжалы самую лучшую сталь имели, дамасскую и амузгинскую, – втолковывал мне в автобусе попутчик, житель дагестанского селения Уркарах. – Теперь такую не делают. Секрет забыли. В этом категорическом заявлении была доля истины. Даже даргинцы и кубачинцы стали забывать об искусстве изготовления клинков – искусстве, принесшем им некогда мировую славу. Булат, Дамаск, амузгинская сталь – эти понятия со временем стали смешиваться. Лучшими клинками Востока были, конечно, булатные. Но настоящий булат умели изготавливать только в Индии и Персии. В Дамаске же ковали сабельные клинки из индийского булата, привозимого туда в «вутцах» – круглых металлических лепешках, разрубленных надвое. Выковывали, бывало, из индийского булата клинки для сабель и кинжалов и на Кавказе, главным образом в Грузии. Их делали даже в Москве, царь Алексей Михайлович был большим знатоком булата. А вот амузгинские клинки, амузгинская сталь в виде сварочного булата – это уже чисто дагестанское искусство, действительно, утраченное ныне. Но не из-за потери секрета – секрет невелик, – из-за потери спроса.

Когда подъезжаешь к знаменитому селению Кубачи, где две тысячи лет изготавливали оружие для всего Кавказа, кажется, что дальше дороги нет. Селение стоит на самой вершине горы. А мне надо было дальше – в Амузги. Туда из Кубачей ведет тропа. Она вьется вдоль каменистых склонов, уводит в другое ущелье. Слева – обрыв, справа – аккуратно выложенная из камней стена. Это для того, чтобы камни с гор не падали на дорогу. Сколько сотен лет назад уложены эти камни? Чьими руками исполнен этот титанический труд? Чуть ниже тропы лежит старинное кладбище. Ученые расшифровали на могильных плитах этого кладбища надписи XII—XIII веков. Кладка стены заросла дерном и мхом и давно уже стала неотъемлемой частью самих гор, самой природы...
Когда-то эта тропинка была оживленной дорогой, по ней без конца шли нагруженные лошади, везли в Амузги железо, а обратно – сабельные и кинжальные клинки. В Кубачах эти клинки приобретали рукоятки, ножны, украшенные серебром, глубокой гравировкой, чернью, золотой насечкой, эмалью. Кавказу нужно было оружие, много оружия. Ведь каждый горец, какой бы национальности он ни был, имел несколько кинжалов и саблю. Оружие определяло лицо человека, его богатство, положение в обществе. Как ни красиво бывало оно украшено, все равно больше всего в нем ценился клинок, качество стали. А лучшей сталью Кавказа могла быть только амузгинская. Эти клинки шли и на внешний рынок, на Восток, в Европу, ими пользовалось русское дворянство.
Амузги видно издалека. Над пропастью, обрывающейся к реке, полуразрушенная боевая башня, поросшая оранжевым лишайником, крепостная стена, развалины древних жилищ... Сейчас здесь живут всего несколько человек. Внизу и чуть выше по ущелью видно новое селение с одинаковыми двухэтажными домами из белого камня – Шири. Еще в годы Великой Отечественной войны в Амузги ковалось холодное оружие, в 1949 году селение насчитывало более пятидесяти кузнечных мастерских...
Но Амузги еще живо: из рыжих развалин подымался дымок. Я пошел на него, оказался у жилого дома и познакомился с последним амузгинским кузнецом. Спрос на клинки, оказывается, еще есть. Небольшой, правда, но есть. Кубачинский художественный комбинат изготавливает кинжалы как сувенирные изделия – для подарков, кавказских ансамблей песни и пляски, на выставки и для экспорта. В общем, нужда в клинках есть. А раз так, то должны быть и кузницы.
Зовут кузнеца Курбан Рабатов, ему 75 лет. Тем не менее дом его полон детьми школьного и дошкольного возраста.
– Да, я кузнец, – говорит Курбан. – И отец мой был кузнецом, и дед, и отец деда.
В кузнице все как в старину. Горн, раздуваемый вручную мехом, точило, молоты и молоточки. Несколько необычно выглядит место для кузнеца: возле стоящей на земле низкой наковальни вырыты две ямы. В одной из них сидит кузнец, в другой – его помощник, шестнадцатилетний сын Шахмардан. Наковальня располагается на уровне пояса мастеров. Посмотрел я и клинки. В их форме, в вырезанных чуть сбоку долах, в узком жале, да и во всем их облике сохранены амузгинские традиции. Хорошие клинки, но ни в какое сравнение со старыми они, конечно, не идут. Какие-то уж больно блестящие, легковесные, несерьезные. О самой стали, о рабочих ее качествах и говорить нечего. Да она и не нужна для сувениров. Я стал расспрашивать кузнеца о том, как изготавливались знаменитые амузганские клинки «сварочного булата». Вот что он рассказал.

В старое время клинок, прежде чем выйти из рук мастера, должен был пройти тринадцать стадий обработки. Сначала выковывали «сварочное железо». Для этого брали три сорта покупной стали. Крепкая сталь для лезвия называлась «антушка». Мягкая, употребляемая для сплошной части клинка, – «дугалала». А самый крепкий сорт стали «альхана» шел на подложку. Все три сорта выкладывались полосами.
Зажав щипцами стопку сложенных пластин, кузнец клал их в горн и раскаленными осторожно переносил на наковальню. Полосы сковывались, и получалось «сваренное железо». Затем выделывалась форма кинжала, его жало и узкий стержень для рукоятки. Особым стальным резцом выстругивался вручную желобок с двух сторон. Курбан показал мне, как это делается. Дальше шла обточка и чистка железным скребком до зеркального блеска, прокаливание и закалка в воде, налитой в деревянное корыто. После закалки клинок получал синеватый тон, на клинке проявлялся крупнорисунчатый
«Дамаск» – узор в виде извилистых и круто завернутых в отдельные клубки линий. Такая сталь была чрезвычайно крепка и в то же время эластична. Шашку из амузгинской стали можно было согнуть в колесо и ею же рубить гвозди. Причем на лезвии не оставалось никаких следов.
Работа была весьма трудоемкой, на выработку одного хорошего сабельного клинка мастер затрачивал восемь дней. Ну и, понятно, у каждого кузнеца были свои секреты; один умел придавать различные оттенки стали, другой – варьировать рисунок «Дамаска» от самого крупного до самого мелкого, третий знал особые секреты сочетания стальных полос, секреты, дававшие лучшее качество стали... А самым главным в этом искусстве был опыт мастера. Работали ведь без измерительных приборов и термометров, все на глазок. Чуть перегрел, чуть перековал, чуть перекалил – и пропало дело. Поэтому хороший клинок был дорогим.
Ювелирное искусство кубачинских мастеров, работающих в своих старинных традициях, за последние годы значительно выросло. Выходящие из их рук изделия, в том числе и сувенирные кинжалы, очень красивы. И как приятно, беря в руки такую вещь, сказать, как и тысячу лет назад: «Отделка кубачинская, клинок – амузгинский».
Александр Муравьев
Дагестан