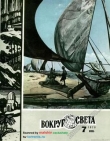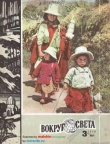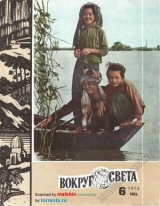
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 1979 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Перекресток или центр?

Тогда, 11 лет назад, я торопился в Рас-Шамру. Я выехал из города Алеппо – местные жители чаще называют его Халаб аш-Шахба, «пепельно-серый Халаб». Выла зима. В лавках гудели круглые печки, и под сводами старого базара сладко пахло керосиновой гарью и талым снегом. В шестидесяти километрах от Алеппо лопнула шина. Пока шофер менял колесо, мы вышли размяться. Подошел пастух, думая, что мы заблудились, и объяснил, что виднеющаяся деревушка и холм, высившийся рядом с ней, называются Тель-Мардих. И еще он добавил, что холм этот каменный... Но я спешил в Рас-Шамру, где еще в 30-е годы было сделано открытие, во многом менявшее представления о месте древних народов, населявших эту землю, в истории мировой цивилизации. Представления, гласившего: «Сирия – перепутье культур, перекресток народов, пересечение цивилизаций».
Давным-давно, более тысячи лет назад, в различных уголках обширного арабского мира уже существовало развитое искусство стихотворных и прозаических восхвалений родных мест: чей край древнее? чей род знатнее? чьи мужи мудрее и доблестней? И тысячу лет мекканцы и уроженцы северной Аравии спорили об этом с жителями Йемена, иракцы препирались с магрибинцами. Не последними в споре были и сирийцы. Похвала Сирии начиналась, по обычаю, притчей о том, как основатель ислама Мухаммед отказался ступить под сень цветущих садов Дамаска, объяснив своим спутникам, что ему уготовано оказаться в раю лишь единожды. Продолжая восхваление Сирии, вспоминали Омейядских халифов (661—750 гг.), в чьи славные времена Дамаск был столицей государства, простиравшегося от долины Инда до африканских берегов Атлантики. Не забывали и об эмире Сейф ад-Дауле, храбром военачальнике и щедром покровителе искусств, правившем северной Сирией из Алеппо в 944—967 годах. Вспоминали, что и гроза крестоносцев Саладин, или, вернее, Салах ад-Дин (1138—1193 гг.), многие свои победы одержал на сирийской земле, где и остался лежать рядом с дамасской мечетью Омейядов.

Многое еще мог был сказать стародавний панегирист во славу Сирии. Но в любых похвалах он вряд ли вышел бы за пределы библейского и мусульманского преданий. В последнем особенно сильно проявился дух кочевников-бедуинов, относившихся к царственным развалинам языческого прошлого без особого любопытства, но со страхом и предубеждением.
В начале нашего века вместе с ростом национального самосознания произошли важные перемены. Представление о родине расширилось от порога отчего дома до границ всей страны, а слово «прошлое» стало включать в себя не только знакомые предания старины, но и всю историю своей родины.
Выходцы из христианских общин Сирии принялись заинтересованно изучать богатства культуры своих мусульманских соотечественников. Те, в свою очередь, начали отдавать должное иноверным героям Сирии, подлинным и легендарным. Утверждая независимость страны, ссылались на языческую царицу Пальмиры Зиновию, бросившую вызов самому Риму. И все чаще уже не боязнь, а интерес и гордость вызывали руины былых времен.
Отношение к прошлому стало меняться еще решительнее после археологических раскопок.
Кажется, нет для археологов земли благодатней, чем сирийская. Здесь каждый холм может скрывать древнюю крепость, каждый камень стеречь вход в пещеру с неведомыми свитками. И тем не менее сложившаяся историческая традиция продолжала отказывать этой стране в самобытности, повторяя слова о перекрестке культур, о буфере между цивилизациями.
И тогда сама природа Сирии вмешалась в спор. Заговорил морской мыс и два холма.
В 1929 году на мысе в Рас-Шамра французские археологи начали раскопки финикийского города Угарит, в XII веке до нашей эры уничтоженного войнами и стихиями. И под развалинами ученые нашли клинописные глиняные таблички с текстами на угаритском языке. Это было сенсацией.
...В Ленинграде у меня есть небольшая – с указательный палец – копия глиняной таблички. На ее шершавой поверхности выдавлено 30 клинописных знаков – самый старый известный нам алфавит мира. И он найден в Угарите, на мысе Рас-Шамра. Вероятно, где-то здесь завершился переход от затейливых символов-идеограмм и слоговой письменности к привычному для нас буквенному письму. Надо ли говорить, какое огромное воздействие оказало это изобретение на развитие мировой культуры!
Помимо разнообразных образцов деловой литературы, угаритские тексты сохранили один из первых в истории рассказов о бунте смертного человека против божества, о борьбе некоего Даниила и его сына Акхата с богиней Анат, сестрой и женой могущественного Баала.
Но это было лишь началом археологического открытия Сирии. В 1933 году, на среднем Евфрате, раскапывая холм Тель-Харири, французские археологи обнаружили город Мари. Один за другим очищались от сухой земли бесчисленные залы царского дворца. На этот раз археологи открыли более 20 тысяч глиняных документов, датируемых XIX—XVIII веками до нашей эры.

Вновь открытое царство находилось под сильным влиянием своих месопотамских соседей. Оно признавало власть Аккада, затем Ура и Ассирии, а в 1758 году до нашей эры было сокрушено бывшим своим вассалом, вавилонским царем Хаммурапи.
После находок в Рас-Шамре и Тель-Харири уже никто не сомневался, что впереди новые открытия.
...Если бы наш шофер не привел так быстро в порядок машину. Если бы я так не спешил в уже ставшую археологической легендой Рас-Шамру. Если бы прислушался к словам пастуха о камнях холма Тель-Мардиха, где через несколько месяцев руководитель итальянской археологической миссии в Сирии Паоло Маттие найдет первое свидетельство великого прошлого этого забытого края.. .
А в 1975 году, после семи лет работ, Маттие сообщил, что его экспедиция наткнулась на самый большой из когда-либо раскрытых сирийских архивов III тысячелетия: ранее известные тексты этого периода не составляют и четвертой части найденного в Тель-Мардихе.
Археологи открыли древний город – обнесенный толстыми и высокими стенами, он занимал 56 гектаров. Четверо ворот вели внутрь. Над домами возвышался акрополь. Царская резиденция уступами спускалась по склону. Святилища и ритуальные водоемы были украшены рельефами.
Название города исследователи узнали еще в 1968 году – в аккадской надписи, обнаруженной на обломке статуи, говорилось об Иббитлиме из рода царей Эблы.
Этот город упоминался лишь в одном шумерском тексте да в победных реляциях объединителя Двуречья царя Саргона и его внука Нарамсина и считался поэтому заштатным местечком сирийского захолустья. А оказалось, что Эбла – столица могущественного ближневосточного государства, соперничавшего в III тысячелетии до нашей эры с Египтом и Аккадским царством! Археологам выпала невероятная удача. Изобилие и хорошее состояние текстов поразительны само по себе. Но еще удивительнее то, что почти все таблички найдены в. том же порядке, в каком они некогда хранились...
Упали своды, сгорели древние полки, и бесценные документы рухнули на пол, где благополучно пролежали четыре с половиной тысячи лет.
Язык большинства текстов – шумерский. Эта «латынь древнего Востока» в общем понятна лингвистам. Но примерно пятая часть из 16 тысяч документов XXV—XXIII веков до нашей эры была составлена на неизвестном местном языке, получившем название «эблаит».
Двуязычные шумеро-эблаитские словари, найденные при раскопках, облегчили дешифровку.
И даже предварительные выводы обещают очень многое.
К уже известным египетским, месопотамским, финикийским и древнееврейским источникам, дававшим фрагментарную картину жизни древней Сирии, прибавилось теперь множество текстов. Тут записи мифов и военные сводки, государственные договоры и деловая переписка, придворная хроника и торговые отчеты.
В Эбле существовала первая за пределами Двуречья школа писцов. На некоторых табличках, заполненных неуверенной рукой ученика, сохранились даже пометки учителя. Во главе государства стоял царь. Ему подчинялись сотни местных царьков, связанных с метрополией особыми соглашениями. В период наибольшего могущества власть Эблы простиралась от средиземноморского побережья до областей Двуречья. Еще шире были торговые связи. Как отметил крупнейший специалист по эблаиту Джованни Петтинато, в табличках встречается более 5 тысяч географических названий – египетских, малоазийских, аравийских, сиро-палестинских и месопотамских. Это поможет уточнить хронологию многих эпизодов ближневосточной истории.
Документально подтверждается, что четыре с половиной тысячи лет назад существовали Дамаск и Алеппо, Бейрут и Библос, Содом и Гоморра и даже легендарный Ирам, «обладатель колонн», упомянутый в 89-й суре Корана. Дань Эбле в золоте и серебре выплачивали Ашур на Тигре и Мари на Евфрате. (Однажды к холму Тель-Харири подошли войска Эблы для усмирения мятежного Мари, отказавшегося от прежних обязательств. Вскоре полководец Эннадаган направил в столицу донесение о жестокой расправе над бунтовщиками. «Горы трупов я нагромоздил», – писал он.) Захватив на время торговые пути Ближнего Востока, цари Эблы контролировали поставки в Месопотамию металла из малоазийских городов Канеша и Кархемиша, леса из прибрежных районов Сирии и других важных товаров. Ремесленники самой метрополии славились изделиями из металла, керамики и дерева. Традиционная инкрустированная мебель, изготовляемая по сей день в некоторых мастерских Алеппо, напоминает работу древних умельцев из Тель-Мардиха. И алая с золотой нитью эблаитская ткань, найденная в раскопках, немногим отличается от знаменитой дамасской парчи, привлекающей современных туристов. Огромное число городов и деревень, упомянутое в документах из архива Эблы, убеждает, что древняя Сирия имела гораздо более многочисленное население, чем представлялось нам раньше.

По оценкам ученых, за мощными стенами города Эблы проживало около 30 тысяч человек. Все население столицы вместе с пригородами превышало четверть миллиона.
Архивы Эблы содержат сведения о пяти царях, правивших здесь с 2400 года до нашей эры по 2250 год, когда аккадский владыка Нарамсин, по его собственному заверению, захватил Эблу и сжег ее.
Профессор Маттие считает, что Эбле удалось оправиться после разгрома и просуществовать еще два-три столетия, пока она окончательно не погибла под ударами кочевников. Позже на ее пепелище носители совсем другой культуры основали новое поселение, которое пришло в упадок к 1800 году до нашей эры и через двести лет прекратило свое существование.
Итальянский археолог надеется найти в Тель-Мардихе еще один архив, на этот раз XVIII века до нашей эры, эпохи вавилонского царя Хаммурапи.
Пройдет немало времени, пока будут опубликованы хотя бы важнейшие тексты из архивов Эблы и словарь эблаита. Но и сейчас нетрудно заметить, что в этой культуре слились воедино традиции Сирии и Двуречья. В царском архиве бережно хранились местные редакции шумерских мифов и варианты поэмы о месопотамском герое Гиль-гамеше. И главное, что еще ждет своего всемирно-исторического осмысления : исследования итальянских археологов, проводимые в тесном сотрудничестве с отделом древностей министерства культуры Сирийской Арабской Республики, позволили установить существование особой сиро-месопотамской культурной области, восходящей по крайней мере к III тысячелетию до нашей эры.
В многочисленном пантеоне Эблы соседствовали боги Сирии, Палестины и Вавилона. Эта особенность отразилась и в эблаитских личных именах. Некоторые из них употребляются и по сей день.
...Я не знаю, как звали того пастуха, но кто может поручиться, что его имя не встречается в архиве Эблы? Догадывался ли он, говоря о каменном холме, что там скрывается город? Хочу верить, что он знал это задолго до того, как заступ археолога начал вскрывать выжженный дерн на вершине Тель-Мардиха .
М. Родионов, кандидат исторических наук
«Релел» не отвечал

Вся история трагического полета Сигизмунда Александровича Леваневского давно волновала меня. А тут сама судьба приготовила встречу с двумя непосредственными участниками знаменитых трансарктических событий 1937 года – с Георгием Филипповичем Байдуковым и Александром Васильевичем Беляковым.

...Июнь 1975 года. Шереметьевский международной аэропорт. Москвичи торжественно провожали Г. Ф. Байдукова, А. В. Белякова и И. В. Чкалова – сына знаменитого летчика – в США, в город Ванкувер на открытие монумента, сооруженного в честь первого в истории перелета чкаловского экипажа из СССР в США через Северный полюс. И мне посчастливилось принять участие в этом рейсе (1 См. очерк «Два полета через полюс» в № 11 за 1977 год.).
После пролета над точкой Северного полюса (это событие было шумно отмечено на борту нашего Ил-62М) вдруг выяснилось, что самолет не может идти точно по маршруту, по которому летел чкаловский экипаж. Оказывается, в последний момент перед вылетом канадские власти прислали отказ на просьбу Аэрофлота лететь над их территорией, и самолет должен был проложить курс через Аляску. Это удлиняло маршрут почти на тысячу километров.
Командир и штурман проверяли новый курс, радист переговаривался с Фэрбенксом, самолет шел на максимальной скорости, а стюардесса успокаивала нас обещанием, что мы прибудем в назначенное время.
– А помнишь, Саша, – обратился Байдуков к Белякову, – как мы провожали экипаж Леваневского? И вот теперь летим по их маршруту...
Беляков грустно кивнул и, заметив наши любопытные взгляды, повернулся к нам, как бы приглашая к беседе.
– Мы только вернулись из Америки и несколько раз встречались с Леваневским и его экипажем: штурманом Виктором Левченко, вторым пилотом Николаем Кастанаевым, механиками Григорием Побежимовым и Николаем Годовиковым, радистом Николаем Галковским... Улетали они вечером. Я только помню, что у ребят было почему-то грустное настроение, – сказал Байдуков. – Старт прошел отлично. Поначалу все было очень хорошо, вплоть до полюса...
Георгий Филиппович посмотрел в иллюминатор. Сквозь разрывы облачности мелькали серые ледяные поля с паутинами трещин, черные полыньи. Самолет немного качнуло, очевидно, командир решил подняться выше...
– Однажды Сигизмунд на моих занятиях по навигационной подготовке, – продолжал начатый разговор Беляков, – говорил о своей мечте – перелететь в Америку через Северный полюс. Он был первым среди советских летчиков, выдвинувшим такую идею. Леваневский добился разрешения Советского правительства на перелет и впервые полетел в США в 1935 году со своим постоянным штурманом Виктором Левченко, а вторым пилотом был вот он, Георгий Филиппович!
Байдуков улыбнулся.
– Началось хорошо, но неисправность в системе маслопровода заставила нас вернуться. Мы летели уже над Баренцевым морем... Бывает же такое невезение!.. Кстати, в последней радиограмме тоже упоминалось про неполадки в маслосистеме...
Беляков взглянул в иллюминатор. Сквозь ватную подушку облаков одиноко торчали черные, с белыми прожилками вершины гор.
– Это Аляскинский хребет.
Беляков, обернувшись к Байдукову, стал вспоминать эпизоды памятного чкаловского перелета, а мы снимали ветеранов для своего будущего фильма...
К разговору об истории перелета Леваневского удалось вернуться только в Москве. Я стал частым гостем в Нижнем Кисловском переулке – у Белякова, и на Сивцевом Вражке – у Байдукова.
Под впечатлением их рассказов я начал архивные поиски. Они привели меня в Центральный архив народного хозяйства, где бережно хранятся все материалы Главсевморпути, а затем и в архив внешней политики МИД СССР, где находится вся переписка нашего Полпредства в США с Москвой по экспедиции Леваневского.
Я рассказывал старым пилотам о своих находках и при каждой встрече узнавал что-нибудь важное, связывающее разрозненные события и документы.
Эта работа продолжается и сейчас: встречаюсь с участниками подготовки перелета, собираю воспоминания людей, имевших отношение к событиям, происшедшим 42 года назад, надеюсь получить воспоминания канадца Р. Рэндалла и американца К. Армистеда – участников поисков с американской стороны. Хочу найти людей, которые готовили третий трансарктический перелет, но о которых я пока ничего не знаю. Жив ли, например, радиоинженер С. А. Смирнов, участвовавший вместе с американцами в поисках со стороны Аляски?
В 1974 году мы снимали документальный телефильм «Челюскинская эпопея» и на ледовом разведчике Ил-14 пролетали над теми местами, где сорок лет назад был затерт льдами «Челюскин».
...На горизонте появилось черное пятно. Командир показал на него: подлетаем к острову Колчин. Здесь, у мыса Сердце-Камень, приземлился Леваневский, спеша на помощь челюскинцам.
Он совершил посадку во время «черной пурги» и тем спас знаменитого полярника Георгия Ушакова, американского авиамеханика Клайда Армистеда, да и сам спасся от неминуемой гибели.
Остров стремительно приближался. Уже можно было рассмотреть присыпанную снегом вершину и черную обрывистую стену – это и был мыс Сердце-Камень, от встречи с которым Леваневский чудом увернулся, увидев в последний момент сквозь заледеневшее стекло, сквозь снежную пургу внезапно выросшую черную стену.
Мы облетели вокруг острова, снизились над местом вынужденной посадки Леваневского и прошли, едва не касаясь колесами льда. Октябрьское солнце тускло освещало ледовые нагромождения. Это были последние солнечные дни перед полярной ночью. Маленькое затишье перед резкой сменой погоды.
Пилот улыбнулся, глядя, как мы в открытую форточку кабины снимаем длинный план, который должен был вобрать в себя тревожное настроение, создаваемое неприступным видом каменного острова и ледовых торосов, обращенных острыми гранями к нам...
Позже, когда мы монтировали из старых кинокадров эпизод встречи челюскинцев в Москве, бросилось в глаза сосредоточенное, напряженное выражение лица Леваневского на фоне улыбающихся, ликующих людей. Его никто не встречал – жена с детьми ждала в Полтаве. Неожиданно к нему подошел председатель Правительственной комиссии
В. В. Куйбышев и крепко расцеловал. Тепло поздравляли его и других летчиков, принимавших участие в спасении челюскинцев, И. В. Сталин и другие члены Политбюро. Лицо Леваневского постепенно оттаивало...
Естественно, что Леваневский не мог теперь расстаться с Арктикой и будущий Большой перелет связывал только с Севером.
Из тихой Полтавы Леваневский с семьей переехал в Москву, к месту новой работы – в полярной авиации. Однажды, просматривая газеты, он наткнулся на сообщение: летчик-испытатель М. М. Громов со штурманом И. Т. Спириным и вторым пилотом А. И. Филиным летали непрерывно более трех суток на самолете АНТ-25 и установили мировой рекорд дальности полета по замкнутой кривой: за 75 часов самолет пролетел 12 411 километров.
Это был тот самый самолет, который искал Леваневский. Дальность полета его вполне позволяла перемахнуть через Северный полюс и приземлиться где-нибудь в Канаде или США...
Вскоре Леваневский написал письмо в Политбюро с просьбой разрешить такой полет.
Через некоторое время его вызвали в Кремль. Вернулся он радостным, возбужденным. Рассказывал жене и своему неизменному штурману Виктору Левченко подробности разговора:
– Меня товарищ Орджоникидзе спрашивает: «Сколько же времени будете в полете?» – «Примерно шестьдесят два часа».
– Так это же почти трое суток без сна и за штурвалом!
Один из членов Политбюро заметил:
– В эти часы не только они, но и мы, и весь народ спать не будет!
Через несколько дней начались тренировочные полеты на дальность, в облаках, по приборам. Вторым пилотом был назначен первокурсник Военно-воздушной академии имени Жуковского Георгий Байдуков, известный тогда умением летать «вслепую».
За три месяца требовалось многое переделать и дополнить на самолете АНТ-25, приспособить машину к арктическим условиям.
Врачи, закрепленные за экипажем, предписали строгий режим, диету, ежедневное взвешивание.
Экипаж часто совершал тренировочные полеты до Черного моря и обратно без посадок.
Наконец был назначен день отлета – 3 августа 1935 года – и окончательно сформулировано полетное задание: при благополучном перелете совершить посадку в Сан-Франциско. При малейших признаках аварии поворачивать назад или совершать вынужденную посадку. Всем полярным станциям, а особенно радистам островов Диксон, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа предписывалось непрерывно следить за работой рации самолета Леваневского. В Мурманске наготове стоял гидросамолет полярного летчика В. Махоткина, который мог в случае вынужденной посадки самолета Леваневского между побережьем и Землей Франца-Иосифа сесть рядом и принять экипаж на борт.
Тогда находились скептики, которые говорили: а почему, собственно, самолет должен лететь через Арктику, а не через Западную Европу и Атлантический океан? Им популярно объясняли, что кратчайший путь по воздуху из СССР в Америку, например, в Сан-Франциско, проходит через Арктику – всего 9605 километров. А если лететь через Атлантический океан – около 14 тысяч, через Тихий океан – приблизительно 18 тысяч километров...
Провожать экипаж Леваневского прибыли члены правительства, посол США в СССР, авиаспециалисты, друзья, представители прессы. Было солнечное утро, машина стояла на горке, чтобы увеличить скорость разбега.
Все разом перевели дух, когда перегруженный самолет оторвался от бетонной полосы Щелковского аэродрома.
Самолет смог подняться только на 50 метров и так летел почти час, пока не израсходовал какую-то часть горючего, после чего поднялся немного выше.
Георгий Филиппович Байдуков вспоминает: «Как иногда мгновенно рушатся человеческие надежды... Через несколько часов полета Леваневский подозвал меня и прокричал в ухо:
– Посмотрите, что это за веревочная струя масла вьется на левом крыле?
Действительно, струился довольно мощный поток масла, похожий на непрерывно извивающегося гигантского червя. Внутрь самолета тоже откуда-то попадало масло.
По нашим подсчетам, утечка во много раз превышала допустимый расход масла девятисотсильным мотором АМ-34. Запаса резервного масла должно было хватить, по крайней мере, до берегов Канадской тундры, где можно было приземлиться вблизи жилья, выполнив тем самым главную задачу перелета – преодоление воздушного пространства над центральной частью Арктики и Северным полюсом.
Но штаб перелета слал по радио распоряжения немедленно садиться в Кречевицах, что между Москвой и Ленинградом».
Это был очень драматический момент. Кабина заполнена чадом, трудно дышать, могло наступить отравление угарным газом. Позже врачи сказали, что, если бы полет продолжался еще 10—15 часов, отравления никто бы не избежал. Повернули обратно. Многие аэродромы, лежавшие на пути, под разными предлогами отказывались принимать перегруженный бензином самолет. Сели благополучно.
Вскоре экипаж вызвали в Кремль. Разговор был очень доброжелательный, и командир заметно успокоился. Он сказал, что вся беда в самолете, что у нас нет пока машины, на которой можно перелететь полюс.
Экипажу было предложено поехать в Америку и посмотреть, есть ли у них пригодный для такого перелета самолет. «Я попросил слова и сказал, что у американцев нет ничего похожего на АНТ-25, – вспоминает Георгий Филиппович, – что поездка в Америку будет безуспешна, и я прошу разрешения остаться дома...»
Байдуков хотел вернуться в академию, но судьба распорядилась иначе. Неудача с полетом через полюс поставила в неудобное положение ВВС и авиационную промышленность, и хорошо бы это пятно снять. В результате Байдуков попал летчиком-испытателем на авиационный завод и стал работать с АНТ-25 и другими машинами. Дефект с маслопроводом удалось исправить...
А Леваневский поехал в Америку.
Оказалось, что самолета для трансполярного перелета в Америке действительно нет. Но фирма «Валти» заинтересовала С. А. Леваневского переделанным в «полярный вариант» двухмоторным гидросамолетом. Леваневский решил на этой машине пролететь вдоль Тихоокеанского побережья, пересечь Арктический сектор Канады, перелететь на Аляску, а оттуда уже по известному пути – через Уэллен, мыс Шмидта, Тик-си, Хатангу – в Москву. Вскоре к нему выехал штурман Виктор Левченко. Перелет был большим испытанием, но кончился благополучно. Летчики были торжественно встречены в Москве руководителями партии и правительства, их наградили орденами – «за новые крупные успехи в освоении Северной воздушной трассы».
Но Леваневский понимал, что свершившийся перелет не тот Большой перелет, о котором он мечтал. И Сигизмунд Александрович стал интересоваться новыми самолетами, которые появились за время его отсутствия. Его внимание привлек четырехмоторный самолет конструктора В. Ф. Болховитинова, построенный в ЦАГИ.
Болховитиновский самолет создавался как грузо-пассажирский, имел привлекательные по тем временам данные: развивал скорость 280 километров в час, поднимал 12 тонн груза, потолок его полета равнялся 6 тысячам метров, а дальность – 7 тысячам километров. Дальность была небольшой, поэтому предполагалось лететь через полюс с посадкой на Аляске. На этом самолете летчиками-испытателями Байдуковым и Кастанаевым было установлено несколько мировых рекордов. Тем не менее самолет нуждался в доводке, он был, как говорят летчики, еще «сырой». Поэтому конструктор Болховитинов я приглашенный вторым пилотом Кастанаев продолжали заниматься новой машиной... Штурманом экипажа был неизменный Виктор Левченко, бортмеханиками – опытнейший полярный «волк» Григорий Побежимов (до этого полета он постоянно работал с летчиком Молоковым) и Николай Годовиков. А радистом пригласили Николая Галковского.
Почти все основные тренировки происходили без командира. Леваневский вместе с летчиком Н. Грацианским тем временем облетывал прибывшие из США «летающие лодки», закупленные для работы на грузопассажирских маршрутах. Полеты происходили в Севастопольской бухте. Шел июль, уже свершился чкаловский перелет, уже ушел в трансарктический полет экипаж Михаила Громова, а подготовка к старту болховитиновского самолета затягивалась. Леваневский улетел в Москву, оставив Грацианского заканчивать облеты (Грацианский облетал самолет, выбранный в США Леваневским, и на нем позже полетел на розыски исчезнувшего самолета Леваневского в Арктику, пересек Сибирь, Чукотку, перебрался на Аляску и совершил несколько поисковых полетов к предполагаемому месту катастрофы). Конструктор и экипаж самолета, весь коллектив, готовящий перелет Леваневского, прилагали максимальные усилия, чтобы быстрее завершить подготовку машины, так как во второй половине августа лететь было уже рискованно: синоптики предсказывали резкое ухудшение метеоусловий. Наконец был определен день вылета – 12 августа 1937 года. В Фэрбенкс прилетел метеоролог М. В. Беляков для организации метеосводок экипажу Леваневского.
Губернатор Аляски приказал заготовить горючее для советского самолета. Все население Фэрбенкса собиралось выйти на аэродром встречать русских летчиков.
Отлет из Москвы состоялся в 18 часов 15 минут. Отчеты о старте появились в газетах утром следующего дня. Передовая в «Правде» называлась «Счастливый путь!». В ней говорилось:
«И если фашистские летчики прославили себя такими каннибальскими «подвигами», как разрушение Герники – столицы басков... если летчики императорской Японии «доблестно» и «мужественно» бомбят мирные китайские города; если герои итальянской фашистской авиации «храбро» уничтожали беззащитное население Абиссинии, то наши славные орлы и соколы – Громовы, Чкаловы, Водопьяновы, Молоковы, Леваневские, – показывая всему миру красоту духа советских людей, открывают новые земли, побеждают огромные, доселе неизведанные пространства, несут, на крыльях своих машин осуществление великих замыслов великого народа».
Газета напечатала две большие фотографии – экипаж стоит на фоне своего самолета – спокойные лица, внушительная мощная машина. Далее шли сообщения Правительственной комиссии и первые радиограммы с маршрута. На второй странице «Правды» – репортаж о старте самолета, большая статья Леваневского с картой-схемой маршрута и репортаж Л. Хвата, специального корреспондента газеты из Фэрбенкса. На третьей – статьи штурмана экипажа В. Левченко «Курс на Аляску» и конструктора самолета В. Болховитинова «Как создавался Н-209».
Знал ли экипаж о предстоящих трудностях? Несомненно.
Из шести участников перелета четверо были ветеранами Арктики. Впервые летели на Север второй пилот Николай Кастанаев, но он был основным летчиком-испытателем самолета Н-209 и знал его как никто другой, и радист Николай Галковский, один из лучших радистов ВВС.
В своей статье В. Левченко объективно оценивал трудности самолетовождения в Арктике, объяснял вечерний старт из Москвы необходимостью прилета в Фэрбенкс в дневное время. Экипаж нигде не увидит ночи, так как будет как бы догонять полярный день и солнце. Левченко кратко касался возможной ситуации, если самолету придется лететь на трех моторах. Это «повлечет большие неприятности, ибо сесть в море на сухопутном самолете нельзя – он утонет. Чтобы лететь на трех моторах, необходимо будет слить горючее», – писал он.
Предполагал ли возможность аварии конструктор самолета? В своей статье В. Болховитинов писал, что «повреждение кокового фюзеляжа в одной части не вызывает аварии самолета». Коковый фюзеляж – это скорлупа, не имеющая никаких внутренних растяжек. Конструктор пишет определенно: «Фюзеляж гораздо жестче и потому меньше подвержен деформации».
Наконец, трезво ли оценивал опасность перелета сам Сигизмунд Александрович Леваневский?
Опыт двух предыдущих перелетов показал, что облачность часто достигала высоты более шести тысяч метров. Чтобы избежать обледенения, самолет должен лететь над облаками. Позволяли ли моторы самолета подняться на большую высоту?
В своей статье в «Правде» Леваневский писал:
«Поскольку мы не ставим своей задачей установление рекордов дальности беспосадочного полета, выбор пал на моторы с наддувом. Они хотя и расходуют больше горючего, но обеспечивают возможность полета в более высоких слоях атмосферы. Наивыгоднейшая высота полета с нашими моторами с точки зрения более экономного расходования горючего – от 3 до 4 тысяч метров. Машина Н-209 обладает большой грузоподъемностью: общий полетный вес ее во время старта составит около 35 тонн. При некотором сокращении количества горючего легко можно взять в самолет до 25 пассажиров.
Одно из положительных свойств самолета заключается в том, что при полетном весе в 25 тонн он может лететь на двух крайних моторах. Бортмеханики имеют доступ к моторам, поэтому в полете возможен небольшой ремонт последних. (Это интересная деталь. После драматического сообщения с самолета об отказе правого крайнего мотора через некоторое время пришла радиограмма со словами «все в порядке». Это позволяет предположить, что механики на ходу сумели исправить повреждение. – Ю. С.)