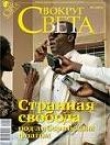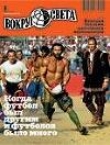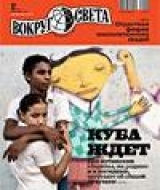
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №12 за 2010 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Невзятая высота

1. Мачта. Поскольку символика башни планетарная, наклон мачты параллелен земной оси. Вписанные в конструкцию простые геометрические тела – куб, пирамида, цилиндр и полусфера – вращаются вокруг своих осей, и это вращение соотносится с вращением Земли. Башня – символ Великой утопии. Она «пронизана ассоциациями, как петербургский воздух в вьюгу снегом» (В. Шкловский).
2. Куб делает один оборот в год. Это зал для законодательного собрания.
3. Пирамида вращается со скоростью одного оборота в месяц и предназначена для правительства земного шара (Хлебников в 1917-м предложил Татлину войти в «Правительство председателей земного шара»).
4. Цилиндр, делающий один оборот в день. Здесь предполагалось разместить информационные бюро, газету, телеграф, радио, антенны которого устремлены ввысь и являются продолжением памятника.
5. Четвертый объем – полусфера, скорость ее вращения один оборот в час. О назначении этого «тела» сведений не осталось, хотя известно, что в башне, кроме помещений для трех властей (законодательной, исполнительной и информационной) предполагалось место и для художников. Ведь башня задумывалась как символ воссоединения человечества, разделенного при постройке Вавилонской башни. Она – мост между небом и землей, архитектурное воплощение мирового древа, опора мироздания, а также жилище мудрецов.
6. На «осях верхнего сферического отрезка» расположен гигантский экран для показа мировых новостей, проекционные фонари для него помещаются в центре информации. «Радио, экран, провода, – писал Пунин, – являясь элементами памятника, могут быть и элементами формы». Высота башни (400 м) кратна земному меридиану (1/100 000). Башня «продолжалась в небо» волнами радиостанций и лучами прожекторов, которые должны были проецировать «световые буквы на облака (это в особенности удобно на севере)».
7. Спираль несущей конструкции («линия движения освобожденного человечества… идеальность, освобожденная от материальной тяги») – символ динамизма. Как и постоянно меняющийся общий вид башни из-за вращения частей. Динамизм призваны были придавать конструкции и «специальные мотоциклы и автомобили одного установленного образца, с маркой памятника», выезжающие и въезжающие в гараж, находящийся в башне, а также электрические подъемники, связывающие объемы. Памятник принципиально – место «наиболее напряженного движения: вас должно механически нести вверх, вниз, увлекать против вашей воли...» Владимир Татлин
1885 – Родился в Москве в семье инженера.
1902–1910 – Учеба в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, Одесском училище торгового мореплавания и Пензенском художественном училище.
1914 – Создание новой изобразительной формы – контррельефа.
1919–1920 – Работа над проектом памятника 3-му Интернационалу, башней Татлина. 1923 – Выступает как режиссер, сценограф и исполнитель главной роли в постановке одного из главных произведений русского авангарда, драмы Велимира Хлебникова «Зангези». Начало работы над проектом «Летатлин» – махолета, который так и не полетел, но остался в истории как прекрасное произведение искусства.
1930–1950-е – Занимается сценографией и станковой живописью.
1953 – Умер в Москве.
Это был прорыв в искусстве – естественное продолжение столь же революционного направления контррельефов, которое художник стал развивать после поездки в Париж и посещения там ателье Пикассо. Эти композиции из дерева, металла, картона и других самых неожиданных материалов Татлин выставил в своей московской мастерской в 1914 году. Они нарушали все каноны и фактически переворачивали представления об искусстве. Башня – следующий шаг в том же направлении.
Историк искусства Николай Пунин, автор книги «Татлин», наиболее полного исследования творчества художника, писал: «Основная идея памятника сложилась на основе органического синтеза принципов архитектурных, скульптурных и живописных и должна дать новый тип монументальных сооружений, соединяющих в себе чисто творческую форму с формой утилитарной… Вся форма колеблется, как стальная змея, сдержанная и организованная одним общим движением всех частей – подняться над землей. Преодолеть материю, силу притяжения хочет форма… форма ищет выхода по самым упругим и бегущим линиям, какие только знает мир – по спиралям».
Идея гигантского, высотой 400 м, памятника Октябрьской революции (потом Коминтерну) в Петербурге возникла у Татлина в начале 1919 года. Отдел ИЗО Наркмпроса поддержал этот проект. Татлин с помощниками начали строить модель в мастерской бывшей Академии художеств в Петрограде. Материалом служили дерево, фанера, шпагат, жесть и металлический крепеж. Там же в мастерской 8 ноября 1920 года открылась выставка модели (ее высота, по-видимому, составляла около 5 м) и чертежей к ней. Башня стояла на круглом подиуме, покрытом бумагой. Внутренние прозрачные формы приводились в движение с помощью ручки, расположенной под подиумом. В декабре 1920 года модель была выставлена в Москве в Доме союзов, оттуда ее вроде бы передали в Третьяковскую галерею, где она и пропала. Осталось несколько фотографий. В 1924 году Татлину предложили построить модель башни для советского раздела на выставке декоративных искусств в Париже. К 1 февраля 1925 года работа была закончена, но сопровождать ее в Париж Татлина не пустили. Потом модель передали в Русский музей, и Татлин до конца жизни считал, что там она и находится, но и эта модель была утрачена. В том же 1925-м для первомайской демонстрации в Ленинграде создается третий упрощенный вариант модели памятника – «изоустановка». Форма ее не была завершена, верх башни оставили «открытым», там крепились плакаты. Эта модель тоже не сохранилась.
Велимир Хлебников пророчески писал за четыре года до создания башни: «Татлин, тайновидец лопастей / И винта певец суровый, / Из отряда солнцеловов./ Паутинный дол снастей / Он железною подковой / Рукой мертвой завязал. / В тайновиденье щипцы. / Смотрят, что он показал, / Онемевшие слепцы. / Так неслыханны и вещи / Жестяные кистью вещи».
Символична и судьба башни: не сохранилось моделей и чертежей, только фотографии, по которым сделано несколько реконструкций. Представленная на следующем развороте выставлена в Стокгольмском музее современного искусства.
Екатерина Яшанова
Акита ину

Типичная акита ину классических японских статей и окраса. Фото: CORBIS/FOTO SA
В конце ноября 1923 года в предместье японского городка Одате (префектура Акита) родился щенок акита ину. Строго говоря, это потом он стал щенком именно этой породы, а в то время о ее названии в Японии мало кто задумывался. Вскоре щенка отправили за тысячу километров в токийский пригород Сибуя, к новому хозяину – профессору Токийского императорского университета Эйсабуро Уэно. Новый питомец был его восьмой собакой и получил имя Хачи, или Хачико (по-японски «хачи» обозначает число восемь).
Жили Уэно и Хачико душа в душу. Утром собака провожала профессора до железнодорожной станции Сибуя, с которой он отправлялся на работу, вечером, ровно в пять часов, там же и встречала, а выходные и праздники они проводили в обществе друг друга. Но 21 мая 1925 года Эйсабуро Уэно умер прямо на работе от кровоизлияния в мозг. Рассказывают, что вечером, когда тело профессора доставили в Сибуя, обеспокоенный непонятными событиями Хачико, разбив стеклянную дверь, ворвался в дом и всю ночь пролежал в гостиной у ног умершего хозяина.
После похорон родственники Эйсабуро Уэно, жившие на восточной окраине Токио, в Асакусе, забрали Хачико. Но пес постоянно сбегал и возвращался к старому дому в другом конце города, и спустя год его отдали бывшему садовнику профессора Уэно в Сибуя. Верная расписанию, заведенному еще при жизни хозяина, собака каждый день выходила на улицу и, заглянув в старый хозяйский дом, следовала обычным путем на станцию. Хачико подолгу и с напряжением всматривался в лица и фигуры пассажиров, и только голод заставлял его оставить свой пост и вернуться в дом садовника.
Множество людей, посещавших станцию, восхищались преданностью собаки и не скупились на похвалы ей в своих рассказах. Молва ширилась, и в сентябре 1932 года одна из ведущих японских газет, Asahi Shimbun, напечатала очерк о судьбе Хачико. Несколько статей о преданной собаке со станции Сибуя было опубликовано в специализированном журнале по собаководству в Японии. Благодаря этим изданиям история о преданной собаке получила широкую огласку в стране и даже за ее пределами. Вдохновленный историей о преданности Хачико, известный скульптор Тэру Андо отлил бронзовую скульптуру собаки, которая была торжественно установлена 21 апреля 1934 года перед билетными кассами станции Сибуя. На церемонии присутствовали внуки профессора Уэно и сам виновник торжества – Хачико.

Монументальное панно «Акита ину» на здании железнодорожной станции Сибуя. Фото: HG/MAGNUM PHOTOS/AGENCY.PHOTOGRAPHER.RU
Почти год спустя, 8 марта 1935 года, Хачико умер – прямо на станции. Ему было одиннадцать лет, почти десять из которых он провел в ожидании хозяина. Прах верного пса похоронили в могиле Эйсабуро Уэно, а из шкуры сделали чучело для этнографической экспозиции Национального музея в Токио. К этому времени в Японии уже появились первые признаки субкультуры, связанной с именем Хачико. Ее популяризации и распространению способствовали многочисленные газетные статьи, рассказы и стихи, а в 1937 году появился даже гимн «Верный пес Хачико».
Почти одновременно с историей Хачико формировалась и история японской породы собак – акита. В конце 1920-х годов в Японии появились два кинологических общества по сохранению породы, а в 1931-м распоряжением Министерства сельского хозяйства ее внесли в список «Памятников природы». Можно без преувеличения сказать, что и своей популярностью во всем мире акиты в значительной мере обязаны Хачико. В 1937 году американка Хелен Келлер, находившаяся с гуманитарной миссией в Японии и Маньчжурии, во время посещения префектуры Акита попросила показать ей собаку породы акита ину. Двухмесячный щенок Камикадзе настолько поразил Хелен, что она немедленно пожелала его приобрести, а в итоге получила его в подарок. К сожалению, во время морского путешествия в Америку Камикадзе умер, но, узнав об этом, японцы немедленно выслали госпоже Келлер однопометного брата Камикадзе – Кэндзана. Он благополучно прибыл в Америку и стал первым представителем колонии акита ину в США.
В апреле 1944 года бронзовая скульптура Хачико, как и многие другие памятники, по решению правительства была конфискована для военных нужд. Однако после окончания Второй мировой войны, в 1948 году, копия памятника, сделанная Такэси Андо, сыном автора оригинальной скульптуры, была водружена на прежнее место.
Вышедший в 1987 году на экраны Японии художественный фильм Hachikō Monogatari («История Хачико»), главную роль в котором исполнил известный актер Тацуя Накадаи, вызвал новый всплеск интереса к теме преданной собаки. Лента, представлявшая собой самое полное жизнеописание Хачико, с успехом прошла в Японии и за ее пределами: кассовые сборы только в Стране восходящего солнца превысили 4 миллиарда иен (почти 50 миллионов долларов).
Волна любви к Хачико захлестнула почти все сферы жизни японцев. Не без помощи правительственных органов в свет вышли публикации: «Хачико в государственной политике», «Хачико и патриотизм», «Чему мы научились у верного пса Хачико». Почтовое ведомство выпустило серию марок, службы коммунального хозяйства – канализационные люки с тематикой «Хачико» и «Акита ину», а дорожники отметились тротуарной плиткой с изображением Хачико и автобусными остановками, в очертаниях которых угадывались контуры акиты. Не остался в стороне и туристический бизнес: в Сибуя открылся экскурсионный автобусный маршрут «По местам скитания Хачико». И наконец, образ Хачико был канонизирован: главной чертой, выделяющей его из общей массы акит, отныне стало подломленное левое ухо – память о ране, еще в юности полученной в драке верным псом профессора Эйсабуро Уэно.
Опоздавшая верность
Вероятно, первая история об акита ину – это случай с собакой Сиро, произошедший в 1604 году. Согласно легенде, охотник по имени Садароку вместе со своей белой собакой Сиро отправился в горы, забыв дома обязательную лицензию на охоту. Он добыл оленя, но был застигнут егерями и препровожден в тюрьму, а его пес помчался домой. Увидев собаку одну, жена охотника поняла, что случилась беда. Обнаружив забытую мужем лицензию, она привязала ее к ошейнику и отправила Сиро обратно, но пес опоздал: Садароку был казнен. Верность и сообразительность Сиро так впечатлили местных жителей, что после смерти пса они соорудили для него гробницу.
Шесть фактов об акита ину
1. По данным археологов, история собак в Японии насчитывает более 8000 лет, но не существует ни одного документального подтверждения существования особой субкультуры собак породы акита вплоть до конца XIX века.
2. В конце XIX – начале XX века собаки, населяющие северные регионы Японии (в том числе префектуру Акита), подверглись смешению с европейскими породами – догами, мастифами, пойнтерами.
3. В конце 1920-х годов в Японии появились две кинологические организации – AKIHO (Общество по защите и сохранению акита ину, 1927 год) и NIPPO (Общество по защите и сохранению японских собак, 1928 год), в задачи которых входило воссоздание породы акита.
4. Во время Второй мировой войны значительная часть поголовья акита была истреблена. Тем не менее на первой послевоенной выставке AKIHO, прошедшей в ноябре 1947 года, были выставлены 22 собаки.
5. После войны в результате конкурентной борьбы между AKIHO и NIPPO порода разделилась на две части. Одна впоследствии была названа американской акитой (большой японской собакой), вторая оставила за собой название японской акиты (акита ину).
6. В конце 1960-х – начале 1970-х годов в результате селекционной работы имидж акита ину был сильно видоизменен: черная маска на морде в Японии была признана дисквалифицирующим пороком, а главным окрасом стал рыжий с белой маской. Экстерьер же американской акиты остался практически без изменения и близок к типу акита начала 1950-х годов.
Леонид Третьяков
Куба напротив Кубы

Флаги Кубы реют на улицах американского города Майами, давно ставшего по своему стилю и сути кубинским
«Остров свободы» и Майами, где осела в эмиграции шестая часть кубинцев, разделяют чуть больше полутора сотен километров Флоридского пролива и полвека непримиримой взаимной вражды. А связывают 50 лет непреодолимого взаимного притяжения
Герой Плайя-Хирон, любимец Фиделя Кастро, генерал кубинских ВВС Рафаэль дель Пино оказался в Майами в 1987 году. В один прекрасный день он пришел на гаванский аэродром, «запряг» свой боевой самолет, усадил в него семью – и был таков. Благо от Кубы до самой близкой к ней части Флориды, островка Ки-Уэст, всего 90 миль – максимум полчаса лета, никто и глазом моргнуть не успел.
Герой кубинской революции 1959 года команданте Убер Матос, «человек номер четыре» в той, революционной, иерархии (первые трое – братья Кастро, Фидель и Рауль, и Че Гевара), оказался в Майами в 1979-м – сразу после того, как был освобожден из кубинской тюрьмы. В тюрьме он провел 20 лет, от звонка до звонка – согласно приговору революционного трибунала, за то, что одним из первых, еще осенью 1959 года, выразил несогласие с Фиделем, когда узнал, что тот вдруг стал союзником коммунистической Москвы и собирается строить на Кубе социализм.
Не команданте, не революционер и не герой, Луис Александер оказался в Майами 6 января 1959 года – через пять дней после того, как боевые колонны Движения 26 июля вошли в Гавану и власть перешла в руки повстанцев, возглавляемых Фиделем Кастро. Еще сам Кастро не обнаружил диктаторских амбиций и тем паче намерений строить социализм, но наиболее проницательные из числа национальной элиты и среднего класса поняли, что их уже списали в «бывшие». И надо уносить ноги, пока не поставили к стенке. Среди них оказался и Луис Александер, которому тогда только стукнуло 22 года. С тех пор на Кубе он больше не был.
Такие вот разные и одновременно похожие судьбы. Точнее, разные в первой своей хронологической половине и похожие во второй. Потому что эти трое с тех пор, как все они оказались в Майами, живут одинаковой в чем-то жизнью. Ее смысл составляет ожидание момента, когда режим Кастро рухнет и можно будет вернуться на родину. Много лет тешат себя надеждой, что следующее Рождество справят в Гаване, или в Сантьяго, или в Пинар-дель-Рио – зависит от того, какая у кого малая родина…
Родственники за границей
Я назвал троих, но таких в Майами более полутора миллионов. Я имею в виду кубинцев-эмигрантов. Население Кубы – около 11 миллионов человек. Таких масштабов исхода, при которых шестая часть нации оказалась вытолкнута в эмиграцию (несколько сотен тысяч кубинцев рассеяны еще по другим городам и весям США, Латинской Америки, Европы), современная история больше не знает. По сути дела, кубинцы – это разделенная нация, почти как немцы во времена существования ГДР и ФРГ, как корейцы – северные и южные – по сей день. Различие только в том, что нация разделена, а территория нет. Кубинцы в Майами, понятное дело, живут на чужой земле. Они ее, впрочем, давно сделали своей.

Обильная наглядная агитация, прославляющая революцию 1959 года и ее героев, призвана если не прикрыть, то скрасить убожество современной кубинской действительности
Не в географическом, конечно, и не в политическом смысле, а, так сказать, по существу. Пять десятилетий назад, когда они начали сюда стекаться, первоначально, уехав с Кубы в Штаты, бросали якорь кто где, но вскоре поняли все преимущества Майами, главным из которых был сходный с Кубой климат, – это место было глубокой провинцией: военная база, захудалый городок, сельскохозяйственные плантации, индейские резервации и раскинувшаяся на сотни гектаров знаменитая болотная трясина Эверглейдс.
Мало того, их здесь никто не ждал. Мой друг, приехавший сюда в самом начале 1960-х, вспоминает: первое, что он увидел в Майами, был красовавшийся у входа в парк плакат – «Четвероногим домашним питомцам, неграм, мексиканцам и кубинцам вход воспрещен».
Сегодня кубинцы, то есть, конечно, американские кубинцы, – полноправные хозяева Майами. Но не потому, что они заполонили его, подобно арабам, наводнившим в наши дни Испанию и Францию. Майами превратился в крупный современный мегаполис, в деловой, финансовый, рекреационный центр Соединенных Штатов во многом благодаря предприимчивости кубинцев-эмигрантов. Сегодня английский язык вы услышите здесь гораздо реже, чем испанский. Да что там: без английского в Майами жить можно, чему доказательством десятки тысяч кубинцев, не знающих по-английски ни слова (что, впрочем, не делает им чести). Как прожить здесь без испанского – не представляю.
И не подумайте, что это эмигрантское нашествие произошло вопреки воле федеральных властей. Ровно наоборот: все так получилось именно благодаря доброй воле, проявленной администрацией Кеннеди и с тех пор ни разу не поставленной под сомнение ни одной из последующих девяти администраций. Американский закон, принятый вскоре после прихода Кастро к власти на Кубе, гласит, что любой кубинец, ступивший хотя бы одной ногой на берег Соединенных Штатов, автоматически получает право на политическое убежище в этой стране. Закон был принят в знак своего рода извинения перед кубинцами, которых Штаты не смогли освободить от диктатуры Кастро в апреле 1961 года. Организовав тогда высадку добровольческих соединений кубинских эмигрантов на Плайя-Хирон, Соединенные Штаты, однако, не поддержали их силами регулярной армии, и попытка свергнуть Кастро захлебнулась.
Такого «режима благоприятствования» не знала ни одна эмиграция в истории. И немудрено, что кубинцы в Майами столь успешно развернулись, проявив лучшие черты национального характера: энергию, предприимчивость, оптимизм. Этот «режим благоприятствования», впрочем, не раз доставлял Штатам трудности, искусно спровоцированные кубинской властью. Например, в апреле 1980 года. Тогда Кастро в ответ на призыв администрации Картера разрешить выезд из страны тем, кто хотел ее покинуть по политическим мотивам, ответил согласием, а затем коварно набил присланные Соединенными Штатами для политэмигрантов корабли выпущенными из тюрем уголовниками. И в дальнейшем он еще несколько раз провоцировал похожие кризисы, но так и не заставил Штаты отступиться от «режима благоприятствования» для кубинцев, которым жить на «Острове свободы» стало невмоготу. Тем более что знаменитый американский «плавильный котел» за свою историю имел опыт переплавки и перековки самой пестрой публики, в том числе и уголовников всех мастей.
Вот в результате и получилось, что в Штатах оказалась шестая часть кубинской нации. И даже если термин «разделенная нация» не вполне корректен юридически, то о «разделенных семьях» с уверенностью можно говорить во всех смыслах. Таких семей на Кубе подавляющее большинство, почти у всех на острове есть «родственники за границей», в Майами. Причем их число непрерывно растет, так как эмиграция с острова любыми способами, легальными и нелегальными, продолжается.

Пляж в Майами-Бич – «реинкарнация» утраченного кубинскими эмигрантами знаменитого Варадеро
Куба, которую они потеряли
При этом кубинцы в Майами не просто живут надеждой на скорое возвращение на родину. Эта-то надежда у многих не то чтобы призрачная, а, скорее, романтически-умозрительная: сколько их вернется навсегда, когда (и если) падет режим Кастро, это еще большой вопрос. Жизнь выстроена здесь, в Штатах, здесь дом, здесь родились дети и внуки – одним словом, здесь все. А там, на острове, остались одни воспоминания. И неустроенная, разрушенная страна, которую предстоит поднимать, отстраивать заново. Перебираться в нее из комфортного Майами – это будет своего рода поступок, если не жизненный подвиг. И словно понимая, что Куба как дом утрачена навсегда и что даже если Кастро и падет наконец до наступления ближайшего Рождества, все равно они приедут праздновать все эти события на Кубу гостями, а не хозяевами, а здесь, в Майами, кубинцы как будто клонировали ту родину, которую, как известно, нельзя унести на подошвах башмаков. По максимуму воссоздали привычную для себя жизнь, где не только язык общения испанский, но и все традиции, праздники, стиль обустройства дома, всей жизни в целом, еда, напитки, шутки – в общем, все, что возможно, все кубинское. Даже американский доллар здесь чаще называют «песо» и любят вспоминать, что до «исторического материализма», до кастровской революции, кубинский песо был твердой валютой, имел хождение в Соединенных Штатах и стоил 1,03 доллара, причем этот курс был незыблемым с каких-то там мохнатых 1920-х вплоть до 1959 года.

Старая Гавана. Очень старая. Осыпающаяся и разваливающаяся на глазах
Причем кубинское в Майами – это часто такое кубинское, которого на самой Кубе, обнищавшей и опростившейся, давно уже и нет. В центре Майами целый квартал, который называется Pequena Habana, Маленькая Гавана. Здесь улицы носят названия гаванских, здесь скопление ресторанов в чисто кубинском стиле и сеть магазинов, торгующих традиционными кубинскими товарами и сувенирами (произведенными, впрочем, в Майами – торговли с Кубой у Штатов, как известно , нет, и на территорию страны нельзя ввезти даже бутылку кубинского рома или гаванскую сигару: тебя строго допрашивают на таможне Майами насчет рома и сигар, словно это оружие или наркотики).
В ресторан «Версаль» в субботний полдень приходят выкурить в баре «гавану» (откуда только, черт побери, они ее берут?), пропустить стаканчик мохито (приготовленного опять же на неизвестно откуда взявшемся кубинском роме, а не на каком-нибудь отвратительном ямайском), пообедать, а после обеда поиграть в домино пожилые господа в светлых чесучовых костюмах-тройках, штиблетах в тон костюмам и соломенных шляпах. Кто не в тройке, тот – уступка жаре – в белоснежной, искусно расшитой гуябере – традиционной кубинской рубашке навыпуск.
Ни костюмов, ни шляп, ни лиц таких на Кубе давно днем с огнем не сыщешь. Нечто похожее вы могли видеть в фильме Роберта Редфорда «Гавана», или в «Крестном отце», или в «Лице со шрамом» – голливудских лент, где действие происходит на Кубе 1950-х годов, хватает. Да-да, это те самые кубинцы образца второй половины 1950-х, сохраняющие и с гордостью несущие на своем челе отпечаток прежней, буржуазной Кубы, которую революция Фиделя Кастро безжалостно разрушила, уравняв всех в правах и в нищете.

Юная участница факельного шествия. Уличные пионерские парады остаются обязательным элементом системы воспитания кубинских школьников
В магазинах, торгующих кубинскими сувенирами, книгами и музыкой, вы не найдете дисков с записями «Ван-Вана», Сильвио Родригеса, Пабло Миланеса или кого-либо еще из современных кубинских исполнителей. Здесь только дореволюционные звезды: Бени Море, Селия Крус, Ла Лупе… На карте Кубы, которую вы здесь купите, страна поделена не на 15 провинций, как на самом деле, а на 40 с лишним: таково было ее административное деление до 1959 года. Из всей печатной продукции, выпущенной на Кубе после революции, на полках стоит лишь подшивка журнала «Боэмия» за первую половину 1959 года (вернее, ее факсимильное воспроизведение, конечно). В этих номерах печатались первые выступления Фиделя Кастро после его прихода к власти: он заявлял в них, что у кубинской национально-освободительной революции нет и никогда не будет ничего общего с коммунистическими диктатурами СССР и Восточной Европы, держащими свои народы в застенках и утопившими в крови попытку народного восстания в Венгрии (тогда эти события были у всех на слуху).
Рядом с этим «историческим компроматом» на Кастро на полке стоит телефонный справочник по абонентам Гаваны и других кубинских городов… за 1958 год. Опять же, конечно, не букинистическое издание, а вновь напечатанное факсимильным способом. Это не просто знак ностальгии – это символ того, что для кубинского Майами Кубы начиная с 1959 года просто не существует. В упор Майами эту Кубу не видит.
Конечно, эти зарисовки, в которых, впрочем, нет ни малейшего преувеличения, сами по себе отражают некую крайность. В чесучовых костюмах здесь ходят лишь немногие, из числа людей старшего поколения, музыку большинство майамских кубинцев слушают современную и на Кубу родственникам звонят по мобильным телефонам, не прибегая к помощи справочника 1958 года.
Но тем не менее эти крайности лишь концентрированно, до карикатурности выражают суть общего мироощущения. Для кубинской общины Майами все, что связано с именем Кастро, оценивается только со знаком минус: никаких достижений, одни утраты, потери, разрушения. А так как с именем Кастро связано все, что происходит на Кубе в течение последних пятидесяти с лишним лет и само оно давно стало синонимом географического понятия «Куба», то нет для кубинцев из Майами и Кубы после 1959 года. Их Куба – это страна, которая существовала до Кастро. Все, что было и есть после, – ад, наваждение, страшный сон, который вот-вот кончится. Однако он никак не кончается.
Было бы, конечно, преувеличением сказать, что в воздухе Майами разлито вот это ощущение остановившегося времени. Жизнь Майами пестра и динамична, и современные ритмы и стиль набережной Оушн-Драйв имеют мало общего с похожей на искусную стилизацию жизнью Маленькой Гаваны. Но если мы говорим о «кубинском Майами», то его квинтэссенция именно здесь, за столиками «Версаля», среди этих стариков с подбритыми узкой ниточкой по латиноамериканской моде 1950-х годов усиками, мусолящих свои сигары и спорящих, дотянет ли режим Кастро до ближайшего Рождества или рухнет, даже не дожив до Пасхи. Насколько за годы этих споров и прогнозов поредели ряды майамских пикейных жилетов, говорить, думаю, не стоит, время безжалостно. Хотя до сих пор среди них немало людей, кто партизанил вместе с Фиделем в горах Сьерра-Маэстра или, наоборот, сражался против него в рядах армии Батисты. Но и Фидель – долгожитель будь здоров. Главное, не просто физический, но и политический. Он пережил – политически – десятерых президентов Соединенных Штатов (а шестерых из них уже и физически). Каждый из них приходил в Белый дом с обещанием, что при нем режим Кастро рухнет. Не рухнул.

Все вокруг разваливается, но в святая святых – Музее революции в Гаване – поддерживаются неизменные чистота и порядок
Нечудесное воскресение
И рухнет ли когда-нибудь – вопрос. Этим вопросом задались, думаю, даже самые завзятые оптимисты из Майами после того, как в июле этого года 83-летний Фидель вновь появился на публике и как ни в чем не бывало принялся руководить страной, высказываясь по всем вопросам внутренней и международной политики и ввергая наблюдателей в шок резкостью и категоричностью оценок. Словно и не было этих четырех последних лет, на протяжении которых все лишь гадали: куда делся Кастро, жив он или мертв?
Четыре года назад, в июле 2006-го, он внезапно тяжело заболел, ушел в отставку со всех своих постов, передав всю полноту власти в руки младшего брата, Рауля. Он не выходил на люди, изредка появлявшиеся фотографии в больничной палате с навещавшими его «идейно близкими» друзьями – Уго Чавесом и еще двумя-тремя левацки настроенными латиноамериканскими лидерами – не столько развеивали слухи о том, что Кастро давно нет в живых, сколько на них работали. Говорили о двойнике, а то и вовсе о фотомонтаже… Регулярно появлявшиеся в газете «Гранма» колонки за подписью Фиделя тоже вряд ли могли кого-нибудь убедить в том, что он жив-здоров. Ну кто мог поверить, что кубинский лидер, никогда прежде не бравшийся за перо, на девятом десятке вдруг стал строчить, как записной журналист?
Во всяком случае, никто и предположить не мог, что Фидель вновь вернется к активной публичной жизни. А он взял и «воскрес», физически и духовно. Было в его июльском явлении, право же, что-то почти инфернальное. И вместе с тем что-то почти комическое: вспомнился старый французский фильм «Замороженный». Фидель появился после четырехлетней отлучки – старенький, слабенький, одетый не в знаменитый френч «верде оливо», а в ковбойку и спортивный костюм. С поредевшей клочковатой бородой и лицом, усеянным «пятнами вечности», как назвал это старческое нарушение пигментации кто-то, кажется, Валентин Катаев. В общем, мало похожий на того железного команданте, который на протяжении полувека успел намозолить глаза всему миру. Но тем не менее не оставляющий сомнений, что это все-таки Фидель – агрессивный, никогда не сомневающийся в своей правоте и в том, что не в ногу шагает не он, а весь остальной мир.