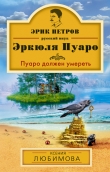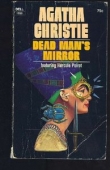Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
В такое переходное время и оказались на берегу Озера Бурцен и Декамповерде. Они уловили последние обрывки мыслей Озера, сообщили о них на форстанцию и решили продолжить наблюдения. Астронавты пали жертвами, но не инопланетного интеллекта, а уже бездумного, алчного хищника.
Санкин и Саади застали предшествовавший состоянию Разума пограничный период Мегеры. Озеро переходило из хищной стадии в разумную. И если бы не твердая тяжелая рука Саади, в последний момент удержавшая Санкина от непоправимого шага, жертвой непонимания на сей раз мог стать мыслящий представитель чужой планеты.
– Я помирился с Саади,– сказал Алексей Таламяну.– Он больше не обижается...
– Это объяснимо,– хмыкнул редактор.– Набилю Саади воздали должное все представители рода человеческого... Но как вы собираетесь объясняться с остальными?
– Кто же остальные? – изумился Алексей. О деталях его стихийного расследования действительно знали только двое: Саади – но с ним вопрос уже улажен, и Таламян, которому исполнительный форстанционный кибер дал гиперграмму, не дождавшись возвращения Санкина к назначенному часу. Когда после всех событий этого дня он попал на станцию и вспомнил о приказе, его «детективная» версия со всеми расписанными им красочными подробностями уже ушла на Пальмиру. Алексей хотел послать вдогонку опровержение, но аварийный флашер был уже использован.
– Ладно, товарищ Санкин,– сказал Таламян, меняя гнев на милость.– Думаю, у вас хватит мужества извиниться перед всеми людьми, которых вы незаслуженно обидели. Это люди нашего, двадцать третьего века, а вы, Алексей, надумали их страсти мерить на детективный аршин трехсотлетней давности...
На сердце у Санкина полегчало. Алексей шагнул к двери, но редактор остановил его.
– Алеша, одна деталь в этой истории мне так и непонятна. Почему все-таки на Бурцене и Декамповерде не было шлемов? Озеро, каким бы хищным оно ни было тогда, сорвать шлемы и пробить защиту костюмов не могло. Но если не Озеро и не кто-либо из членов экспедиции, то что вынудило астронавтов к этому? Не сами же они действительно открылись! Или это так и останется для нас загадкой века?
– Хочешь, Рафик, еще одну версию? Думаю, безошибочную,– осмелел Санкин.
– Ну-ну? – заинтересованно вскинул брови Таламян.
– Бурцен и Анита были влюблены друг в друга, ты знаешь?
– Но при чем здесь это?
– А при том! Никто их не вынуждал отключать защиту костюмов, они сняли шлемы сами и... увлеклись, вовремя не заблокировали защиту от пси-излучения.
– Да зачем, зачем все-таки им понадобилось снимать шлемы, ты не ответил.
– Затем, товарищ Таламян,– ответил Алексей, посмотрев в окно,– что влюбленные во все времена обязательно целуются. А делать это в шлемах... довольно неудобно.
Таламян засмеялся, а Санкин вышел из кабинета и, не в силах более сдерживать свои чувства, побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.
Эхо Кугитанга

Окончание. Начало в № 2.
Верхняя галерея
С трудом преодолевая каменные завалы, наш бортовой «уазик» взобрался на перевал. Наконец перед нами развернулась унылая панорама выжженного солнцем горного плато. Неописуемая тряска сменилась плавным покачиванием. Мы ехали между пологих песчаных всхолмлений в направлении одиноко стоящего грузовика.
– Прибыли,– сказал Любин, выходя из машины.
Тулеген, Ахмедака и я послушно вышли за ним. В лагере никого не было, кроме водителя экспедиционного ЗИЛа. Куда ушли археологи, спросить у профессора не успел: он размашисто зашагал вперед без дороги. Отойдя метров на двести от нас, Василий Прокофьевич вдруг остановился, словно раздумывая, куда идти дальше.
Поравнявшись с ним, я на мгновение застыл, пораженный неожиданным зрелищем. Низкогорное пустынное плато рассекала прямо под ногами рваная щель. Огромные валуны на дне каньона казались сверху не крупнее речной гальки, а вросшие в камни деревца арчи и фисташки я поначалу принял за чахлые кустики верблюжьей колючки, вроде той, что цеплялась за наши ботинки.
– Этот утес называется «Зухра качды»,– едва донесся голос Ахмеда-аки, хотя стоял он совсем рядом.
– Зухра – имя девушки, качды – значит «упала»,– перевел Тулеген.
– Кто же эта Зухра? Реальный человек? – заинтересовался археолог.– Она сорвалась или бросилась с обрыва?
– Никто не знает...– пожал плечами директор лесомелиоративной станции.– Помнится, так называли эту скалу в моем родном кишлаке Базар-тепе. А легенду никто не помнит. Видно, давно было...
На крутом спуске мы обошли несколько колец змей, гревшихся на осеннем солнце, вспугнули стайку горных куропаток – кекликов. Еще несколько метров вниз, и над нашей головой нависли серые скалы.
Путь к пещере по каменным карнизам занял больше часа. Поднялись на противоположную сторону каньона, прошли дальше, ориентируясь на одинокое фисташковое деревце, и на склоне другого узкого ущелья заметили людей в оранжевых касках.
Не занятые на спуске и страховке спелеологи и ожидающие сообщений снизу археологи сидели у входа в пещеру.
– Разведочная группа поднимается,– доложил руководитель палеолитического отряда научный сотрудник института истории Академии наук Туркменской ССР Иминджан Масимов, консультировавший спелеологов перед спуском.
Любин кивнул:
– Хорошо. Осмотрим пока подходы к провалам.
Мы ступили под каменный свод. Передняя часть пещеры площадью около тридцати квадратных метров довольно хорошо освещалась дневным светом. Вязкая пыль покрывала пол. Но, должно быть, раньше тут обитали люди, и очаг был – шероховатые стены почернели от копоти.
– Такие пещеры и сейчас нередко используют чабаны,– заметил Ахмед-ака Авлякулов.– Здесь укрываются от ливней или «афганца», иногда даже загоняют под каменные козырьки овец. Кое-где прячут в пещерах и овечьи желудки, наполненные маслом: продукты при таком традиционном способе хранения долго не портятся. Обычно дорогу к этим своеобразным погребам пастухи тщательно скрывают. Быть может, поэтому никто из посторонних и не знал об этом убежище.
Профессор очертил шанцевой лопаткой квадрат посередине «зала».
– Здесь сделаем первый шурф,– сказал он помощникам.– Второй заложим по другую сторону лаза, у колодца.
– А как же клещи? – спросил кто-то из темноты.
Ахмед-ака наклонился, разглядывая в луче фонарика шевелящуюся пыль.
– Это не клещи,– сказал он, распрямившись.– Это, видимо, паразиты дикобраза. Здесь когда-то было его гнездо. Укусы насекомых болезненны, но, конечно, не смертельны для человека. Однако советую не забывать о мерах предосторожности.
Поколебавшись, все двинулись в глубь верхней галереи, где тускло светились шахтерские лампочки спелеологов, завершавших предварительное обследование карстового колодца. Расширяющийся проход слегка заворачивал влево.
– Внимание,– предупредил из мрака чей-то голос,– через полтора метра – первый провал...
Пещера подстерегала неосторожных
Пока выбравшиеся наверх спелеоразведчики освобождались от снаряжения, мы спустились в каньон и разожгли костер. Когда все расселись полукругом возле огня, Леонид Петренко рассказал о том, что произошло до нашего приезда. Еще перед вылетом из Красноярска спелеологи старались предусмотреть каждую мелочь. Ведь на этот раз им предстояло работать в Кугитанге с туркменскими археологами. Сорвать экспедицию в загадочную пещеру из-за какого-нибудь мелочного упущения было бы обидно.
Они встретились с учеными возле известного на всю округу сероводородного источника Кайнар-баба. Оттуда две грузовые машины перекинули экспедиционное снаряжение поближе к пещере, к краю большого каньона. Это произошло вчера днем.
– Мы выбрали удобный склон, расчистили его от камней и закрепили трос,– продолжал рассказывать Петренко.– По канатной дороге переправили в ущелье три тонны груза. Палатки решили ставить внизу – здесь не такой сильный ветер, как на горном плато. Рано утром все отправились к пещере. Зная по первому спуску, что обычные скальные крючья, какие применяют альпинисты, не будут надежной опорой для троса, мы забили в рыхлый пылевой пласт специально для этого случая откованные полуметровые штыри. Сегодня в провал спускались те, кто уже побывал в нижней полости два года назад. Их главной задачей было прочистить шахты и приготовить все для спуска археологов.
Леонид вдруг замолчал, задумчиво глядя на языки пламени, пожиравшего сухие колючки.
– Да, не все получилось так, как предполагали,– поддержал разговор Иминджан Масимов.– Спускавшийся первым тянул за собой телефонный кабель, сообщая наверх обо всем, что видел и ощущал. Он погружался не спеша, как бы нащупывая наиболее безопасный путь, и мы, принимавшие его сообщения, могли представить работу под землей во всей сложности. Вертикальные, слегка изогнутые спиралью ходы с карнизами и неустойчивыми камнями пройти было трудно даже такому опытному спортсмену-скалолазу, как Сорокопуд. На дно пещеры Григорий попал только через несколько часов. Стало очевидным, что археологам без специальной подготовки не одолеть дороги к мумиям.
После короткого совещания спелеологи вытащили из ближнего колодца веревки и перенесли их к дальним провалам. Пыли здесь было меньше, да и копошащихся на полу насекомых оказалось не столь много, как у входа. Спусковую веревку привязали к металлической балке, которую удалось положить поперек зияющего отверстия.
Второй разведчик, Николай Попов, проделал путь вниз быстрее: не менее коварный дальний колодец значительно уже и не так, как передний, забит шаткими камнями. Следом ушли еще двое спелеологов – Венера Гильманшина и Анатолий Юдин. Их сообщений как раз сейчас и ждали.
– А вот и они,– поднял голову Петренко.

Спелеоразведчики рассказали следующее. Из нижней полости расходилось несколько галерей. Возможно, что где-то дальше есть другой выход на поверхность, заваленный камнями или закрытый натечными образованиями. Однако следов копоти на сводах не заметили. Наверное, в эту часть пещеры люди не проникали. Осыпи, которые поначалу приняли за курганы искусственного происхождения, находились под всеми провалами. Самый большой и высокий конус – под «западней», то есть под ближним ко входу в пещеру колодцем. Его высоту определили в десять-двенадцать метров, а площадь основания – около 600 квадратных метров. Из чего состоят курганы, установить не удалось. Их покрывал толстый слой пыли. Кое-где из-под пылевой вуали проступали очертания рогов горных козлов, череп лошади, мумия леопарда. Рядом лежали высохшие змеи и мелкие грызуны.
– Что скажете, профессор? Задали мы вам загадку? – не выдержал Петренко.
– Не совсем,– сдержанно ответил археолог.– Кое-что можно объяснить сразу, даже без изучения материалов шурфовки. «Кунсткамера» – коварная карстовая ловушка, в которую время от времени проваливались заходившие под пещерный кров люди. Скорее всего жертвами оказывались местные пастухи. Попадали в природный капкан и звери: леопард погнался за архаром, тот забежал в пещеру – оба оказались в ловушке. Похожие карстовые ямы я встречал, работая в экспедициях на Кавказе. Нередко в таких провалах находили останки ископаемых пещерных медведей. Посмотрим, что вы поднимете завтра...
– Мог ли стать жертвой этой «ловушки», например, неандерталец?
Вопрос взволновал многих: в разных уголках Кугитанга – и в первую очередь в пещерах – палеолитический отряд ЮТАКЭ искал следы обитания доисторического человека. И самодеятельные исследователи надеялись, что открытая ими пещера заинтересует ученых, занимающихся древнейшими эпохами.
– Думаю, что окончательные выводы можно будет делать только после фундаментальных раскопок осыпей под колодцами. Самые древние находки на дне пещеры не исключены, но все же...– Не хотелось профессору огорчать обступивших его спелеологов, но пока факты говорили другое.– В шурфах верхней галереи мы обнаружили зольные прослойки, керамику. Каменных орудий нет и в помине. Значит, находки в пещере относятся к более позднему времени, их возраст может исчисляться не десятками тысяч, не тысячами, а скорее сотнями лет.
– Но как туда могли попасть крупные животные? – не согласились с гипотезой о карстовой ловушке спелеоразведчики.– Мы видели внизу даже скелет лошади.
– Пылевая пробка, забившая широкий проход в дальнюю часть верхней галереи, могла образоваться уже после того, как в пещеру упали первые жертвы,– предположил Тулеген.– Пылевой завал намели ветры, или же он возник после землетрясения...
Поспорив еще немного, все пришли к выводу, что пылевая пробка спасла от трагической участи тех, кто, привлеченный удобствами пещеры, попадал сюда в последние десятилетия. В глубь верхней галереи чабаны не проникали и даже не подозревали о грозившей им опасности. А память об исчезнувших в горах людях, о тех, кого бесшумно поглотил Кугитанг, постепенно исчезла, не оставив ни преданий, ни сказочных легенд, и лишь по-прежнему бытующие в языке местного народа названия каньонов, пещер, утесов напоминали о давних человеческих трагедиях.
Огонь в костре догорел, и все, как по команде, поднялись.
– Археологи продолжат дежурство наверху и по телефону будут направлять действия работающих под землей,– подытожил профессор.
Завтра основной группе спелеологов предстояло детально исследовать нижнюю полость пещеры, составить ее геологическую карту, обмерить и сфотографировать курганы, поднять наверх мумию леопарда – об этом просили палеозоологи. Надо было извлечь также некоторые человеческие останки, но главное – предметы, которые, как всем поначалу представлялось, должны были приоткрыть все тайны «Кунсткамеры».
Несчастный случай или злодейство?
Из дневника Леонида Петренко:
«Вышли из лагеря в 7. 00. Через пятьдесят минут расположились в передней части пещеры-ловушки. Первый пробный спуск в «Кунсткамеру» дал понять, что работа ежедневными выходами в нижнюю полость малоэффективна. Вчера на спуск и подъем четырех человек ушло восемь часов! Взвесив все «за» и «против», совет экспедиции поставил перед основной группой исследователей задачу пробыть внизу двое суток. Смена дня и ночи под землей почти не ощущается...».
Картину, красочно описанную вчера у костра спелеоразведчиками, Петренко увидел наконец своими глазами. Он приземлился на конус первым из новой группы. Следом за ним встали на грунт геологи Виталий и Елена Михеевы, затем Андрей Березовский с фотоаппаратурой и последней – самая молодая участница экспедиции двадцатилетняя Наташа Мельникова.
По совету археологов начали с тщательного обследования поверхности курганов. Кто-то поднял переметную суму – хурджин, ткань которой почти не поддалась тлению – сквозь пыль проступал яркий восточный орнамент. Возле узорчатого мешка заметили длинный пояс с кисточками, дальше – деревянное, обшитое кожей седло с высокой лукой, металлическое стремя. Нашли широкое деревянное блюдо, еще один металлический предмет, напоминавший серп, непонятного назначения деревянные трубы.

«Через несколько часов работы под землей мы обнаружили халат,– записал впоследствии Леонид Петренко в своем дневнике.– Подняли, осмотрели со всех сторон. Карманов не было. По вороту шла незатейливая кайма».
Петренко внимательно осмотрел мумии людей, лежавших на осыпи,– их он насчитал около двадцати. На затылке «Ужасающегося» спелеолог увидел не замеченную никем ранее рубленую рану. В эту минуту ему и его товарищам казалось, что следы насильственной смерти можно обнаружить на всех раскиданных по пещере мумиях.
Наверху наступила ночь, когда спелеологи сделали в кургане пробный шурф. Еще вчера, при разборе докладов разведчиков, красноярцы были готовы согласиться с вескими доводами археологов, что содержимое «Кунсткамеры» вовсе не «город мертвых», не капище неведомых богов, не место казни или ритуального захоронения, а просто-напросто кладбище жертв, случайно угодивших в природную ловушку. Но то, что было в кургане, как будто опровергало эту гипотезу.
«Уже через тридцать сантиметров,– свидетельствует в своем дневнике Петренко,– мы наткнулись на плотно спрессованный слой костей и мумий. Стало очевидным, что жертв, погребенных внизу, гораздо больше, чем допускалось для пещеры-западни. Если и можно согласиться с тем, что верхние тела и предметы оказались в пещере по воле жестокого рока, то нижние, «спрессованные», скелеты наверняка попали сюда не случайно. В этом районе когда-то хозяйничали разбойничьи шайки, которые грабили торговые караваны, проходившие в Бухару долиной Кугитангдарьи. Подобная пещера – если разбойники изучили расположение провалов – могла служить надежным убежищем или местом дележа добычи».
Одну за другой извлекали спелеологи находки из неглубокого шурфа. Кости вперемешку с черепами, камни, мумия девушки.
После долгих консультаций по телефону с «крышей», где нес вахту Иминджан Масимов, спелеологи отобрали для подъема мумифицированные конечности, рога горных козлов, обернули куском полотна и бережно положили в мешок мумию леопарда. По команде груз медленно поехал вверх– на «крыше» сантиметр за сантиметром выбирали веревку.
Преграждающие дорогу
«...Выехал я из Самарканда в сопровождении классного топографа титулярного советника Петрова, переводчика Федора Лаврентьевича Жукова и трех джигитов. Казачий конвой, обыкновенно сопровождающий в Средней Азии наших путешественников, я не взял, чтобы не стеснять себя в быстрых и значительных переходах» – так начал описание поездки по Кугитангу в 1879 году журналист Н. А. Маев, глубокий знаток обычаев народов Бухарского ханства, член-корреспондент Русского географического общества.
«Местность, по которой я проезжал вторично, еще мало известна,– подчеркивал он далее.– Никто из русских не посещал еще прямой дороги, соединяющей Келиф с Гузаром».
До поездки Маева переход через Кугитанг практически не был известен географам. Вьючные дороги, петляющие по труднопроходимым кугитангским ущельям, были тяжелы и опасны. В любом месте можно было ждать нападения «юлтусаров» – «преграждающих дорогу». Поэтому торговые люди, вынужденные пересекать эти горы, обычно держали при себе сильную охрану.
«Близ страны, в которую мы теперь вступаем,– отмечал, проезжая Кугитанг в 1832 году, путешествовавший под видом торговца лейтенант Ост-Индской компанейской службы Александр Борнс,– живет племя узбеков, называемое лекей, известное своим грабительством. У этих разбойников есть поговорка, которая проклинает всех умирающих в постели, потому что, по их мнению, каждый истинный лекей должен окончить жизнь в набеге. Меня уверяли, что иногда и женщины сопровождают мужей своих в подобных экспедициях».

Что интересно, это высказывание не выглядит, по мнению этнографов, преувеличением. Между Гиссарским и Кугитангским хребтами действительно обитало племя, весьма склонное к «алламанам» – набегам с целью грабежа.
Из заметок того же автора можно реально представить, как происходило нападение на караван:
«Достигнув вершины, мы увидели шайку разбойников, переходивших через горы. Крик «Алламан! Алламан! – Разбойники! Разбойники!» вскоре распространился между нами: мы выслали отряд, чтобы встретить их и, если возможно, отразить. Заметив наши приготовления, они отложили намерение напасть на нас... Мы немедленно продолжили путь, а разбойники заняли ущелье, как скоро мы оставили его. Вся добыча их состояла из двух навьюченных верблюдов, отставших от каравана. Их схватили на наших глазах вместе с погонщиками, которые с этой минуты сделались невольниками на всю жизнь: если бы мы не наняли конвоя, то, видно, подверглись бы одинаковой участи и на другой день пасли бы в горах стада. Вся шайка имела хороших лошадей и состояла из людей отчаянных: раздосадованные ускользнувшей от них добычей, они напали ночью на деревню, где мы вначале намеревались остановиться».
Таким был Кугитанг в прошлом веке – диким, неприступным, опасным. И лишь Маев смотрел в будущее оптимистично:
«Дорога пролегает по равнине, и лишь небольшой ее участок пролегает через горы,– сообщал он в Географическое общество.– Эта вьючная тропа может быстро быть превращена в колесную».
Непрочитанная страница истории
Мы стояли у плоского камня и смотрели, как археологи укладывали в ящик мумию леопарда.
– Отправляем леопарда в зоологический музей,– сказал палеозоолог Геннадий Барышников.
В стороне археологи разбирали найденные в пещере предметы. Тулеген осторожно приподнял за край большой кусок полуистлевшего войлока.
– Кечё-кошма,– задумчиво проговорил он,– ее используют для покрытия пола в юрте. А эти уукбавы не простые веревки из верблюжьей шерсти: ими связывают жерди, составляющие каркас жилища кочевников. И еще одна деталь юрты – чангарак – она служит для крепления верха дымохода.

– Большой деревянный круг – это узбекское блюдо – табак,– добавил Ахмед-ака.– А деревянные трубы – предмет вовсе не загадочный. Это куби – вполне исправная маслобойка для приготовления масла из овечьего молока. Такую утварь и сегодня можно найти на летовках кугитангских чабанов.
– Значит, все это попало в пещеру не так уж давно?
– Трудно сказать... Быт горных пастухов не менялся столетиями. Только сейчас мы зажили по-другому.
Петренко достал из мешка новые предметы.
– Смотрите, кийгич,– удивленно воскликнул Тулеген, рассматривая небольшой кусок материи.– Такую шапочку носили под салла – головным убором в виде тюрбана – женщины племени конграт. И узор на старом хурджине тоже конгратский...
Конграты пришли в Среднюю Азию еще с Чингисханом и частично осели в Кугитанге, вытеснив или растворив в себе более давних обитателей этих мест – таджиков и полуоседлое тюркское племя карлуков. Позднее вокруг первоначального монгольского ядра конгратов объединились различные тюркские племена, стремившиеся примкнуть к этому крупному и могущественному кочевому союзу.
В начале XVI века при завоевании державы Тимуридов объединенными узбекскими племенами во главе с Шейбани-ханом конграты составляли основную ударную силу кочевников. Видимо, тогда вожди племени и потребовали от Шейбани-хана окончательно утвердить за конгратами обширную территорию между Гиссарским хребтом и Аму-дарьей, включавшую в себя Байсунские и Кугитангские горы. Трудно сказать, сколь мирно складывались их отношения с соседями: многовековой процесс взаимовлияния и взаимопроникновения ираноязычного оседлого населения и тюркоязычного кочевого не мог проходить в те времена только мирным путем, без периодических феодальных усобиц, без отдельных вспышек племенной и общинной вражды. Вся история Средней Азии с XVII века и до присоединения ее к России в 60-х годах XIX века – это почти беспрерывные войны. Как говорили старики, «жизнь человеческая тогда ничего не стоила».
Об этом мне рассказывал Тулеген, когда мы вместе с археологами возвращались в Чаршангу. Тулеген Исманкулов – историк по образованию, и всерьез заняться историей Кугитанга – его давнишняя мечта.
Слово за специалистами
После возвращения из Кугитанга я встретился с учеными, которых привлекло сообщение об открытии, сделанном красноярскими спелеологами. Вот что сказали специалисты.
Старший научный сотрудник Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР, доктор исторических наук Б. X. Кармышева:
– Пока тщательные археологические и антропологические исследования не выполнены, естественно, обсуждается вопрос: не могли ли привести к многочисленным жертвам пещеры наряду с обычными для карстовых ловушек падениями какие-то другие обстоятельства, возможно, имеющие отношение к историческому прошлому Кугитанга?
История этого края богата событиями. С первой половины I тысячелетия до нашей эры Кугитанг составлял часть Бактрии – одной из богатейших и культурнейших областей древнего мира. После завоевания Александром Македонским она вобрала в себя черты эллинистической культуры. Греко-Бактрия пала под напором кочевых тохаров. Затем эта территория входила в состав Кушанского царства, а позднее здесь обосновались племена эфталитов, а в раннефеодальный период район, называвшийся Тохаристаном, завоевывался иноземными захватчиками и соседними государствами. Потом Кугитанг входил в состав державы Тимуридов, а на рубеже XV и XVI веков здесь обосновались кочевые узбеки, пришедшие из степей современного Казахстана. Особенность данной территории в том, что она всегда была местом стыка двух культур – оседлой земледельческой и кочевой скотоводческой.

Извечная борьба за пастбища, характерная для средневековой истории Кугитанга, стала источником ряда гипотез, объясняющих загадку «пещеры мертвых». Одна из версий – она была высказана в печати – связывает тайну «Кунсткамеры» с освободительной борьбой, которую вели горные жители с пришлыми кочевыми племенами и с деятельностью секты исмаилитов – представителей одного из ответвлений шиитского направления мусульманства. Эта гипотеза маловероятна: никаких достоверных данных об обычаях исмаилитов уничтожать своих противников, бросая их в пещеры, и вообще о деятельности исмаилитов в данном районе в исторических источниках нет. Почти вся верующая часть жителей Средней Азии в наши дни, как и в прошлом, придерживается другого, суннитского, направления мусульманства. К тому же находки, поднятые из пещеры, по оценке специалистов, не средневековые, а более позднего происхождения, относящиеся скорее всего к периоду Бухарского ханства.
К многочисленным жертвам приводили и постоянные попытки племени конгратов сохранить свою независимость от бухарского эмира. Известны, например, драматические события 1868 года, когда племенная верхушка поддержала отделившегося от эмира Музаффара его старшего сына Абдул-малика. За содействие мятежнику все племя подверглось чудовищному избиению: многие конграты были убиты или бежали в горы, прячась от карателей. Преследования непокорных продолжались вплоть до развала ханства. Их останки тоже могла сохранить пещера-ловушка. Беседуя со старожилами Кугитанга и Байсуна во время этнографических экспедиций, мне не раз удавалось записывать воспоминания о тех далеких жестоких событиях...
Большинство узбекского населения современного Чаршангинского района Чарджоуской области Туркменской ССР по традиции относит себя к конгратам. Родоплеменная структура, представления о племенной территории, разумеется, являются лишь воспоминаниями, но эта группа по-прежнему сохраняет особенности в говоре и в быту, отличая себя не только от живущих рядом таджиков и туркмен, но и других узбекских этнических групп. Не исключено, что не разгаданная до конца тайна мумий так или иначе связана с историей народов, населяющих эти горы.
Председатель Совета по археологии Средней Азии и Казахстана, заведующий Ленинградским отделением Института археологии Академии наук СССР, член-корреспондент Академии наук Туркменской ССР В. М. Массон:
– До сих пор отроги хребта Кугитангтау остаются для историков практически «белым пятном». Заступ археолога почти не касался этого района. А находки здесь могут быть самые неожиданные. В свое время в горах работал палеолитический отряд академика А. П. Окладникова. Эти исследования продолжает сейчас палеолитический отряд ЮТАКЭ под руководством доктора исторических наук, заведующего сектором палеолита Ленинградского отделения Института истории АН СССР Василия Прокофьевича Любима.
Результаты последних экспедиций подтвердили первоначальные предположения о путях расселения первобытных людей через невысокие горы современного Туркменистана.
Когда мне сообщили об открытии спелеологами загадочной пещеры, я сразу же попросил связать самодеятельных исследователей с работающими в Кугитанге археологами. К научной оценке неожиданной находки красноярцев требовалось отнестись со всей ответственностью. Мы не располагали достаточными сведениями, чтобы составить четкое научное представление об этой пещере. Для этого требовалось более тщательно изучить содержимое кугитангской «Кунсткамеры».
Ввиду очень сложного, откровенно говоря, рискованного спуска в нижнюю полость пещеры, на что может решиться только отлично подготовленный скалолаз, специалисты пока лишены возможности своими глазами увидеть курганы под провалами. Мы во всем полагались на добровольных помощников – красноярских спелеологов, которые действовали под нашим руководством. Сообщения о размерах всхолмлений под колодцами мы пока принимаем на веру, хотя при недостаточной освещенности можно легко ошибиться – допустимые для периодических несчастных случаев десятки мумий принять за сотни и даже тысячи. Фотографии, к сожалению, тоже не дали ответа на вопрос: состоят ли «курганы» сплошь из костей или же образовались из пыли и камней, осыпавшихся вниз, а уже вокруг них постепенно скопились мумии.
Археологам было бы чрезвычайно интересно, если бы в основании конусов, состоящих из костей и пыли, удалось обнаружить останки людей, живших тысячи или хотя бы несколько сотен лет назад. Конечно, трудно рассчитывать на то, что в пещеру упал сначала «неосторожный» неандерталец, а спустя несколько тысячелетий там оказался бактриец или парфянин, затем «свалился» средневековый человек и так далее... К тому же возникает весьма сложный вопрос датировки мумий.
Предметы из пещеры были доставлены в Институт истории Академии наук Туркменской ССР, и многие специалисты могли познакомиться с ними воочию. Мы пришли к выводу, что возраст находок – около одного-двух веков. Очевидно, и мумии, которые легли на поверхность осыпи, сравнительно недавнего происхождения.
Мы знаем, что в этом районе проходили торговые пути. Случаи ограбления караванов, как видно, не были единичными. Вполне вероятно, что некоторые удобные для обитания пещеры Кугитанга служили когда-то надежным убежищем для разбойников. В пещерах и гротах укрывались и местные жители – чаще всего от ненастья, а также в периоды нескончаемых феодальных междоусобиц. Археологи только приступают к изучению этого района, и, безусловно, многие открытия еще впереди.
Пещера до конца не раскрыла свои тайны. Пока высказываются осторожные догадки и предположения. Но необычные находки красноярских спелеологов привлекли внимание к этому удивительному и прекрасному краю, его историческому прошлому. Возможно, со временем, к удовольствию Ахмеда-аки и всех, кого волнует проблема охраны недр и животного мира Кугитанга, эти горы объявят природным заповедником, о чем поговаривают уже давно. А систематическое изучение пещер, в том числе и «Кунсткамеры», будет продолжено всеми специалистами исторической науки и местными краеведами. Ставить точку на результатах последней экспедиции пока рано.
Алексей Тарунов Ашхабад – Чаршанга – горы Кугитанг – Самарканд – Москва