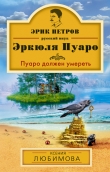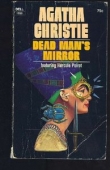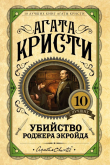Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Клад, лежавший на поверхности

Ветер срывал с деревьев сухие осенние листья, и они, покружившись в пронзительно чистом воздухе, катились по спокойным и сонным улочкам Полоцка, по бывшей Стрелецкой, взбирались на береговой холм к Софийке. Так по-свойски называют полочане Софийский собор, третью на Руси Софию после Киевской и Новгородской.
В этот светлый осенний день, о чем бы я с утра ни думала, мысли мои возвращались к найденному недавно кладу на футбольном поле стадиона неподалеку от собора, рядом с валом Ивана Грозного.
О кладе я кое-что узнала еще в Минске. В Институте истории Академии наук Белорусской ССР мне посоветовали найти заведующего сектором археологии Георгия Васильевича Штыхова на раскопках, там, где начали строительство новой станции метро «Немига».
Археологи работали на одной площадке со строителями метро. Вагончиков стояло в ряд немало, и отличить, какой принадлежит строителям, а какой – ученым, можно было только по внутреннему убранству.
На столе «археологического» вагончика лежали черепки горшков, кубков, изразцов, горлышки сосудов в патине... И Штыхов сидел тут же, погрузившись в какие-то бумаги. Почувствовав, что кто-то вошел, он поднял голову, вгляделся и, признав меня, встал и улыбнулся как давней знакомой.
– А-а, очень хорошо! Вы знаете, это ведь уникальная находка. Хорошо, что вы заинтересовались...– Он сгреб в сторону черепки, вытащил из портфеля множество бумаг и книг, разложил на столе. Потом протянул мне два слайда.
– Полюбуйтесь, вот он, клад.– Помолчав немного, продолжил: – Между прочим, такие клады – редкость. Я имею в виду золотые. Клады ведь вообще как возникали? Ну, конечно, как форма накопления, вроде современных сберкасс, во-первых, а во-вторых, драгоценности прятали во время войн, драматических событий от врагов. Скажем, много кладов на Рязанщине, на Киевщине, потому как эти земли пережили Батыево нашествие. То есть было от кого прятать...
Я разглядываю слайды: на темно-коричневом фоне двух квадратов светилось золото старинных украшений.

Георгий Васильевич продолжал говорить, но странно – не о том, как нашли клад, а скорее о тех временах, к которым относились найденные изделия.
– Итак, город Полоцк. Возник на реке Полоте,– с методичностью лектора рассказывал он.– Отсюда и его название. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом в связи с тем, что Рюрик раздавал города своим вассалам. А клад наш ориентировочно мы относим к концу X – началу XI века.
Я понимала, что этим разговором археолог как бы готовил меня к встрече с полоцкой находкой, давая понять, что это не обычная драгоценность. И не ошиблась. Потому как вскоре он перевел разговор на исторические события тех времен. Штыхов рассказывал, что новгородский князь Владимир Святославич хотел жениться на дочери полоцкого князя Рогнеде. Она в руке ему отказала, тогда Владимир пошел в поход на Полоцк, завоевал непокорную, правда, Рогнеда так до конца и не смирилась со своей участью, покушалась на жизнь супруга, но неудачно. Воинственность была в крови у потомков Владимира, и его внук, Брячислав Изяславич, уже в начале XI века взял Новгород. Возвращаясь с богатой добычей домой, был разбит киевским князем Ярославом. Тот подчинил его себе и сказал: «Буди же со мной за-один». Вместе они тоже немало походов совершили...
– Вот такие драмы и трагедии разыгрывались на территории Полоцкого княжества на рубеже X и XI веков. И кладов тогда было зарыто достаточно. За последние сто пятьдесят лет там было найдено тридцать пять кладов. Только что найденный – тридцать шестой. И единственный золотой. Я думаю,– с воодушевлением говорил Штыхов,– что этот клад закопал, несомненно, богатый человек. Например, какой-нибудь княжеский дружинник. В те времена золото ценилось необычайно высоко, и даже самые богатые люди не могли себе позволить иметь его много. Из летописей нам стало известно, что хозяин Минского замка князь Глеб и его жена посылали в Киев подарок. Так даже в княжеском подарке было серебра шестьсот гривен, а золота – всего пятьдесят.
Потом Георгий Васильевич начал говорить о значении полоцкого клада:
– Во-первых, он подтверждает торговые связи стран Северной Европы с Киевом, так как ранее известные подобные вещи изготовлены либо в Киеве, либо в Скандинавии. Во-вторых, эти украшения откроют нам подробности быта раннего средневековья, технические приемы мастеров прошлого. Это тоже интересно. Ну и, наконец, клад расскажет об экономике тех времен. Видите,– он раскрыл книгу на нужной странице,– насечки на готовом браслете? Изделия могли разрубать и использовать в качестве денежного эквивалента.
И тут Георгий Васильевич начал сокрушаться по поводу того, что мало, мало исследован культурный слой в Полоцке...
– Культурный слой? – переспросила я.
Штыхов моментально поднялся, быстро вышел из бытовки:
– Идемте, покажу и слой, и материк.
Подошли к котловану глубиной не менее пяти метров.

– Смотрите, все остатки стен, мостовой находятся в культурном слое, то есть в земле, наслоившейся в результате деятельности человека. А вон та лужа – уже на материке, то есть на земле-основе, где люди начинали жизнь. Так вот, я говорю, что, несмотря на то, что археологические исследования проводятся в Полоцке более-менее регулярно, все равно этого мало. Представьте себе, сколько в этой древней земле исторических ценностей!.. Вот приедете в город, сами увидите, нет, почувствуете – там все о старине напоминает. Мне, археологу, так вообще кажется, что на улицах Полоцка всюду видны следы кривичей. Одним словом, езжайте не откладывая, прямо сейчас и отправляйтесь.
Мы договорились со Штыховым увидеться назавтра в Полоцке.
Наутро в Полоцке меня ждала встреча с кладом в Софийском соборе. Побывав сначала на месте находки в районе Нижнего замка,– здесь под самым валом Ивана Грозного лежало футбольное поле,– я стала подниматься к собору берегом реки, огибающей Софийский холм. В утреннем свете стройные стены и купола Софии словно парили в безоблачном небе...
Заведующий фондами Софийского собора Игорь Залилов ждал меня, и, как только мы обменялись приветствиями, он сообщил:
– Штыхов звонил, сказал, что выезжает. Пойду вскрою сейф, принесу нашу находку.
Вскоре Игорь Залилов вернулся с грудой коробочек, свертком алого бархата, сложил все на скамью и сказал:
– Давайте-ка я вам еще полчасика не покажу находки, а расскажу, как нашли клад. Дело было так. Люди работали на футбольном поле: рыхлили землю, убирали камни. И вдруг гардеробщица стадиона Мария Краснова наткнулась на комок земли со спутанными проволочками. Подняла, очистила от земли и стала раздавать сослуживцам, при этом в шутку говорила, золото/мол, нашла. Александр Петрович, директор стадиона, заставший эту картину, велел Маше собрать все, что раздала, и пройти с находкой к нему. Он повел себя так, как будто каждый день имел дело с кладами: долго разглядывал находку и, признав в ней изделия из благородного металла, под расписку забрал найденное, положил в сейф, а утром следующего дня отнес в ближайший продуктовый магазин и там на простых, грубых весах взвесил. Оказалось, что-то около 335 граммов.

Когда мне позвонили, спросили, слыхал ли я про клад, мне стало не по себе. Через семь с половиной минут я был уже на стадионе. Почему-то предполагал, что находка XVII—XVIII веков, но, когда директор показал один из браслетов, я понял, что это гораздо более древние вещи. Положил я золото в папочку, повез в Новополоцк в ювелирный магазин, созвонился, конечно, заранее. Там определили вес – 334,36 грамма и пробу – 958. Стоимость назвали приблизительную, по цене золотого лома, ведь настоящую не определишь – клад бесценный...
О находке сначала мы сообщили в Минск, Валентину Наумовичу Рябцевичу, доценту кафедры археологии Белорусского государственного университета. Рябцевич позвонил в Институт истории Штыхову.
Произнося последние слова, Залилов поднялся, разостлал бархат на скамье, вынул из коробочек украшения, разложил их:
– Теперь глядите.
Что можно сказать о том ощущении, которое я испытала, взглянув на клад? Матово поблескивало золото – радостный металл. Несмотря на грубоватость ковки, нетонкость, изделия были теплые, драгоценные... И странным образом в них соединялось многовековое «достоинство» с блеском дорогого украшения.
Мы еще стояли, склонившись над находками, когда открылась дверь и вошел Штыхов. Поздоровался, высыпал в кресло гору яблок из портфеля и надолго замер над кладом.
– Да-а,– протянул он.– Конечно, это уникальный клад.– Он опять разложил свои книги, открыл на иллюстрациях древних украшений.– Смотрите, верно, все сходится, вот аналоги наших браслетов, X век. Значит, клад все же принадлежит к концу его, тому времени, когда Владимир Святославич завоевывал Рогнеду.
Залилов встрепенулся, заговорил очень громко:
– Как же концу десятого?! А на это что вы скажете? – Он достал из коробки весьма тонкой работы мужское массивное кольцо, не относящееся к новой находке.– Работа мастеров из Северной Европы. Доказано, что середина XI века. Вы только посмотрите на крепление, оно же идентично с креплением на найденном браслете.
– Кольцо действительно середины одиннадцатого, но этот – раньше. Вот взгляните...– Штыхов указал на фотографию в книге.– Или вот заготовка браслета, того же времени. Вы наш разогните, то же самое получится...
Конечно, полоцкий клад – находка пока не изученная, исследовать ее только еще начинают. Долго, вероятно, будут спорить о происхождении, о возможно более точной дате возникновения. Пока же из официальных, так сказать, документов существует сообщение Штыхова, которое хотелось бы процитировать:
«Браслеты из Полоцка имеют аналогии среди изделий Киевского клада (1913 год) второй половины X века. Такую дату можно предложить также для нового полоцкого клада. При всех возможных предположениях обстоятельств и времени зарытия клада в Полоцке его датировка не может выходить за пределы X – первой половины XI веков».
Массивные, абсолютно простые вещи, кому они могли принадлежать? Каково же было мое удивление, когда Штыхов вдруг объявил, что это мужские украшения. Два браслета, куски золотой проволоки, части шейной гривны. Всего восемь предметов, включая обломок. Мужчины носили украшения только в особых, парадных случаях. Ну, конечно, показать, что живет богато, а еще потому, что золото было символом счастья, света.
– Вы вспомните,– говорил Штыхов,– в «Слове о полку Игореве» есть упоминание о мужских украшениях, там Изяслав, лишенный помощи своих братьев, «изрони жемчюжну душу из храбра тела чрес злато ожерелие». Видите, вот такое ожерелье – гривна.
Долго мы еще пили чай, спорили, слушали Георгия Васильевича, а наши взоры словно магнитом притягивало к заветной скамье, где на алом бархате лежали ценности из давнего века. Штыхов щурился, щурился на клад, а потом вдруг словно нехотя проговорил:
– Вообще-то я думаю, это не весь клад...– И, уже совсем успокоившись, добавил: – Дело в том, что место там, у вала Ивана Грозного – в огромной земляной подкове, неисследованное. Потом – клад ни во что не вложен, а мог быть либо в горшке, либо в берестяном коробе. И еще – нет монет. Как правило, клады зарывали с деньгами.
– И все же мне кажется странным,– сказала я,– что спустя десять веков клад лежал буквально на поверхности...
– Наверное, по этой же причине и Красновой не могло прийти в голову, что она подняла с земли драгоценность. Понимаете, на Нижнем замке культурный слой невелик, а при рыхлении почвы пласты переместились. Вот потому-то он оказался наверху,– просто объяснил Штыхов и взглянул на часы.
Георгий Васильевич уезжал обратно в Минск.
– Вот,– сказал на прощанье Штыхов,– хочу вам подарить книжку, в основу ее легла моя кандидатская диссертация. Книжка о древнем Полоцке IX—XIII веков.
Я уже знала: Георгий Васильевич начинал сельским учителем, а любовь к археологии пришла во время раскопок, когда он работал со своими учениками. Полоцком и другими городами Полоцкого княжества стал заниматься со времен аспирантуры. А затем у него была докторская диссертация, она называлась «Города Полоцкой земли IX—XIII веков».
Об удачливости Георгия Васильевича ходят легенды. Рассказывают, что на раскопках у будущей станции метро Штыхов, подойдя к группе студентов и археологов, попросил дать копнуть ему. Стоило Георгию Васильевичу буквально ткнуть лопатой в землю, как под ее острием обнаружилась серебряная шейная гривна XI столетия.
– Георгий Васильевич, а как вы нашли свой первый клад?
– Это было в шестьдесят пятом году, в Витебской области. Серебро, женские украшения, монеты XI века. И второй клад, найденный мной лично возле Витебска, был бронзовый– VI—VIII век. Вообще же изучил все клады полоцкой земли, все, что были найдены за полтора века...
Настал день отъезда.
Кто-то играл на рояле в недавно отреставрированном зале Софийского собора, на улице по-прежнему шуршал листопад, и где-то наверху, за семью печатями, лежал бесценный клад в ожидании своего места в истории полоцкой земли.
Алена Башкирова
Минск – Полоцк
Полчаса с часами

Нас торопливо пригласили войти. Мы прошли следом за хозяином в небольшую, с окнами на две стороны, светлую комнату. Посередине стоял покрытый скатертью круглый стол, массивный, старинный,– таких уже не увидишь в обычной городской квартире; на цветастых обоях белели фотографии в деревянных рамках. Но чего-то явно недоставало в незатейливом убранстве комнаты.
Ну конечно же, не было часов! И это в квартире «главного часовщика Каширы», как в шутку назвал Юрия Михайловича Лебедева первый же встречный, у которого мы спросили адрес мастера.
Подивившись поспешности, с которой Лебедев, едва отворив дверь незнакомым посетителям, бросился к окну, мы молча остановились у двери.
Он стоял спиной к нам, напряженно вглядываясь в заиндевевшее стекло. И тут в открытую форточку вместе с порывом холодного ветра вторгся мощный гул колокола. Бронза ухнула три раза, и низкие звуки сменились мелодичным перебором малых колоколов.
Собственно, этот колокольный бой и привел нас в дом Юрия Михайловича...
Рано утром, подъезжая к Кашире со стороны Москвы, мы увидели город, раскинувшийся за Окой. Последние километры дороги перед переправой пролегают по открытой всем ветрам речной долине. Отсюда, снизу, город выглядит так, будто сошел со старинного лубка. По крутому склону правого берега ползут вверх деревянные избы, заборы, огороды, выглядывают из-за крыш купола церквей. И буравит густые тучи высокая игла колокольни.
Новая Кашира, город энергетиков, металлистов и машиностроителей, растет вдоль овражистого берега Оки, уходя все дальше и дальше от сохранившего облик прошлого столетия исторического центра.

Есть в Кашире Стрелецкая и Пушкарская улицы и даже Рыбацкая и Ямская слободы. В этих названиях – память о тех, кто первыми обживал этот край. Осматривая старые дворики, мы отыскали следы земляного вала, охватывавшего некогда маленькую каширскую крепость. Здесь-то и настиг нас колокольный перезвон. Заставил остановиться, оглядеться. И конечно, сверить часы.
Позднее мы разузнали, что завершающая часть семидесятиметровой колокольни была увеличена вопреки всем классическим пропорциям в 1867 году специально для часового механизма. Говорили, будто бы привез его из Петербурга какой-то удачливый здешний купец и – знай, мол, наших! – преподнес в дар родному городу.
Всем миром порешили ставить куранты над церковью, посреди базарной площади. «Дабы видны и слышны были отовсюду...» Вот и звучит с той поры традиционный перезвон, знакомый от рождения каждому коренному каширянину.
Городские часы можно без особого труда разглядеть из окон старых каширских домов – так что привычные часы с кукушкой здесь, очевидно, без надобности.
...Перебор малых колоколов постепенно затих. А Лебедев продолжал пристально глядеть в окно. И тут по комнате разнеслись передаваемые по радио сигналы точного времени.
Юрий Михайлович выключил приемник.
– Стрелки убежали на две минуты,– произнес он, ни к кому не обращаясь.– Стало быть, пора идти регулировать маятник.
Он весело сощурился и оценивающе оглядел нас.
– Так и быть, возьму с собой наверх. Хотя, наверное, это не положено...
Промерзший за ночь замок долго не открывался. Наконец заскрипели дверные петли. Мы вошли, и наши шаги гулко отозвались под темными сводами.
Лебедев открыл маленькую боковую дверцу и исчез в проеме. Повозившись с коробком, чиркнул спичкой. Дрожащее пламя выхватило из черноты отсыревшую кирпичную кладку сводчатого хода и несколько ступенек.
Дальше поднимались на ощупь, то и дело хватаясь за обледеневшую стену. Ступени вывели на промежуточную площадку с полуциркульным окном. Через незастекленный проем в пустующую церковь падал снег. Чуть выше, на открытой площадке первого яруса, вовсю гулял ветер. Рвал с головы шапки, громыхал куском проржавевшей жести, цеплявшейся одним краем за журавцы купола, завывал в арочных пролетах верхних ярусов, сбивал снежную пыль с деревянных лестничных переходов, которые вели к часовому механизму.
Лебедев быстро поднялся по лесенке к люку над колоколом, открыл замок и толкнул дверцу. Следуя за ним, мы на миг поравнялись с исполинским грушевидным корпусом и снова оказались в кромешной тьме.
Тихо постукивал невидимый механизм. Вдруг заскрежетал металл, с треском расправилась какая-то пружина, защелкала цепь. Через люк в полу мы увидели, как дернулись тросики и пришли в движение крепившиеся к наружной поверхности колоколов медные молотки. Под деревянным настилом, на котором стоял часовой механизм, коротко зазвонило. Часы отбивали очередные пятнадцать минут.
Часовщик повернул рычаг. Резко распахнулись железные створки, и через окошечко в циферблате в крохотную мастерскую вместе со снежной пылью ворвался дневной свет, мгновенно рассеявший чердачный сумрак.

Перед нами стояла металлическая рама, к которой крепились детали механизма. Равномерно поворачивались шестеренки, постукивая, ходил взад-вперед полутораметровый маятник.
Лебедев потом рассказал, что за свою вековую жизнь каширские куранты «отдыхали» лишь однажды. Было это лет десять назад, когда умер последний сторож Введенской церкви мастер-самоучка Цыганков – имени-отчества старика теперь никто и не упомнит. Некому было привести в движение маятник, смазать медные детали, заменить пружины, отладить крепления молоточков. Принялись искать нового мастера. Лебедев – умелец на все руки – пришел в горкомхоз сам.
– Маятниковый механизм курантов – те же «ходики»,– сказал он.– Но таких больших «ходиков» чинить еще не приходилось. Попробую...
И хотя запасных частей отыскать не удалось – добрых полета лет не выпускаются подобные механизмы,– куранты вернулись к жизни.
...Заскрипела перекинутая через блок цепь, и вверх поехал увесистый груз. Набросив на ось железный рычаг, Юрий Михайлович заводил механизм, всем телом наваливаясь на ручку. Три гири, каждая пудов по десять – не меньше, медленно поднимались от пола к потолку.
Перекурив, часовщик не удержался от соблазна прямо при нас проверить свою работу. Потянул за один из тросиков – под настилом отозвалась певучая бронза.
Сквозь люк мы увидели, что внизу остановились прохожие. Люди смотрели наверх. Наверное, удивились неурочному сигналу. За все годы, что опекает Лебедев часовой механизм, каширские куранты так лихо не ошибались.
А Юрий Михайлович озорно подмигнул нам. И тут же с самым серьезным видом принялся объяснять секреты дедовской техники, не забывая при этом ни об одной шестеренке, оси, пружине.
Потом мы осторожно спускались вниз, а мастер, проводив нас, решил вернуться и еще поколдовать в своей башне.
И я вдруг подумал: замри вдруг аршинные стрелки на циферблате, не ударь в положенный час колокол – ничего, конечно, не случится. Но жители Каширы непременно загрустят...
Михаил Ефимов