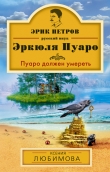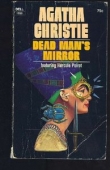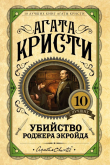Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Снова побои. На этот раз били, пока Махмуд не потерял сознание. Очнулся он в кромешной темноте. Израненное тело нестерпимо болело.
– Пить! – простонал он.
Вдруг рядом блеснула полоска света, чьи-то руки осторожно приподняли голову Махмуда, и в разбитый рот потекла прохладная вода.
Окончание следует
Владимир Беляков, Игорь Ростовцев
Кордон на полуострове Кони

Волна прилива с шипением достигла береговой черты, и неглубокая чаша Ольского лимана стала на глазах заполняться морской водой. С криками закружились у берега чайки, выхватывая ринувшуюся в лиман рыбу. В этой суматохе как-то незаметно оказался на плаву, заколыхался поплавком наш «дори» – небольшое деревянное судно. Не тратя времени, Иннокентий Крылов, старшина судна, запустил двигатель, и «дори», выпуская из трубы сизые дымки, осторожно двинулся к выходу из лимана. Следом за ним на буксире тащился катер. На просторы Тауйской губы мы выбрались, когда гористые берега сделались черными, словно вырезанными из картона, а на сгустившейся синеве неба начинали мерцать первые звезды...
Оказаться на борту этого судна заставило меня довольно необычное сообщение: вертолетчики, пролетавшие над полуостровом Кони, у мыса Скалистого заметили группу судов, стоявших под самым берегом. Эта часть территории полуострова Кони являлась одним из четырех участков недавно созданного заповедника «Магаданский», и никакие суда без специального разрешения не имели права подходить к его берегам.
Заповедник только-только вставал на ноги, и у директора Юрия Николаевича Минько хватало в эти дни забот. На участках были выстроены кордоны, приступили к своим обязанностям лесники, но необходимо было снабдить их снегоходами, рациями, а заодно завершить и строительство здания для дирекции в Магадане. На счету был каждый человек, но, получив сообщение вертолетчиков, директор размышлял недолго.
– Александр Сергеевич,– обратился он к Новикову, своему заместителю по науке,– придется вам взяться за это дело.
Новиков долгие годы работал в Институте биологических проблем Севера и, будучи ихтиологом, занимаясь вопросами сохранения рыбных богатств, в каких только переделках порой не бывал. Я решил быть Новикову бессменным попутчиком. И в тот же день мы выехали в Олу. Там нас поджидал лесничий Ольского лесничества Николай Семенов.
– Эх,– вздохнул он, едва поздоровались,– не разыграйся ветер да не поднимись волна, часа через четыре были бы уже у мыса Скалистого.
Семенов был молод, хорошо сложен, строен, рыжеволос. Что-то было в нем от лихого гусара. Он и усы свои, кажется, закручивал как гусар. В хорошую погоду лесники преодолевали Тауйскую губу на «прогрессах» – легких катерах с подвесным мотором. Но сейчас на «прогрессе» выходить в море было рискованно. Оставалось одно: идти на «дори». Семенов рассказал, что своими силами они соорудили каюту, и судно стало удобным для длительных плаваний. На нем лесники не раз уже обходили границы заповедника.
Нас здорово качало. Пенные брызги разбивались о стекло рубки. Крылов, стоявший у штурвала, вел судно, стараясь не терять из виду берегов. Быстро темнело, а когда очертания гор растворились в ночи, он заглушил двигатель и, вытравив все шестьдесят метров манильского каната с якорем, сказал: «Баста. Будем здесь дожидаться рассвета. Дальше идти нельзя».
– Где мы? – спросил из темноты Александр Сергеевич.
– У мыса Харвис,– отвечал Крылов, с покряхтыванием забираясь на нары, устланные мягкой лосиной шкурой. Отдыхать на них было одно удовольствие. В наступившей тишине стало слышно, как где-то далеко неумолчно рокочет прибой.
Оставшись за вахтенного, я выбрался на палубу и, свесив ноги, уселся на носу. В сторону Магадана прошло в отдалении грузовое судно, помигивая разноцветными сигнальными огнями. Над Олой и Магаданом застыло желтоватое зарево, напоминая о неутихающей вечерней городской жизни. Зеленоватый свет рождался в черноте воды: море светилось!
Только теперь я, кажется, понял, что заставляет людей в одиночку отправляться снова и снова в дальние рискованные плавания по морям.
Но вскоре облака закрыли небосвод, и очарование моря сразу же исчезло. Я пробрался в рубку, поближе к остывающему двигателю. Иногда мне казалось, что рокот прибоя усиливается, но темень теперь стояла такая, что и в десяти метрах, пожалуй, ничего нельзя было бы рассмотреть.
Когда наконец забрезжили предрассветные сумерки, я выбрался на палубу и обомлел: несмотря на отданный якорь, нас тащило к берегу. Мы были совсем неподалеку от серых отвесных скал, под которыми бесновался прибой, и наше судно медленно приближалось к черным камням, о которые в бешенстве разбивались волны.
Пришлось играть всеобщую побудку. «Якорь!» – односложно приказал Крылов. Он будто и не спал: движения точны, взгляд серьезен. Двигатель дважды не запустился со стартера, и Иннокентий прогревал его паяльной лампой.
С Александром Сергеевичем мы поспешили на нос. Балансируя на уходящей из-под ног палубе, умудрились-таки вытянуть якорь, долгое время отчаянно цеплявшийся за что-то на дне, словно задавшись целью нас угробить. Но тут затарахтел двигатель – старшина старался не напрасно,– и «дори» пошел в море, удаляясь от нежданной опасности.
Часа через два показались мрачные скалистые берега полуострова Кони. Вершины и склоны гор сплошь поросли низкорослой тайгой, лишь у моря поблескивали отвесными срезами неприступные скалы.
На небольшом мыске, в устье зеленой долины, я разглядел среди кустарников светлый квадрат правильной формы.
– Наш кордон,– пояснил мне Семенов,– но туда мы сейчас не пойдем.
Приблизившись к горам, лесничий решил не терять понапрасну времени. Ветер здесь стал потише, и он перебрался в катер. Усадив в него Новикова и Александра Кармазиненко, своего подручного, мощного сложения весельчака, Семенов приказал Крылову следовать к мысу Скалистому и, запустив подвесной мотор, быстро умчался вперед. Как ни хотелось мне в тот момент быть непременно на катере с лесниками, я отлично понимал, что для четвертого при такой погоде там места не было. Ничего не оставалось, как, негодуя в душе на неторопливость двигателя «дори», осматривать открывавшиеся берега.

Время от времени оттуда появлялись длинношеие черные бакланы. Они пролетали над судном и так же невозмутимо возвращались обратно. Иногда с выступающих в море мысов шумными стаями снимались чайки. Кричали кайры. Их было немного, но летом, по всей вероятности, здесь гомонили большие птичьи базары. Скалы, пестрые от гнезд и птичьего помета, влажно лоснились у воды, серебрились на уступах, а под скалами и наверху густо зеленела трава.
На верхушке одной из скал я приметил копну сучьев. «Много лет уже тут орланы гнездятся»,– подсказал Крылов. Оказалось, что он давно живет в Оле, не раз бывал в этих местах. Когда-то и охотился, добывал морзверя, но, видимо, всему свое время, и теперь у него в жизни интерес другой: ходить на судах по морю.
Наконец мы добрались до мыса Скалистого. Едва обогнув его, увидели стоящие в бухте суда. Ближе к берегу находилась плавбаза «Печенга». Рядом пристроилось судно поменьше. На его палубу с плавбазы перегружали деревянные бочки. А милях в полутора к западу стояло судно-спасатель. Борта у него были выкрашены в красный цвет.
– Все ясно: рыбаки собрались,– объявил Иннокентий.– По радио передавали, что в Тауйской губе решено провести сельдяную путину. Несколько лет не ловили. Был наложен запрет, чтобы восстановилось рыбье поголовье. Вот они и пришли. По старой памяти, видно, здесь собрались. А тут самые места снежных баранов.
– Раньше-то, когда мимо идешь, в бинокль взглянешь, одного-двух непременно увидишь. Стоят, красавцы, не шелохнутся. Наблюдают. А когда вот так столько судов стоит, то разве заметишь...
И верно: сколько я ни оглядывал в бинокль окрестности, чубуков нигде не разглядел. Попрятались осторожные бараны. Зато бинокль помог мне обнаружить покачивающийся на волне под бортом плавбазы катер лесников. Он был пуст. Должно быть, все собрались в каюте капитана. Хотелось знать, о чем там идет сейчас разговор, но, по всей вероятности, инцидент, как говорится, был исчерпан еще до нашего прихода. Потому что, заложив вираж, мы увидели, что судно-спасатель, набирая скорость, удаляется от берегов. На палубе плавбазы появился Семенов и, подняв руку, показал нам, чтобы отправлялись обратно. Помощи нашей тут не требовалось. В этом мы убедились, когда, прощаясь с бухтой, обернулись назад. В море уходило и второе судно.
Затем мимо пронесся катер с лесниками. Он направлялся к мысу Плоскому, и нам следовало идти туда же.
Минуя мыс, где прежде приметили гнездо орланов, теперь увидели и хозяина гнезда. Выждав, когда «дори» удалится на достаточное расстояние, орлан взлетел со скалы, сделал небольшой полукруг и уселся в гнездо. Конечно же, провести в нем наступающую ночь приятней и спокойней.

К мысу Плоскому добрались в сумерках. Крылов бросил якорь, встав подальше от берега. За нами приплыл на лодке Сергей Швецов, самый молодой на кордоне лесник. Немало дней ему пришлось провести здесь в полном одиночестве, но бодрости духа не растерял. Весело поздоровавшись, он помог перегрузить в лодку продукты, доставленные из Олы, и, привычно работая веслами, подогнал лодку к берегу. Там нас поджидали лесники.
Новиков рассказал мне, что суда, как верно подметил Крылов, были из рыболовецкой флотилии. За селедкой пришли. Несколько лет не были в этих местах. Капитаны сказали, что ничего не знали о создании заповедника и, не споря, дали команду к отходу. В бухте осталась плавбаза, набиравшая в танки пресную воду из горной речушки. Капитан пообещал утром покинуть бухту, и Новиков решил задержаться на кордоне.
Николай Семенов пригласил нас в дом. Честно признаться, ни внешне, ни изнутри жилище лесников не произвело на меня особого впечатления. Обычный сруб с двускатной крышей – изба избой. Внутри – четыре кровати в ряд. Самодельный стол. Занимающая едва ли не четверть помещения печь, где сушатся портянки, сапоги. Телогрейки и плащи на стене, форменные кители, фуражки.
Все до единого бревнышка для постройки этого дома, как рассказал Семенов, было доставлено морем за сотню верст из Олы!
Там отыскали это ставшее кому-то ненужным жилище, разобрали его, бревна связали в плот и потащили к мысу Плоскому на буксире. Потом у самой цели разыгрался шторм. Плот разбило, а бревна разбросало по всему берегу. Не один день собирали их люди, не жалея ни бензина, ни собственных моторов. Да только не все удалось отобрать у моря. Пришлось второй плот в Оле собрать. До мыса его довели благополучно. Лесники к пиле и топору привычны, да и взялись за дело с огоньком. И хоть не профессиональные строители, но соорудили и дом, и баньку, и печь сложили. Появился на берегу полустрова Кони кордон заповедника.
– Теперь регулярные обходы начнем,– делился планами Николай,– и в слякотную осень, и морозной зимой жить здесь будем. Ни соболя, ни росомахи, ни медведя браконьеру не удастся взять. На безнаказанность пусть не надеются...
Плавбаза рыбаков отошла от берегов полуострова точно в указанное капитаном время. Ее голубоватый силуэт, ослабленный далеким расстоянием, мы наблюдали через распахнутую дверь дома.
Александр Сергеевич задачу выполнил, можно было бы и отправляться в Магадан, но день выдался солнечным, тихим и теплым. На берегу в великом множестве сидели разомлевшие чайки.
Тут были и крупные серебристые чайки, и чайки-моевки. Под берегом плавали осторожные утки, вертелись, склевывая планктон, юркие кулички-плавунчики. А в небе проносились вереницы бакланов. И Александр Сергеевич, махнув рукой, решил с отъездом повременить, заняться хоть недолгой инвентаризацией охраняемого здесь мира зверей и птиц.
По тропам, проложенным в высокой траве медведями, мы вышли на северную оконечность мыса. Здесь, по кромке высокого берега, медведи протоптали уже не тропу, а хорошо утрамбованную дорожку. Видимо, косолапые хищники прохаживались тут довольно часто.
Было время отлива. Море далеко отступило, обнажив осклизлые камни, и с громким рыканьем, напоминающим ворчанье львов, на эти камни взбирались тюлени, что посильнее. Тюлени и приманивали к берегу медведей.
Больше всего собралось тюленей в конце каменистой косы. Немало их лежало поодиночке на разбросанных по всей лагуне камнях. Те, кому «лежаков» не досталось, вскинув головы, спали, оставаясь в воде. Проведя подсчет, Новиков заявил, что тюленей собралось на лежбище около тысячи. Для заповедной зоны это очень неплохо. Далее следовало попытаться подобраться к тюленям поближе и определить, к каким породам они принадлежат. Ведь в Тауйской губе обитает пять видов тюленей.

Прячась за камнями, мы поползли по косе. Подобраться к залежке нам удалось метров на пятьдесят. Серебристо-серые пятнистые звери, изредка вскидывая головы и озираясь, в блаженстве нежились на солнышке.
В основном здесь были ларги – бесстрашные тюлени-путешественники, которые, преследуя косяки рыб, заходят в реки, поднимаясь вверх на сотни километров.
Новиков разглядел среди лежащих тюленей и зверей других пород: акиб, лахтаков. Но как ни приятно было наблюдать за их поведением, лежа в такой близости, все-таки вскоре пришлось уходить.
Приближалось время прилива. А приливы в Тауйской губе достигают пяти метров. Вспомнив про это и увидев домик кордона в страшной отдаленности, я заторопился, неловко поднялся. Лежавшие, словно мешки, тюленьи туши пришли в мгновенное движение. Вскипела, как в шторм, вода, и лежбище опустело. Несколько сотен черных голов всплыло по обе стороны от косы. «Ничего,– успокоил меня Новиков,– немного недоспали. Уже начался прилив, через десяток минут им все равно бы пришлось подниматься».
Затем с Николаем Семеновым мы объехали на катере островок, поднимавшийся из воды неподалеку от заповедника. Помимо чаек и бакланов, увидели здесь канюков, дербника, луня, а главное, целое семейство белоплечих орланов – редких птиц-эндемиков, гнездящихся только на восточном побережье нашей страны.
Две белоногие белоплечие птицы с массивными желтыми клювами сидели на напоминающем печную трубу скалистом выступе. А над ними кружила третья птица, по всей вероятности, самка. Это мне удалось сфотографировать. Сидящие птицы вели себя спокойно. Понадеявшись сделать снимок с более близкого расстояния, я попытался взобраться на скалы, однако красавцы орланы расправили мощные крылья и соскользнули вниз, забравшись затем высоко в небо.
В тот же день мы поднялись в горы, пройдя тропой, по которой лесники обходят границу заповедника. Вел нас по ней Сергей Швецов. Идти тут оказалось нелегко. Мох скрывал острые камни. Преграждали дорогу заросли кедрового стланика. Приходилось балансировать, преодолевая каменистые осыпи. Иногда надвигавшиеся облака вмиг окутывали все непроницаемым туманом. Да и высота сказывалась. Но, поднявшись к вершинам, мы забыли о трудностях пути.
Далеко внизу своеобразной вихляющей походкой неторопливо продвигался по берегу небольшой речки хозяин здешних мест, черного цвета медведь.
Над рекой, почти не взмахивая крыльями, парили чайки. По склонам гор поднимался в зелено-золотистом осеннем убранстве невысокий горнотаежный лес. И эта нетронутая, первозданная живая красота так в ту минуту подействовала на душу, что захотелось остаться здесь навсегда.
– Вот и со мной что-то подобное случилось,– словно подслушав мои мысли, признался Сергей Швецов.– Я в Бурятии родился. Маме врачи посоветовали сменить климат, вот мы и переехали сюда. В Оле я поначалу все Бурятию вспоминал, природа ведь там очень красива. А в армию ушел и по здешним местам затосковал. Честно скажу, и это море, и эту тайгу во сне видел. Домой возвратился, имея специальность радиста. В первый же день начальник радиосвязи в Оле к нам пришел, работать к себе звал, хорошее место предлагал. Но я уже решил окончательно: к Семенову в лесники пойду. Еще в армии с ним списался. И он для меня место в заповеднике держал. Верил, что смогу помогать ему сберегать всю эту красоту.
Вечером, когда все собрались в избе, все еще находясь под впечатлением увиденного, я спросил у Новикова, а так ли уж необходимо было заповедник из четырех участков создавать? Нельзя ли было создать один большой заповедник, как, к примеру, сделали на Таймыре?
– Проектирование заповедников – дело очень сложное,– отвечал Александр Сергеевич, немного подумав.– Особенно в такой области, как наша, Магаданская. Знаете, наверно, что в недрах ее сосредоточены едва ли не все элементы таблицы Менделеева, а геологи и сейчас, что ни год, продолжают открывать новые месторождения. И не возьмись за проектирование заповедника Алексей Петрович Васьковский, думается, ученые и по сей день думали, где и каким ему быть.
О Васьковском мне уже приходилось слышать. Это был удивительный человек. В бухту Нагаева он прибыл в 1931 году. Долгие годы проработал в геологической службе Дальстроя, открыв немало месторождений и написав множество научных статей, касающихся изучения природы этого края. Широта его интересов поражала. Помимо родной геологии, он занимался палеонтологией, палеографией, орнитологией, ландшафтоведением, этнографией и многим другим. Коллеги называли его «ходячей энциклопедией», казалось, не было вопроса, на который он не мог дать ответ.
За работу в Дальстрое Алексей Петрович Васьковский был награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета». А когда в Магадане был создан Институт биологических проблем Севера, он пришел туда, чтобы возглавить новую лабораторию ландшафтоведения и охраны природы. Да и кому, кроме него, было возглавить ее. Двадцать различных карт Магаданской области было подготовлено им для печати, край этот он знал досконально. Узнав теперь, что именно ему принадлежит идея заповедника и разработка его научных основ, я с интересом стал слушать дальнейшие объяснения.
– Заповедник не мал,– говорит Александр Сергеевич,– почти миллион гектаров занимает его территория. По современным научным стандартам это как раз то, что требуется. Он разделен на четыре участка, но, взгляните на карту, все они сосредоточены на юге Магаданской области. Заповеданы, помимо полустрова Кони, междуречье Челомджи и Кавы, участок пойменных лесов Колымы под Сеймчаном, прибрежная долина реки Ямы и Ямские острова. Оказался под охраной весь комплекс природы, тяготеющей к побережью Охотского моря.
На Чукотке,– продолжал Новиков,– уже действует заповедник «Остров Врангеля». Там охраняются лежбища моржей, берлоги белых медведей, гнездовья белых гусей – вся природа, тяготеющая к Северному Ледовитому океану. А в нашем заповеднике «Магаданский» взяты под защиту тундровые и таежные ландшафты, реликтовые сибирские ели, снежные бараны, различные птицы, нерестилища лососевых рыб, тюлени, сивучи, подводные биоценозы... И получается, таким образом, что эти два заповедника помогают нам сохранить всю природу огромной территории нашего северо-востока!
Мне не было известно, по долгу ли службы или по зову сердца брался за дело по проектированию заповедника «Магаданский» Алексей Петрович Васьковский, но в этот момент я понял, что к делу сохранения природы он относился с большой любовью...
Утром мы отправились в обратный путь. Было тихо, и лесники решили переправить нас в Олу на быстроходном «прогрессе». Александр Кармазиненко запустил подвесной мотор, катер рванулся с места, и берега полуострова Кони стали стремительно уходить назад. Вскоре уменьшились до точек фигурки провожавших нас лесников, но еще долго был виден светлый квадрат крыши их кордона. Кордона, с которого началось сохранение территорий заповедника «Магаданский».
Магадан – Москва
В. Орлов
Григорий Темкин. Двадцать шестой сезон

Окончание. Начало в № 1, 2.
Глава 11
Вокруг котлована на сотни километров простиралась бурая пустыня, утыканная пересохшими пучками комочкообразных кустов. Весь этот далекий, чужой мир лежал под розовато-голубым навесом неба почти без движения, не проявляя никаких признаков жизни. И все же он жил. Жил напряженным ожиданием того, что должно было случиться. И тут в прозрачной безоблачной пустоте метнулась, взорвалась белая молния, словно хлопнула крыльями гигантская птица. Еще, еще разрывы. Лавина молний вонзилась в пустыню. И та в ответ стихии как будто блаженно зашевелилась. Начался сезон пробуждения.
Сколько раз, готовясь к командировке, видел изображение планеты в видеозаписи и мысленно рисовал ее по отчетам экспедиций. И даже вчера, когда я вглядывался и обзорные экраны форстанции, все же никак не мог взять в толк, почему эту планету нарекли столь неприятным именем. Причем, я выяснял специально, планету единодушно окрестили Мегерой в Академии астрономии сразу после просмотра записи первого автономного телеблока, опущенного на поверхность планеты. Но уже после выхода из форстанции я с лихвой получил всю недостающую гамму ощущений.
Первый маршрут мы проделали на кэбе – станционном вездеходе. Он представляет собой прямоугольную платформу с четырьмя креслами и корпусом из прозрачного репелона.
Отъехав метров двести, мы остановились.
– Ну как тут с разумом, профессор? – поинтересовался я.
Саади озабоченно возился с большим черным ящиком, который, как я понял, и был тем самым полевым психоиндикатором. Судя по недовольному бормотанию Абу-Фейсала, прибор отказывался производить задуманную профессором революцию в контактологии.
– Не ладится? – участливо спросил я.
– Не могу взять в толк, Алеша. Если верить показателям детектора, то все вокруг буквально бурлит от высшей нервной деятельности.
Я посмотрел на шкалу, где примитивный индикатор действительно отплясывал взволнованный танец в интервале «интеллекта», и расхохотался.
– Как понимать ваш смех? – обиделся Саади.
– Поздравляю, профессор. Ваш гениальный прибор, несомненно, исправен. И отлично действует.
– Но я не могу поверить...
– Тогда вы отказываетесь поверить в нашу с вами разумность!
Абу-Фейсал начал было возражать, но остановился на полуслове и тоже рассмеялся, поняв свою ошибку. Он забыл вынести пси-микрофоны наружу, а репелоновая кабина оказалась отличным экраном. Ее защитные стенки не только изолировали «детектор разума» от всех внешних пси-волн, но и блокировали внутренние. Пришлось опустить стенки и вынести датчики на внешнюю сторону. Индикатор сразу успокоился, замерев где-то чуть выше нуля. Зато забеспокоились мы с Саади.
Нет, мы волновались не за свою безопасность. Нас защищала силовая автоматика костюмов и шлемофильтры, а стенки кэба, если понадобится, захлопнутся в доли секунды. И не воздух Мегеры действовал на нас каким-либо особым образом. Это был почти земной по составу воздух, вполне пригодный для дыхания, да еще контролируемый легочным монитором.
Зловещим, неприязненным сделался свет, заливавший пустыню: розовато-сиреневый, угрюмый. Словно в миражном мареве подрагивали над нами диск Красного солнца и три малых луны. Конечно, свет солнца не изменился, но за стеклом кабины он казался мертвенно-бледным, ирреальным. Не рассеиваемый репелоном свет окутал нас, и я проникся вдруг ощущением, что мир планеты, по которой мы колесили на кэбе, вовсе не мертвенная пустошь. Этот мир, независимо от наших ощущений, живет своей жизнью, чуждой нам и непонятной, а мы, два земных существа,– незваные гости в этом мире...
– Вам ничего не показалось, Набиль? – спросил я, невольно приглушая голос.
– Ага, значит, и вы почувствовали! – обрадовался профессор.– Но не пугайтесь. Это действие психофона Мегеры. Признаков внеземного интеллекта пока нет. Биодеятельность планеты только на низших и средних уровнях.
За шесть часов путешествия по Мегере мы не встретили ни единого живого существа. Даже птицы какой-нибудь, вроде той, что мы вспугнули около бункера, не увидели. Не удержавшись, я демонстративно осведомился у профессора, где же его пресловутая фауна.
– Под нами, под нами,– Набиль указал пальцем вниз,– в почвенном слое. Малейшее изменение погоды – мегерианские споры и личинки начнут пробуждаться.
– А когда изменится погода? – пытал я.
– Вот-вот должна, судя по положению Красного солнца.
Я посмотрел в небо и ничего особенного не увидел, разве что солнце стало ярче, а одна из лун зашла частично за другую. Теперь положение небесных тел напоминало мне наклоненную восьмерку.
Неожиданно в стороне хрустнуло, будто кто-то сломал о колено сухую ветку. Машинально я толкнул ногой тормоз и одновременно врубил защиту. Репелон кэба сомкнулся над нами.
– Что это было, Набиль?
– Точно не уверен, но похоже на электрический разряд.
Снова повторился треск, и небо разверзлось над нами. Белый зигзаг молнии вонзился в пустыню. Началась гроза, какой я ни разу в жизни не видел. В абсолютно чистом, без единой тучки, небе вспыхивали огненные шары и ленты. Одна из молний ударила в дюну метрах в пяти от нас. Бурая потрескавшаяся глина мгновенно раскалилась добела, вспучилась пузырями и снова затвердела. Ураган бушевал несколько минут и, видно, разрядив без пользы весь свой арсенал, покрыв поверхность планеты волдырями ожогов, утих.
– Ну что, едем дальше? – предложил я, но профессор меня не услышал.
– Смотри! – Он указал на ближайший оплав.
Спекшийся грунт вокруг пузырчатого бугра покрылся сетью мелких трещинок. Оттуда выползали, как змеиные язычки, стебли с раздвоенными верхушками. Эти травинки и впрямь чем-то напоминали змей. Не спеша, но невообразимо быстро для растения вытягивались они из земли желтоватыми трубками, которые становились все выше, толще, мощнее...
На наших глазах тоненькие ростки превратились в похожий на репейник куст. Он продолжал расти. Стебли стали стволами, от них выстрелили золотистыми кудряшками боковые побеги. В считанные минуты побеги-кудряшки опустились вниз до грунта и принялись расползаться в разные стороны. Некоторые побеги попадали в трещины и, по всей видимости, выбрасывали корешки. Тут же начинали подниматься вверх новые ростки и раздаваться в толщину. Один длинный отросток дотянулся до нашего кэба, ткнулся в гусеницу.
– Что будем делать, профессор? – забеспокоился я.– В механизм кэба растениям, конечно, не проникнуть, но ходовую часть они могут опутать своими щупальцами.
Саади похлопал меня по плечу:
– Боитесь за технику, Алеша?
– Боюсь не боюсь, но лучше скажите вашим сорнякам, чтобы прорастали куда-нибудь в другую сторону.
– Увы! Они меня не услышат. А если и услышат, то вряд ли внемлют. «Детектор разума» утверждает, что интеллектом здешний создатель обошел энергичные растения.
– Тогда придется их побеспокоить без предварительных контактологических дебатов.
Я включил заднюю передачу, чуть провернул гусеницы. Словно вздрогнув от боли, оборванный побег взметнулся вверх. Над местом обрыва сразу же возник маленький дымный клуб. Такой же я видел на Земле, когда наступил в лесу на старый гриб-дымовик. Только это облачко было не из спор, не из сока или какого-нибудь сокового пара, а состояло из мельчайшей мошкары, устремившейся на свободу через полую сердцевину побега.
Между тем на основном стволе растения, в полуметре от земли, набухла колючая яйцевидная шишка. Сходство с яйцом еще более усилилось, когда шишка лопнула. Из нее самым натуральным образом вылупилось существо, напоминающее непомерно толстого короткого червя-трепанга. Существо младенческого возраста с похвальной решимостью двинулось за мошкарой. Не обращая внимания на раскачивание ветви, существо доползло до края и там остановилось, как бы раздумывая, что делать дальше.
– Что зовет его к братьям по древесному соку? – съязвил я.– Не та ли извечная тяга к контакту?
– Возможно,– согласился Саади.– Только контакт в данном случае продиктован мотивами гастрономическими.
И действительно, из тела «трепанга» стали выкидываться тонкие длинные язычки. К ним прилипала мошкара, и язычки возвращались в тело, а трепанг снова и снова забрасывал их в густое облачко насекомых.
Откуда-то метеоритом взлетела ширококрылая птица, пронеслась над кустом и скрылась вдали. Вместе с ней исчез и трепанг.
– Прощай, пытливый друг наш! Приятного тебе контакта! – Я помахал рукой. Саади был занят своими мыслями и не поддержал шутки.
– Ну вот и дождались,– сообщил он.– Пустыня пробуждается. Смена времен года.
Только сейчас до меня дошло, что нам посчастливилось наблюдать самое важное на Мегере – эволюцию живого мира. Разряд молнии пробудил дремлющие в почве споры. Сочетание солнц и лун создало необходимые условия, и на поверхности Мегеры закипела жизнь, завертелась в фиесте благоприятного сезона.
– Что будем делать, Абу-Фейсал?
– Поедем домой. На сегодня хватит. Надо отдохнуть, обработать полученные материалы и подготовиться к завтрашнему выходу. Думается, мы увидим еще немало интересного.
Я согласился с контактологом: его задача – искать интеллект, моя – обдумать все, что касается Тринадцатой гиперкосмической.
Обратно мы ехали напрямую и через тридцать минут были уже у бункера. Наш рукотворный курган не попал в зону грозы и потому встретил теми же безрадостными ржавыми кочками. Мы въехали в «предбанник», прошлюзовались. Каждый занялся своей работой, и до самого вечера мы не общались, пока гроза не подошла к бункеру.
Когда первые молнии обрушились на пересохший барабан почвы над форстанцией, мы уже сидели в обсерватории. Включив фиксирующую аппаратуру, я вооружился кинокамерой.
Перед нами повторилась точно та же картина, что и в пустыне. Сначала выросло дерево. Я отправил кибера сломать ветку. Из места облома выпорхнуло облако гнуса, созрел и вылупился прожорливый трепанг. Но дальше события стали разворачиваться по-иному. На трепанга напала уже не птица, а невесть откуда «прискакавшая» на непомерно длинных паучьих ножках черепаха. Хрумкнув, она проглотила половину трепанга. Какая это была половина, передняя или задняя, сказать было трудно, но такое усечение, как ни странно, пошло трепангу на пользу. Уцелевшая его половина, не мешкая, отрастила несколько подвижных конечностей. Существо проворно засеменило куда-то в пустыню...
– Эволюция...– словно прочитав мои мысли, сказал Саади.
Хотя выходило, что я спорю с самим собой, но, раздосадованный проницательностью партнера, все же решился возразить:
– Далеко ли она заведет, такая эволюция? Половинку червя сожрут или у ближайшего куста, или немного дальше...
– Пусть у следующего куста,– махнул рукой Саади.– Все равно рано или поздно найдется хищник, проявление разума которого поставит его над всей остальной органической природой...
– Бросьте, профессор, сколько раз оказывалось, что хищник, которому приписывали разум, не прислушивался даже к инстинктам самосохранения.