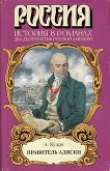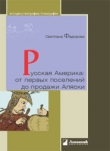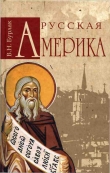Текст книги "Коронка в пиках до валета. Каторга"
Автор книги: Влас Дорошевич
Соавторы: Василий Новодворский
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 56 страниц)
Шпанка – это Панургово стадо, это задавленная «масса» каторги, ее бесправный плебс. Это те крестьяне, которые «пришли» за убийство в пьяном виде во время драки на сельском празднике; это те убийцы, которые совершили преступление от голода или по крайнему невежеству; это жертвы семейных неурядиц, злосчастные мужья, не умевшие внушить к себе пылкую любовь со стороны жен, это те, кого задавило обрушившееся несчастье, кто терпеливо несет свой крест, кому не хватило силы, смелости или наглости завоевать себе положение в тюрьме. Это люди, которые, отбыв наказание, снова могли бы превратиться в честных, мирных, трудящихся граждан.
Потому-то и иван, и храп, и игрок, и даже несчастный жиган отзываются о шпанке не иначе, как с величайшим презрением:
– Нешто это арестанты! Так – от сохи взят на время. [28]28
«От сохи на время» – так называются, собственно, невинно осужденные. Но это презрительное название каторга распространяет и на всю шпанку.
[Закрыть]
Настоящая каторга, ее «головка»: иваны, храпы, игроки и жиганы, – хохочет над шпанкой.
– Да нешто он понимал даже, что делал! Так – несуразный народ.
И совершенно искренне не считает шпанку за людей:
– Какой это человек? Так – сурок какой-то. Свернется и дрыхнет!
У этих вечно полуголодных людей, с виду напоминающих босяков, есть два занятия: работать и спать. Слабосильный, плохо накормленный, плохо одетый, обутый, он наработается, придет и, как сурок, заляжет спать. Так и проходит его жизнь.
Шпанка безответна, а потому и несет самые тяжелые работы. Шпанка бедна, а потому и не пользуется никакими льготами от надзирателей. Шпанка забита, безропотна, а потому те, кто не решается подступиться к иванам, велики и страшны, когда им приходится иметь дело со шпанкой. Тогда «мерзавец», как гром, гремит в воздухе. «Задеру», «сгною», – только и слышится обещаний!
Шпанка – это те, кто спит не раздеваясь, боясь, что «свистнут» одежонку. Остающийся на вечер хлеб они прячут за пазуху, так целый день с ним и ходят, а то стащат. Возвращаясь с работы в тюрьму, представитель шпанки никогда не знает, цел ли его сундучок на нарах или разбит и оттуда вытащено последнее арестантское добро.
Их давят иваны, застращивают и обирают, храпы, над ними измываются игроки, их обкрадывают голодные жиганы.
Шпанка дрожит от всякого и каждого. Живет всю жизнь дрожа, потому что в этих тюрьмах, где должны «исправляться и возрождаться» преступники, царит самоуправство, произвол иванов, полная власть сильного над слабым, отпетого негодяя над порядочным человеком.
Горе матвея [29]29«Матвеем» называется на каторге хозяйственный мужик. Не каторжник, не пьяница, не вор и не мот – это, по большей части, тихий, смирный, трудолюбивый, безответный человек. Я привожу эти два рассказа как характеристику «подвигов иванов».
[Закрыть]
Мы шли со смотрителем по двору тюрьмы. Время было под вечер. Арестанты возвращались с работ.
– Не угодно ли посмотреть на негодяя? Пойди сюда! Где халат? – обратился смотритель к арестанту, шедшему, несмотря на ненастную погоду, без халата. – Проиграл, негодяй? Проиграл, я тебя спрашиваю?
Арестант молча и угрюмо смотрел в сторону.
– Чтоб был мне халат! Слышишь? Кожу собственную сдери да сшей, негодяй! Пороть буду! В карцере сгною! Слышал? Да ты что молчишь? Слышал, я тебя спрашиваю?
– Слышал! – глухим голосом отвечал арестант.
– То-то, «слышал»! Чтоб халат был! Пшел!
И чрезвычайно довольный, что показал мне, как он умеет арестантам «задавать пфейфера», смотритель (из бывших ротных фельдшеров) пояснил:
– С ними иначе нельзя. Не только казенное имущество – тело, душу готовы промотать, проиграть! Я ведь, батенька, каторгу-то знаю как свои пять пальцев! Каждого как облупленного насквозь вижу!
Промотчик, игрок, действительно способный проиграть и душу и тело, проигрывающий свой паек часто за полгода, за год вперед, проигрывающий не только ту казенную одежду, какая у него есть, но и ту, которую ему еще выдадут, проигрывающий даже собственное место на нарах, проигрывающий свою жизнь, свою будущность, меняющийся именами с более тяжким преступником, приговоренным к плетям, вечной каторге, кандальной тюрьме, – этот тип очень меня интересовал, – и на следующий же день, в обеденное время, я отправился в тюрьму уже один, без смотрителя, и попросил арестантов позвать ко мне такого-то.
– А вам, барин, на что его? – полюбопытствовали арестанты, среди которых были такие, симпатиями и доверием которых я уже заручился.
– Да вот хочется посмотреть на завзятого игрока. Среди арестантов раздался смех.
– Игрока!
– Да что вы, барин! Они вам говорят, а вы их слушаете. Да он и карт-то в руках отродясь не держал! А вы – «игрока»!
– А как же халат?
– Халат-то?
Арестанты зашушукались. Среди этого шушуканья слышались возгласы моих знакомцев:
– Ничего! Ему можно!.. Он не скажет!.. Он не выдаст!..
И мне рассказали историю этого проигранного халата.
Мой «промотчик» оказался тихим, скромным матвеем, вечным тружеником, минуты не сидящим без дела.
Дня два тому назад он сидел на нарах и, по обыкновению, что-то зашивал, как вдруг появился иван, из другого отделения, или «номера», как зовут арестанты.
– Слышь, ты, – обратился он к моему матвею, – меня зачем-то в канцелярию к смотрителю требуют. А халат я продал. Дай-кась свой надеть. Слышь, дай! А то смотритель увидит без халата, в сушилку [30]30
Карцер.
[Закрыть]засадит.
Если бы матвею сказали, что его самого засадят в сушилку, он не побледнел бы так, как теперь.
Он не даст халата, из-за него засадят ивана в сушилку. За это обыкновенно «накрывают темную», то есть набрасывают человеку на голову халат, чтобы не видел, кто его бьет, и бьют так, как умеют бить только арестанты: коленами в спину, без знаков, но человек всю жизнь будет помнить.
Приходилось расстаться с халатом.
Иван, разумеется, ни в какую канцелярию не ходил, да его и не звали, а просто пошел в другой «номер» и проиграл халат в штосс.
И никто не вступился за бедного матвея, когда у него отнимали последнее имущество, за которое придется отвечать спиной. Никто не вступился, потому что:
– С иванами много не наговоришь!..
Пока мне рассказали всю эту историю, привели и самого матвея.
– Ну, где же, брат, халат?
Матвей молчал.
– Да ты не бойся. Барин все уже знает. Ничего тебе плохого не будет! – подталкивали его арестанты.
Но матвей продолжал так же угрюмо, так же понуро молчать.
На каторге ничему верить нельзя. Во всем нужно убедиться лично.
Посмотрел я на матвея, и по одежде впрямь матвей – на бушлате ни дырочки, все зашито, заштопано.
Спросил, где его место, пошел, посмотрел сундучок. Сундучок настоящего матвея: тут и иголка, и ниток моток, и кусочек сукна – «заплатку пригодится сделать», – и кусочек кожи, перегорелой, подобранной на дороге, и обрывок веревки, «может, подвязать что потребуется». Словом, типичный сундучок не промотчика, не игрока, а скромного, хозяйственного, бережливого арестанта.
– За сколько халат-то заложен?
– В шести гривнах с пятаком пошел. До петухов [31]31
Заложить «до петухов» – заложить до утра.
[Закрыть]закладали. Теперь уже третьи сутки пошли. Три гривны проценту, значит, наросло.
Я дал матвею рубль.
Надо было видеть его лицо.
Он даже не обрадовался – он просто оторопел. На лице было написано изумление, почти испуг.
С минуту он постоял молча с бумажкой в руке, затем кинулся опрометью из камеры, под веселый хохот всей арестантской братии.
Я потом встречал его много раз. И всякий раз, несмотря ни на какую погоду, обязательно в халате. Он, кажется, и спал в нем.
Всякий раз, завидев меня, он еще издали снимал шапку и улыбался до ушей, а на мой вопрос: «Ну что, как халат?» – только смеялся и махал рукой:
– Попал, мол, было в кашу!
Дня через три после выкупа мы встретили его со смотрителем.
– Ага, нашелся-таки халат?
Матвей молчал.
Смотритель торжествовал.
– Видите, пригрозил – и нашелся! С ними только надо уметь обращаться. Я, батенька, каторгу знаю! Вот как знаю. Они сами себя так не знают, как я их, негодяев, знаю.
Я не стал разубеждать доброго человека. К чему?
Бессрочный испытуемый ГловацкийСорок семь лет, а он признан неспособным уже ни на какую работу.
Избитый, искалеченный, вогнанный в чахотку, приговоренный всю свою жизнь не выходить из кандальной, – перед вами действительно, быть может, самый несчастный человек на свете.
Ложась спать, он не знает, встанет ли завтра, или арестанты ночью его задушат. Он ни на секунду не может расстаться с ножом. Должен каждую минуту дрожать за эту несчастную жизнь.
На голову этого человека свалилось так много незаслуженных бед, несправедливостей, неправды, что, право, начинаешь верить Гловацкому, что и на Сахалин он попал безвинно.
Николай Гловацкий, мещанин Киевской губернии, города Звенигородки, присужден к бессрочной каторге за то, что повесил свою жену.
Окончивший курс уездного училища, по ремеслу шорник, Гловацкий в 1876 году женился, а в 1877-м – ушел в военную службу. Вернувшись через пять лет, он уже не узнал своей жены. За это время она успела «избаловаться», меняла друзей сердца и не хотела тихой семейной жизни. А Гловацкий был влюблен в свою жену. Он отыскал себе место в имении графини Дзелинской, в Волынской губернии, и увез туда жену, думая, что вдали от соблазна жена исправится и сделается честной женщиной. Но она бежала из имения. Гловацкий быстро хватился ее, догнал и под вечер привез домой. Это была бурная и тяжелая ночь. По словам Гловацкого, жена была в каком-то исступлении, она кричала:
– Ты противен мне. Понимаешь ли, противен! Ничего, кроме отвращения, я к тебе не чувствую. Мне что ты, что лягушка.
Вот как ты мне мерзок. Мне в петлю легче, приятнее, чем быть твоей женой!
Она расхваливала ему интимные достоинства своих друзей сердца. Говорила вещи, от которых у Гловацкого голова шла кругом. Он просил, умолял ее опомниться, образумиться, плакал, грозил. И наконец, измученный вконец, под утро задремал.
– Но вдруг проснулся, – рассказывает Гловацкий, – словно меня толкнуло что. Смотрю, – жены нет. Зажег фонарь, выбежал из дома вслед, догнать. Выбегаю, а она около дома на дереве висит. Повесилась.
Гловацкий, по его словам, от ужаса не помнил, что делал. Никто не видал, как он вечером привез жену назад. Знали только, что она сбежала. И Гловацкий почему-то захотел скрыть ужасный случай.
– Почему, и сам не знаю, – говорит он.
Он снял труп с дерева, положил в мешок, пронес через сад и бросил в реку. Через несколько дней труп в мешке прибило где-то, ниже по течению, к берегу. Гловацкий на все вопросы твердил:
– Знать не знаю и ведать не ведаю.
По знакам от веревки нарисовали трагедию. И Гловацкий был осужден в бессрочную каторгу за то, что, потихоньку привезя домой жену, он повесил ее и, чтобы скрыть следы преступления, хотел утопить труп в реке.
Пусть он в этом и будет виновен. Не будем верить его рассказу. Ведь они все говорят, что страдают безвинно. Тайну своей смерти унесла с собой покойная Гловацкая. И разрешить, кто прав, правосудие или Гловацкий, – невозможно. Но вот дальнейшие факты, свидетели которых живы.
На Сахалин Гловацкий пришел в 1888 году. Как бессрочный каторжник, Гловацкий был заключен в существовавшую еще тогда страшную Воеводскую тюрьму, о которой сами господа смотрители говорят, что это был «ужас». В течение трех лет Гловацкий получил более 500 розог, все за то, что не успевал окончить заданного урока. Напрасно Гловацкий обращался за льготой к тогдашнему врачу Давыдову. Этот типичный «осахалинившийся» доктор отвечал ему то же, что он отвечал всегда и всем:
– Что же я тебя в комнату посажу, что ли?
За обращение к доктору Гловацкого считали лодырем и отправляли на наиболее тяжкие работы – на вытаску бревен из тайги.
– Три раза за одно бревно пороли: никак вытащить не мог, обессилел! – вспоминает Гловацкий одно особенно памятное ему дерево.
Вообще в этих воспоминаниях Гловацкого, как и вообще в воспоминаниях всех каторжников бывшей Воеводской тюрьмы, ничего не слышно, кроме свиста розог и плетей.
Ведут, бывало, к Фельдману, только молишь Бога, чтобы дети его дома были. Дети – дай им, Господи, всего хорошего, всех благ земных и небесных – не допускали его до порки. Затрясутся, бывало, побледнеют: «Папочка, не делай этого, папочка, не пори!» Ему перед ними станет совестно, ну и махнет рукой. Вся каторга за них Бога молила.
Но и это было небольшим облегчением.
– Что Фельдман! Старшим надзирателем тогда Старцев был.
Бывало, пока до Фельдмана еще доведет, до полусмерти изобьет. Еле на ногах стоишь!
Все тяжелее и тяжелее было жить этому измученному человеку. В 92-м году он и совсем, как говорят на Сахалине, «попал под колесо судьбы».
– Иду как-то задумавшись, вдруг окрик: «Ты чего шапки не снимаешь?» Господин Дмитриев. Задумался и не заметил, что он на крылечке сидит. «Дать ему сто!»
Но Гловацкому дали только 50. После пятидесятой розги он был снят с «кобылы» без чувств и два дня пролежал в околотке. Не успел поправиться – новая порка. Играли в тюрьме в карты рядом с местом Гловацкого. Как вдруг нагрянул тогда заменявший начальника округа Шилкин. Стремщики не успели предупредить, тюрьма была захвачена врасплох. Карты не успели спрятать и бросили как попало на нары.
– Чье место? – спросил начальник, указывая на карты.
– Гловацкого!
– Сто!
– Да я не играл…
– Сто!
И Гловацкому, действительно вовсе не играющему в карты, всыпали сто. На этот раз Гловацкий выдержал всю сотню, но после наказания даже тогдашний сахалинский доктор положил его на три дня в лазарет и дал после этого неделю отдыха.
– Только вышел, иду, еле ноги двигаю, – голос. Господин Шилкин перед очами. Ну, ей-Богу, мне с перепуга показалось, что он из-под земли передо мной вырос. И не заметил, что он в сторонке сидел. «Так ты вот еще как? Ты сопротивничать? Не кланяться еще вздумал? Пятьдесят». Дали. Вижу, душа уж с телом расстается. Смерть подходит неминучая.
Как раз в это время один кабардинец собирал в Воеводской тюрьме партию для побега. Кабардинцу предстояло получить 70 плетей. Он подбирал людей, для которых смерть была бы, как и для него, – ничто. К этой-то партии и примкнул Гловацкий. Бежали четверо кавказцев, Гловацкий и каторжник Бейлин, сыгравший впоследствии страшную роль в жизни Гловацкого.
Бейлин после ухода из тюрьмы отделился от партии и пошел бродяжить один. А пятеро беглецов сколотили плот и поплыли по Татарскому проливу.
– Плывем. Вдруг дымок показался. Смотрим – катер. Заметили нас. Полицмейстер Домбровский вслед катит. Значит, не судьба. Ждем своей участи. Бьет это нас волнами, бросает наш плот. Ветром брезентовый пиджак – тут лежал – подхватило, в воду снесло. Я его шестом хотел достать, – куда тебе, унесло. Подходит катер. «Сдавайтесь!» – Домбровский кричит. Мы – по положению: на колени становимся. Взяли нас на катер. «А зачем человека в воду бросили?» – полицмейстер спрашивает. – «Какого человека?» – «Не отпирайтесь, – говорит, сам видел, как человек в воду полетел. Вот этот вот, русский, его еще шестом отпихивал». – «Да это, мол, пиджак, а не человек». – «Ладно, – говорит, – разберемся. Сам видел». Привозят в тюрьму. Бежало шестеро, а привели пятерых, Бейлина нет. «Где Бейлин?» – спрашивают. Клянемся и божимся, что Бейлин отделился, один пошел. Веры нет – «сам полицмейстер видел, как Гловацкий человека в воду бросил и шестом топил».
Пошло дело об убийстве Гловацким во время побега арестанта Бейлина.
– Два года как тяжкий подследственный в кандалах сижу, пока идет суд да дело. Жду либо виселицы, либо плетей – насмерть запорют. Начальству божусь, клянусь, – смеются: «А вот явится с того света Бейлин, тогда тебя оправдают. Другого способа нет».
Как вдруг в 1894 году «Ярославль» привозит на Сахалин Бейлина. Бейлину удалось добраться до России, там он попался, сказался бродягой непомнящим и пришел теперь в каторгу как бродяга на полтора года.
Бросился Гловацкий к Бейлину.
– Скажись. Ведь меня судят, будто я тебя убил.
Бейлин отказывается.
– Нет. Какой мне расчет полтора года на долгий срок да на плети менять.
Гловацкий обратился к каторге:
– Братцы! Да вступитесь же! Ведь вы знаете, что это Бейлин!
Но Бейлин, у которого были маленькие деньжонки, подкупил иванов. Иваны, эти законодатели, судьи и палачи, объявили:
– Убьем, кто донесет. Старый порядок: бродягу не уличат.
Тогда, видя, что все равно приходится гибнуть, Гловацкий явился сам по начальству.
– Меня обвиняют в убийстве Бейлина, а Бейлин жив, здесь.
Вот он!
Сличили с карточками, допросили арестантов, Бейлин должен был сознаться. Дело об его убийстве прекратили, и Гловацкого за побег приговорили к 11 годам «испытуемости» и 65 плетям.
– Только за шесть дней отлучки! – говорит он, и на глазах навертываются слезы при воспоминании об этих 65 плетях.
Бейлину за побег тоже вышла прибавка срока и плети, и он решил отомстить.
– Десять рублей не пожалею, а Гловацкому не жить!
За десять рублей на Сахалине можно нанять убийц и перерезать целую семью.
За десять рублей иваны нанялись повесить Гловацкого в укромном месте. Но Гловацкому кто-то за двадцать копеек выдал заговор иванов.
– Что было делать? Донести начальству – невозможно. И так и этак – все равно убьют.
Гловацкий запасся ножом и решил быть начеку. Однажды, когда Гловацкий перед вечером шел к «укромному месту», на него кинулась шайка иванов, и один из них, Степка Шибаев, накинул ему на шею петлю. Гловацкий успел, однако, схватить одной рукой веревку, а другой ударил Степку ножом в живот.
Иваны кинулись в сторону.
– Что же вы, подлецы? – кричал им Гловацкий и, наклонившись к корчившемуся в предсмертных муках Шибаеву, спросил: – Ну что, задавили Гловацкого, мерзавец?
В тюрьме убийство. Явилось начальство. Умирающего Степку отнесли в лазарет. Гловацкого арестовали и посадили в особое отделение.
Между тем иваны пришли в себя. Они кинулись в отделение, где сидел обезоруженный Гловацкий, выломали двери и били его до полусмерти. Переломили ему руку, разбили лоб, отбили все внутренности. К счастью или к несчастью, подоспела стража, и Гловацкого еле вырвали полуживого, без сознания, из рук озверевших людей.
Гловацкий остался искалеченный на всю жизнь. Ему даже говорить трудно. Он задыхается.
Следствие на Сахалине вели кто придется, люди вовсе не знакомые с этим делом. [32]32
Только года четыре тому назад на Сахалин назначены были наконец впервые двое следователей, они же мировые судьи.
[Закрыть]Свидетелями допрашивались те же иваны, которые конечно, засыпали Гловацкого:
– Убил по злобе!
И Гловацкий, только защищавший свою жизнь, приговорен к пожизненной «испытуемости», к пожизненному содержанию в кандальной тюрьме и 30 плетям. Плетей не дали. Какие же плети полуумирающему? Доктор признал его неспособным к перенесению телесного наказания. Но за жизнь, сидя в кандальной, Гловацкий должен дрожать день и ночь, каждую минуту: иваны приговорили его к смерти и за Бейлина, и за Степку.
– Вот у нас поистине страдалец! – говорил мне смотритель тюрьмы господин Кнохт.
– Да что же вы-то?
– А я что могу? Следствие так повели! Я обращался к каторжанам:
– Вы чего же молчали?
– Что это? Соваться – сказывать, что иваны нанялись его убить. Убьют!
Бейлин содержится в той же тюрьме. Я говорил с ним.
– Ведь из-за тебя невинного человека повесить могли. Чего же ты сам не сказал?
– Мне это не полезно. Мне о других думать нечего. Всякий за себя.
Гловацкий никуда не выходит из своего «номера». Для бесед со мной его водили по тюремному двору под конвоем, а то убьют.
– Я и так нож всегда при себе ношу. Иваны мне Степки не простят. Сказали: убьют – и убьют. Так вот живу и жду.
И этот несчастнейший человек в мире, обреченный на смерть в кандальной, когда я его спросил, не могу ли быть чем-нибудь полезен, просил меня не за себя, а за другого:
– Ему очень тяжко.
Каторжные типыСерые лица и халаты. Какой однообразной кажется толпа каторжан. Но когда вы познакомитесь поближе, войдете в ее жизнь, вы будете различать в этой серой массе бесконечно разнообразные типы. Мы познакомимся с главнейшими – с теми, про которых можно сказать, что они составляют «атмосферу тюрьмы», ту атмосферу, в которой нарождаются преступления и задыхается все, что попадает в нее мало-мальски честного и хорошего.
Если вы войдете в тюрьму в обеденное время, вам, конечно, прежде всего бросится в глаза небольшой ящик, на котором расставлены бутылочки молока, положены вареные яйца, кусочки мяса, белый хлеб. Тут же лежат сахар и папиросы. Где-нибудь под нарами, можете быть вполне уверены, отлично спрятаны водка и карты. Это – майдан. Около этого буфета вы увидите фигуру, по большей части, татарина-майданщика. Прежде, в сибирские времена каторги, майданы держали исключительно бродяги. Каторга там была богаче. Тюрьма получала массу подаяний. Русский народ считает святым долгом подавать «несчастненьким», и, пространствовав пешком по городам и весям, партия арестантов приходила на каторгу с деньгами. Тогда майданщики наживали в тюрьме тысячи – бродяги обирали тюрьму. Вот откуда и ведется теперешняя ненависть и презрение каторги к бродягам. Это ненависть историческая, восходящая еще к страшным разгильдеевским временам. Эта ненависть передана одним поколением каторги другому. Каторга вымещает бродягам обиды исторические. Мстит за давние угнетения, своеволие, обирательство. Теперь денежная власть из рук бродяг перешла к татарам. Нищую сахалинскую каторгу обирают татары, как «богатую» сибирскую каторгу обирали бродяги. Вот причина той страшной ненависти к татарам, которую я никак не мог понять, когда у нас в трюме парохода арестанты чуть не убили татарина только за то, что он нечаянно наступил кому-то на ногу. Эта национальная ненависть носит экономическую подкладку.
Все богатеи Сахалина, зажиточные поселенцы, на которых вам с такой гордостью указывают, по большей части нажились в тюрьме на майдане.
– Нескладно! – упрекал я каторжника, когда он рассказывал мне, как зарезали одного зажиточного поселенца. – Свой же брат трудом, потом, кровью нажил, а вы же его убили!
– Трудом! – каторжник даже рассмеялся. – Будет, ваше высокое благородие, их-то жалеть, – вы нас лучше пожалейте! Трудом! При мне же в тюрьме майдан держал; сколько из-за него народа погибло!
Майдан – это закусочная, кабак, табачная лавочка, игорный дом и доходная статья тюрьмы. Тюрьма продает право ее эксплуатировать. Майдан сдается обыкновенно на один месяц с торгов первого числа. Майданщик платит по 15 копеек каждому арестанту камеры, если у него играют только в «арестантский преферанс», и по 20 копеек, если игра идет еще и в штосс и в кончинку. Кроме того, майданщик должен нанять по 1 рублю 50 копеек двоих каморщиков, обыкновенно несчастнейших жиганов, которые обязуются выносить парашу, подметать, или, вернее, с места на место перекладывать сор, мыть тюрьму, или, вернее, разводить водой и размазывать жидкую грязь.
Майданщик же должен держать и стремщика, который за пятнадцать копеек в день стоит у дверей и должен предупреждать:
– Дух! – если идет надзиратель.
– Шесть! – если идет начальство.
– Вода! – если грозит вообще какая-нибудь опасность. За это тюрьма обязуется охранять интересы майданщика и смертным боем бить всякого, кто не платит майданщику долга. Тюрьме нет дела до того, при каких условиях задолжал товарищ майданщику. Майданщик кричит:
– Что же вы, такие-сякие, деньги с меня взяли, а бить не бьете?
И тюрьма бьет насмерть:
– Задолжал – так плати.
Самый выгодный и хороший товар майдана – водка. Цена на нее колеблется, глядя по месту и по обстоятельствам, но обыкновенная цена бутылке слабо разведенного спирта в тюрьме для исправляющихся – от 1 рубля до 1 рубля 50 копеек. Водка очень слабая, оставляет во рту только скверный вкус, и у меня вечно выходили из-за этого пререкания с самым старым каторжником на Сахалине, [33]33
Пятьдесят лет в каторге. Три «вечных» приговора.
[Закрыть]дедушкой русской каторги Матвеем Васильевичем Соколовым.
– Чего ты мне все деньги даешь! Ты сам пойди в майдан, выпей – кака така там есть водка! Ты меня к себе позови, кухарке вели, чтобы чашечку поднесла. Это вот – водка!
Цены на остальные товары в майдане следующие: бутылку молока, которая самим им достается за 3–4 копейки, майданщики продают по пятачку. Яйцо – 3 копейки, самому – 1 рубль 20 копеек сотня. Хлеб белый – 6 копеек фунт, самому – 4 копейки. Свинина – другого мяса в тюрьме нет, коров поселенцы не продают: нужны для хозяйства, – вареная свинина режется кусочками по 1/6 фунта, кусочек – 5 копеек, фунт сырой свинины – 20–25 копеек. Кусочек сахару – копейка. Папироса – копейка.
Это все за наличные деньги. Можете себе представить, по каким ценам все это отпускается в кредит! Главнейшая статья дохода майданов, как и наших клубов, – карты. Майданщик получает 10 процентов с банкомета и 5 – с понтера. Кроме того, майданщики занимаются, конечно, и ростовщичеством, покупкой и сбытом краденого. Все почти, что заработает, украдет или из-за чего убьет тюрьма, переходит в конце концов в руки майданщика.
Майданщик играет огромную роль при сменках, которые называются на арестантском языке «свадьбой». Свадьба обыкновенно происходит так. Если в тюрьме есть долгосрочный арестант, желающий сменяться именем и «участью» с краткосрочным, – он входит в компанию с иванами, храпами, и они привлекают к участию в деле обязательно майданщика. Они подыскивают подходящего по внешнему виду краткосрочного арестанта, по большей части бедняка, и начинают за ним охоту. Когда с человеком сидишь 24 часа вместе, поневоле изучишь его нрав, характер, узнаешь склонности и маленькие слабости. Компания начинает работать. Майданщик вдруг входит в необыкновенную дружбу с намеченной жертвой. Предлагает голодному в кредит что угодно:
– Ты ничего. Ты бери. Ты парень, я вижу, добрый. Из дома тебе пришлют, может, подаяние будет, а либо заработаешь, украдешь что. Я поверю. Ты парень честный. Да ты водочки не хочешь ли?
И майданщик подносит чашечку водочки.
– Пей, пей! Потом сочтемся!
Захмелевший арестант просит другую. Хмелеет сильнее. А тут сосед «затирает».
– Ты что? Ты человек фартовый! Ты в карты сядь, – завсегда и водка, и все будет… Смотри вон, такой-то. Сколько деньжищ сгреб, как живет: водка не водка! Ты не робей главное!
– Денег нету…
– А ты у майданщика попроси. Он к тебе добрый, даст на розыгрыш! Эй, дядя…
– Чего? Деньжонок на розыгрыш? Играй – плачу за тебя, потом сочтемся!
Тут на сцену выступает мастак, обыгрывающий простака наверняка. Несколько рублей, которые «для затравки» спервоначала дают простаку выиграть, кружат ему голову.
– Ловко! Молодца! Бухвость его! Дуй в хвост и гриву! – подзадоривают толпящиеся около иваны.
– Видать птицу по полету! За этаким не пропадет! Подать водочки? – предлагает майданщик.
А опьяневший от вина и успеха герой вопит:
– Бардадым два целковых! Шеперка полтина очко!
– Так его! Так! Дуй! Эта бита – другая будет дана! Мечи, сиволапый черт, не любишь проигрывать?..
Бита!.. Бита!.. Бита!..
Словом, когда наутро «герой» просыпается с головой, готовой треснуть от вчерашнего похмелья, у него проиграно все: казенная дачка хлеба за год вперед… С голода мри… А тут еще барахольщик подходит:
– Отлежался, мил человек! Скидавай-ка бушлат да штаны.
Помнишь, как вчера мне продал!
«Герой» с ужасом припоминает, как вчера действительно, кажется, что-то в этом роде было.
– А не помнишь – тюрьма напомнит. Вот они все видели! – барахольщик указывает на иванов. – При нас было!
– Ты и следующую-то дачку тоже не забудь мне отдать. За год вперед проиграно. Аль забыл? Ребер, брать, не бывает у тех, кто забывает. Порядок арестантский – известный.
А тут и майданщик подходит:
– Начудил ты тут вчера, мил-человек! Теперь за расплату возьмемся. По майдану ты мне задолжал столько-то, да проигрышу я за тебя заплатил столько-то. Выкладай! Где денежки?
– Да ведь ты же вчера говорил…
– То другое дело, милый человек! А вчерашнего числа вчерашний разговор был. А сегодняшнего – сегодний. Мне деньги нужны – за товар платить. А ежели ты должать да не платить, – так мы по-свойски. Братцы, что ж это? Грабеж?
– Какой же такой порядок в тюрьме пошел? – орут храпы. – Майданщику не платят! Мы с майданщика за майдан берем, а ему не платят! Кто же после этого майдан содержать будет? Чем тюрьма жить будет? Где такие порядки писаны?
– Мять будем, – заявляют иваны. – Нет таких порядков на каторге, чтоб задолжать да не платить!
Все проиграно, кругом в долгу. Впереди – голодная смерть и переломанные ребра.
В эту-то минуту к потерявшему голову краткосрочному и подходит крученыйарестант – торреадор каторги.
– Хочь, из беды выручу?
– Милостивец!
– Слухай, словечка не пророни. Есть тут такой-то, большесрочник, на тебя смахивает. Наймись за него в каторгу.
– На двадцать лет-то? Век загубить? – с ужасом глядит на демона-искусителя арестант, которому и каторги-то всего три-четыре года.
– Все одно – жизни тебе нет. Убьют за то, что в майдан не платишь, аль-бо с голода подохнешь! А ты слухай хорошенько. Ты человек молодой, порядков не знаешь, а я человек крученый, все ходы и выходы знаю. Зачем навек иттить? Сбежим за первый сорт! Да тебе и вся, сколько есть, каторга поможет! Мы завсегда таких освобождаем! Сколько таких-то бегало. Такой-то, такой-то, такой-то!..
Крученый сыплет небывалыми фамилиями:
– Не слыхал? Так ты у других спроси, какие поумнее. Бежал, сказался бродягой, никто не выдаст, – на полтора года. Любехонько. Сухарнику ли не житье! А ты, мил-человек, пойди к долгосрочнику да в ножки поклонись: чтоб тебя взял. Нас, таких-то, много.
Если будущий сухарник не соглашается, крученому остается только мигнуть.
– Бей его! – вопит майданщик.
И каторга принимается истязать неисправного плательщика. На первый раз бьют без членовредительства, по большей части ногами между лопаток, и отнюдь не «в морду», чтоб сменщика «не портить». Но предупреждают:
– А дальше не то тебе, такому-сякому, будет! До тех пор бить станут, пока все до копеечки в майдан не отдашь!
Иваны и храпы следят за ним и не отступают ни на шаг: чтоб не повесился. Голодный, избитый, во всем отчаявшийся, он идет к долгосрочнику и говорит:
– Согласен!
– Помни же! Не я звал – сам напросился. Чтоб потом не на попятную.
И начинается торг на человеческую жизнь. Торг мошеннический: долгосрочный арестант будто бы платит майданщику огромные фиктивные долги сменщика. А иваны и храпы, делая вид, будто они набивают цену, на самом деле оттягивают всякий грош у несчастного.
– Ты уж и ему дай, что на разживку! – орут храпы.
– С чего давать-то? – кобенится наемщик. – Эку прорву деньжищ-то платить! В майдан плати! У барохольщика его выкупи! За пайку за год вперед заплати. С чего давать?
– Ну дай хоть пятишку! – великодушничает какой-нибудь иван. – Не обижай! Парень-то хорош. Да и по приметам подходит.
– Давать-то не из-за чего!
– Хошь пополам получку! – шепчет несчастному храп. – За тебя орать стану, а то ничего не дадут. Хошь, что ли?
– Ори!
– Чаво там пятишку! – принимается орать храп. – Красненькую дать не грешно. Ты уж не обижай человека-то: твое ведь имя примет. Грехи несть будет! Давай красный билет!
– Пятишку с него будет.
– Красную!
– Цен этих в каторге нет! Деньги-то ведь настоящие, не липовые. [34]34
Липовые – фальшивые деньги.
[Закрыть]