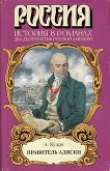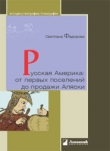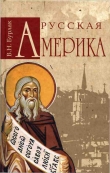Текст книги "Коронка в пиках до валета. Каторга"
Автор книги: Влас Дорошевич
Соавторы: Василий Новодворский
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 56 страниц)
Каторга – это официальное название. Неофициально каторга зовет себя добродушно-ироническим именем «кобылка».
– Ну, как поживаете, братцы?
– Ничего себе, ваше высокоблагородие, наша кобылка живет.
– Это что, тоже рабочий? – спрашиваете вы про кого-нибудь.
– Наш же, кобылка.
Название, происходящее от слова «кобылка», – скамья, на которой дерут арестантов.
Каторжане, как известно, доставляются на Сахалин двумя путями: или сплавляются морем, через Одессу, или идут Сибирью, через Кару.
Соответственно этому, каторжники делятся на кругоболотинцев, или галетников, и каринцев, или терпигорцев.
Название «галетник» – название даже слегка презрительное.
– Что они там видели? Плыли да ели галеты. Только и всего!
Тогда как каринцы пользуются и некоторым почетом и уважением каторги.
Странствуя по сибирским этапам, они натерпелись горя, почему и зовутся терпигорцами.
В сибирских «централах» (центральных тюрьмах) и на Каре они прошли высший курс каторги, побывали, так сказать, в академии каторги. Знают все порядки, обычаи, законы. Сибирский каторжник вообще в почете у сахалинцев: в Сибири каторга крепче держится друг друга, там есть свои выработанные законы, твердые и ненарушимые, там есть товарищество, чего вовсе нет на Сахалине. [26]26
Уже уехав с Сахалина, во Владивостоке я прочел в газетах, что прежнее пешее путешествие по этапам заменяется перевозкой по железной дороге. Прочел и от души порадовался за злосчастных терпигорцев. Сколько народа скажет спасибо за это облегчение тяжкого пути. Сколько лишних, ненужных страданий упразднено, сколько ужасов, творившихся на этих этапах, отойдет в область преданий. Сколько народу будет буквально спасено. Из моих дальнейших очерков вы увидите, что такое были эти этапы, и какую роковую роль они играли в жизни многих каторжан.
[Закрыть]
Скоро, однако, это различие сглаживается. «Кругоболотинец» быстро входит в курс, осваивается с нравами и обычаями каторги, становится почище всякого каринца, – и тогда слова «каринец», «галетник» раздаются только во время перебранки:
– Молчи ты! С кем говоришь-то, мараказия! Я, по крайности, настоящий каринец. А ты кто? Тьфу! Одно слово, галетник!
Каторга делится на четыре касты:
1) иванов,
2) храпов,
3) игроков,
и 4) несчастную шапанку.
Это аристократия и демократия каторги, ее правящие классы и подчиненная масса, патриции, плебеи и рабы.
ИваныИваны – это зло, это язва, это бич нашей каторги, ее деспоты, ее тираны.
Иван родился под розгами, плетью крещен, возведен в звание ивана рукой палача.
Это тип исторический. Он народился в те страшные времена, правдивая история которых «неизгладимыми чертами» написана на спинах стариков-«богодулов» Дербинской каторжной богадельни.
Он родился на Каре во «времена разгильдеевские», о которых и теперь вспоминают с ужасом. [27]27
Разгильдеев – тогдашний начальник Карийской каторги. Время, близкое к эпохе «Мертвого дома».
[Закрыть]
Тогда в «разрезе», где добывают золото, всегда была наготове «кобыла» и на дежурстве палач. Розги тогда считались сотнями, да и то считалась только «одна сторона», то есть человеку, приговоренному, положим, к сотне ударов, палач давал сотню с одной стороны, а затем заходил с другой и давал еще сотню, причем последняя сотня в счет не шла. Два удара считались за один. Секли не розгами, а комлями, то есть брали розгу за тонкий конец и ударяли толстым. По первому удару показывалась уже кровь. Розги ломались, а занозы впивались в тело. Уроки, то есть заданные на день работы, были большие, и малейшее неисполнение урока влекло за собой немедленное наказание.
Тогда всякая вина была виновата – и малейшая дерзость, самое крошечное противоречие простому надзирателю из ссыльных вели за собой жестокое истязание.
В это-то тяжелое время, под свист розг, комлей и плетей, и родился на свет иван.
Отчаянный головорез, долгосрочный каторжник, которому нечего терять и нечего ждать, он являлся протестантом за всю эту забитую, измученную, обираемую каторгу. Он протестовал смело и дерзко, протестовал против всего: против несправедливых наказаний, непосильных уроков, плохой пищи и тех смешных детских курточек, которые выдавались арестантам под видом «одежды узаконенного образца».
Иван не молчал ни перед каким начальством, протестовал смело, дерзко, на каждом шагу.
Иванов приковывали к стене, к тачке, заковывали в ручные и ножные кандалы, драли и комлями, и плетьми. Иваны в счете полученных ими на каторге плетей часто переваливали за две тысячи, а розог не считали совсем.
Все это окружало их ореолом мученичества, вызывало почтение.
Начальство их драло, но побаивалось. Это были люди, не задумывавшиеся в каждую данную минуту запустить нож под ребро, люди, разбивавшие обидчику голову ручными кандалами.
В то время иваны представляли из себя нечто вроде рыцарского ордена. Иван был человеком слова. Сказал – значит, будет. Сказал убьет – убьет. Должен убить.
Это вызывало боязнь, дрожь пред иванами.
Угроза для смотрителей и надзирателей, эти действительно на все способные люди были грозой для каторги.
Это были ее деспоты, тираны, грабители.
Иван прямо, открыто, на глазах у всех брал у каторжных последние, тяжким трудом нажитые крохи, тут же, на глазах у хозяина, пропивал, проигрывал, проматывал их – и не терпел возражений.
– Что?! Я за вас, таких-сяких, тела, крови не жалею, коли надо – веревки не побоюсь, а вы…
Что бы иван ни делал, каторга обязана была его покрывать. Часто отвечала за него своими боками. Если за преступление, совершенное иваном, карали другого, тот должен был молчать.
– Зато я терплю за вас.
Иваны держались особой компанией, стояли друг за друга и были неограниченными властелинами каторги; распоряжались жизнью и смертью; были законодателями, судьями и палачами; изрекали и приводили в исполнение приговоры – иногда смертные, всегда непреложные.
Среди бесчисленных страшных преданий о тех временах до сих пор на каторге вспоминают о казни в Омской тюрьме.
Двое иванов решили бежать. Как вдруг, чуть не накануне предполагаемого побега, их неожиданно перековали в ручные и ножные кандалы крепко-накрепко, усилили караул, – и побег не состоялся.
Два месяца иваны Омской тюрьмы производили негласно следствие:
– Кто бы мог донести?
И наконец подозрение пало на одного арестанта. В то время как он ничего не подозревал, иваны произнесли ему приговор. Конечно, смертный, потому что за донос о побеге каторга других приговоров не знает.
Две ночи работали потихоньку иваны, вынули несколько досок около стены под нарами, выкопали могилу и на третью ночь кинулись на спящего товарища, заткнули ему рот, бросили в могилу и закопали живым.
Вся тюрьма знала об этом и все молчали, не смели заикнуться.
Когда начальство хватилось пропавшего арестанта, решили, что он незаметно проскользнул и бежал, когда отворяли дверь для утренней переклички.
И только через год, когда перестраивали Омскую тюрьму, около стены, на глубине полутора аршин, нашли скелет в кандалах.
Преступники остались ненайденными. Их никто не выдал. Никто не смел выдать.
Иван – это злой гений каторги.
Сколько арестантских бунтов подняли они. Сколько народу поплатилось за эти бунты, и как поплатилось! А иваны всегда выходили сухими из воды, потому что их всегда покрывала каторга.
Таковы иваны доброго старого времени.
Ивана вы отличите сразу, с первого взгляда, лишь только войдете в тюрьму.
Лихо заломленный, на ухо сдвинутый картуз, рубашка с «кованым», шитым воротом, расстегнутый бушлат, халат еле держится на одном плече. Руки непременно в карманах.
Дерзкий, наглый, вызывающий взгляд. Невероятно нахальный, грубый и дерзкий тон.
Человек так и нарывается на какую-нибудь неприятность.
Это тот же «на все способный» головорез-большесрочник, и смотрители стараются избегать их, обыкновенно маскируя некоторую внутреннюю дрожь тем, что они «даже и говорить с такими негодяями не желают, – я, мол говорю только с хорошими людьми». Как бы там ни было, но только из-за этого «нежелания говорить» иванам сходит с рук многое такое, что, конечно, никогда бы не сошло несчастной, безответной шпанке.
Иван то же зло, тот же бич для всего, что есть в каторге мало-мальски честного, доброго, порядочного.
Это злейшие и гнуснейшие враги всякого бережливого арестанта, всякой самой малейшей «зажиточности».
Глядя по обстоятельствам, иван то открыто отнимает, то мошеннически выманивает, то просто ворует у арестанта всякую тяжким трудом добытую копейку.
Но времена уже меняются. Вместе с наступлением лучших для каторги времен наступают плохие времена для иванов.
Теперь нет уже больше этих ужасных наказаний. И с иванов спал их ореол мученичества. Они постепенно лишаются в глазах каторги своего обаяния. Их ужасная, их тираническая власть при последнем издыхании. Иваны вымирают.
И чем мягче, чем гуманнее режим, тем меньше и меньше пагубное влияние на каторгу иванов.
В Александровской тюрьме, самой большой на Сахалине, где собрана вся «головка» каторги, самые тяжкие и долгосрочные преступники и где вместе с тем телесные наказания бывают только по приговорам суда, – влияние иванов самое ничтожное. Они не пользуются никаким значением.
Их даже «забижает» шпанка! А всего несколько лет тому назад иваны Александровской тюрьмы славились на весь Сахалин!
Иваны еще держатся там, где смотрители придерживаются телесных наказаний. Там еще иван окружен некоторым ореолом, хотя, конечно, далеко не таким, как в разгильдеевские времена.
Власть и значение иванов сильно подорвали… холерные беспорядки. В этом отношении не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В атмосферу тюрьмы, в эту атмосферу навоза и крови, ворвалась струя чистого воздуха. Сахалинские тюрьмы наполнились людьми, которых на каторгу привело только несчастье. Людьми, которые совершали ужасы только потому, что их самих охватил ужас. Людьми, которые не понимали, что делали. Людьми темными, невежественными, несчастными, но не преступными. Эти свежие, честные и работящие люди не захотели подчиняться законам, уставам и порядкам, созданным убийцами. И так как их было много, то они противопоставили иванам самую действительную на каторге силу – кулаки. Почуяв в них друзей, сторонников и сообщников, бедная, ограбленная забитая иванами шпанка подняла голову и соединилась с вновь прибывшими, и против иванов стала масса. Дело дошло до того, что нескольких иванов исколотили до полусмерти. Иванов исколотили – факт, небывалый в истории каторги. Все это страшно подорвало авторитет иванов.
Но самый главный удар – это смягчение телесных наказаний. С иванов в значительной степени снят ореол мученичества. Уж теперь иван, отнимая у каторжанина последнее, не может сказать:
– А кровью и телом своим я нешто за это не плачу?
Иваны еще держатся, как я уже говорил, в тюрьмах, смотрители которых любят телесные наказания.
Но власть их все же не та, что еще очень недавно. Часто под вечер, где-нибудь в углу кандальной, вы услышите, как, собравшись в кучку, иваны вспоминают о добром, старом, невозвратном времени, когда каторга чтила иванов, об их подвигах, о том, как они правили каторгой.
Но в этих рассказах слышится элегическая нотка, чуется грусть о невозвратном прошлом.
Прежней власти, прежнего положения не вернешь.
Иваны, эти аристократы страданий, родились под свист плетей, комлей и розог. Вместе с ними они и умрут.
ХрапыХрапы – вторая каста каторги.
Им хотелось бы быть иванами, но не хватает смелости. По трусливости им следовало бы принадлежать к шпанке, но «не дозволяет самолюбие».
Храпы не стоят того, чтобы над ними долго останавливаться. Это те же «горланы» деревенского схода. Когда в тюрьме случается какое-нибудь происшествие, какая-нибудь «заворожка», храпы всегда лезут вперед, больше всех горланят, кричат, ораторствуют, на словах готовы все вверх дном перевернуть, но, когда дело доходит до «разделки» и появляется начальство, храпы молча исчезают в задних рядах.
– Ты что ж, корявый черт? – накидывается на храпа тюрьма по окончании «разделки». – Набухвостил, да и на попятную?
– А то что ж? Один я за всех вперед полезу, что ли? Все молчат, и я молчу.
И храп начинает изворачиваться, почему он смолк при появлении начальства. Но зато пусть-ка еще раз случится что-нибудь подобное, – он себя покажет! Название «храп» насмешливое. Оно происходит от слова «храпеть». И этим определяется профессия храпов: они «храпят» на все. Нет такого распоряжения, которое они сочли бы правильным. Они в вечной оппозиции. Все признают неправильным, незаконным, несправедливым. Всем возмущаются. Задали человеку урок, хотя бы и нетрудный, посадили в карцер, хотя бы и заслуженно, не положили в лазарет, хотя бы и совсем здорового, – храпы всегда орут (конечно, за глаза от начальства):
– Несправедливо!
Каторге, которая только и живет и дышит, что недовольством, это нравится. Там, где много недовольства, всегда имеют успех говоруны. А каторга к тому же любит послушать, если кто хорошо и складно говорит. Эта способность ценится на каторге высоко. Среди храпов есть очень недурные ораторы. Я сам слушал их с большим интересом, удивляясь их знанию аудитории. Какое знание больных и слабых струн своей публики, какое умение играть на этих струнах! Благодаря этому храпы иногда, когда тюрьма волнуется уж очень сильно, приобретают некоторое влияние на дела. Они «разжигают». И немало тюремных историй, за которые потом телом и кровью расплатилась бедная, безответная шпанка, возбуждено храпами. Шпанке, по обыкновению, влетело, а храпы успели вовремя отойти на задний план.
Храпы по большей части вместе с тем и глоты, то есть люди, принимающие в спорах сторону того, кто больше даст. Они берутся и защищать, и обвинять – иногда на смерть – за деньги. Попался человек в какой-нибудь гадости против товарищей, храпы за деньги будут стоять за него горой, на тюремном сходе будут орать, божиться, что другого такого арестанта-товарища поискать надо. Захочет кто-нибудь насолить другому, он подкупает храпов. Храпы взводят на человека какой-нибудь поклеп, например в наушничестве, в доносе, из своей же среды выставляют свидетелей, вопиют о примерном наказании. А тюрьма подозрительна, и человек, на которого только пало подозрение, что он донес, уже рискует жизнью. И сколько жизней, ни за что ни про что загубленных этой несчастной, темной, озлобленной тюрьмой, пало бы на совесть храпов, если бы у этих несчастных была хоть какая-нибудь совесть.
У храпов бывает два больших праздника в год – весной и осенью, когда приходит «Ярославль» вывалить на Сахалин новый груз «общественных отбросов». Тогда храпы орудуют среди новичков. Растерявшиеся новички по неопытности принимают храпов действительно за «первых лиц на каторге», по повадке даже путают их с иванами и спешат при помощи денег заручиться их благоволением.
В обыкновенное же время храпы живут на счет шпанки. Эта бедная, беспощадная, беззащитная арестантская масса дрожит перед наглым, смелым храпом.
– Ну его! Еще в такую кашу втюрить, – костей не соберешь!
И откупается.
ИгрокиНа каторге, где все продается и покупается, и притом продается и покупается очень дешево, человек, у которого есть деньги, да еще шальные, не может не иметь влияния.
Игрок, кроме игры, ничем больше и не занимается. Шулера они все. И когда игрок играет с игроком, это, в сущности, только состязание в шулерничестве. В то время как один мечет подтасованными картами, другой делает вольты, меняя карты, под которые подложен куш. Но да спасет Бог заметить: «Да он мошенничает!» Тюрьма изобьет до полусмерти.
– Не лезь не в свое дело!
Если игрок особенно ловкий шулер, он носит почетное имя «мастака».
Около игрока кормится слишком много народу, чтобы он не имел веса и значения. Во-первых, игрок никогда не отбывает каторжных работ – он нанимает за себя сухарника. Затем игрок всегда имеет поддувалу, иногда даже несколько, которые убирают его место на нарах, стелют постель, бегают за обедом, заваривают чай. Игрок дает заработок майдану, получающему десять процентов с банкомета и пять с понтеров. Благодаря игроку зарабатывает и стремщик, который караулит у дверей, пока идет игра, и получает за это тоже мзду. Через игрока пускают в оборот свои деньги и отцы – ростовщики: когда появляется неопытный или новичок, а у игрока нет достаточно денег, – они «кладут банк» и выигрывают наверняка. Наконец, игрок человек фартовый. Деньги у него шальные – ему ничего не составляет и так, за здорово живешь, человеку три-пять копеек дать.
В лице всей этой оравы игрок всегда имеет свою партию, которая готова его поддержать когда угодно в чем угодно. Он может изменять постановления тюремного схода – за него много народа. С ним страшно ссориться. Велит отлупить – отлупят. К нему нужно подольщаться: прикажет помиловать – помилуют. К тому же от него «завсегда мало-мало перепасть может», что среди нищих, конечно, играет огромную роль.
И кочевряжатся же зато игроки, пока они в силе. И измываются же над товарищами. Каких только диких форм издевательства не приходит им в голову. Был у меня в одной из тюрем знакомый игрок, за которым я охотился как за интересным типом. Бедняга «попал в полосу», ему не везло. Игроки всегда франты, а тут с него даже лоск сошел. Ходит злой, раздражительный, вечно хмурый. С себя уж даже проигрывать начал – часы серебряные продул, предмет величайшей гордости. Плохо!
– Что, брат, в жиганы попадаешь?
– К тому идет!
Только прихожу как-то в тюрьму, – батюшки, да это он ли? Не узнал даже сразу. Развалился на нарах, покрикивает. Поддувала еле-еле все его капризы исполнять успевает.
– Что, – кричит, – Матвей Николаевич сегодня обедать будет?
Поддувала подносит обычную лаханочку с баландой. Матвей Николаевич приподнялся, поглядел и в лаханочку плюнул.
– Собак этим кормить. Кому, дура, подал? Станет Матвей Николаевич это есть? Дальше что есть?
Поддувала положил на нары нарезанный черный хлеб.
– Чайку, Матвей Николаевич, пожалуйте!
Матвей Николаевич сшиб хлеб ногой с нар.
– Нешто это Матвей Николаевича еда? Учить вас, дураков, некому! Станет Матвей Николаевич дураковскую пищу есть? Подавай колбасу!
Поддувала подал копченую колбасу и белый хлеб.
– То-то!
Поддувала, подбирая с пола куски черного хлеба, только улыбнулся в мою сторону: забавники, мол! А кругом сидят голодные люди.
– Ты чего ж ему, – спрашиваю потом поддувалу, – баланду подаешь, чтобы плевал, да хлеб, чтоб по полу валял! Знаешь, что он при деньгах кочевряжится и кроме своего ничего не ест. И подавал бы ему сразу колбасу с белым хлебом.
– Нешто можно? – даже испугался поддувала. – Не приведи Господи. «Ты это что же? – сейчас спросит. – Кто я такой есть? Арестант я иль уж нет?» – «Арестант, мол». – «А если я арестант, почему ж ты мне арестантской пищи не подаешь? А? Может, я не погнушаюсь, есть буду? Почему ты, такой-сякой, знать можешь, что Матвей Николаевич, человек сильный, на уме содержит? Колбасу подавать, такой-сякой! Мое добро не беречь, – может, я казенным пропитаюсь, а ты мое добро травить хочешь!» И пойдет! На целый час волынку затрет! Ну, и подаешь ему пайку с баландой. Для порядка. Ему ведь что – ему только чтоб власть свою показать! Порядок известный! Выиграл!
А то в другой раз послали как-то одного игрока в тайгу на работу. Отвертеться никак не удалось. Так он на товарище-жигане с полверсты верхом поехал. Нанял и поехал.
– У меня, – говорит, – ноги болят.
ЖиганыБеда, однако, когда такой игрок продуется вконец и превратится в жигана. «Жиганом» на каторге вообще называется всякий бедный, ничего не имеющий человек, но, в частности, этим именем зовут проигравшихся в пух и прах игроков.
Вот когда каторга наверстает свое. И нет тогда меры, нет конца издевательствам над человеком, лишившимся всех своих друзей, поклонников, защитников, прихлебателей и покорнейших слуг. Каторга не знает пощады и не имеет жалости.
Когда жиган продул уж все: деньги, одежду, свой труд за год вперед, пайку хлеба за несколько месяцев вперед, – с ним играют или на место на нарах, или на баланду. Ни то ни другое не нужно ровно никому, – играют просто для унижения.
– Черт с тобой, промечу тебе, псу. Аль-бо три копейки, аль-бо три дня на полу спать будешь!
Или:
– Аль-бо трешница (3 коп.) твоя, аль-бо с голоду дохни, неделю без баланды, не пимши, не жрамши сиди.
Захожу как-то в тюрьму перед вечером, когда все уже улеглись. Смотрю, – один арестант в проходе около нар на полу лежит. Увидя меня, вскочил, полез на нары. Сосед не пускает.
– Стой! Куда лезешь? Нет, ты на полу лежи!
– Черт! Дьявол! Видишь, барин!
– Нет, ты и при барине лежи. Пусть барин видит, какая такая ты тварь есть на свете. Лежи!
Арестант стал около нар.
– Нет, ты ложись! – послышалось среди смеха со всех сторон. – Неча вставать. Барин сказал, что ничего, при нем можно лежать! Ты и лежи как лежал.
– Место проиграл, что ли? – спрашиваю.
– Так точно, продул, пес, а теперь и мокротно.
– Во сколько место шло?
– Шло в трешнице, да я и целкового не возьму.
– Получай три!
– Вот уж это зачем же! Мне своя амбиция дороже трех целковых ваших стоит.
Видимо, выигравший уперся: ничего в таких случаях с арестантом не поделаешь.
– Проиграл – и плати. Валяйся на полу. На то игра! А не хочешь платить – встряска!
За неуплату тюрьма «накрывает темную», то есть бьет без пощады, причем бьют решительно все, и те, кто в игре не был заинтересован.
– Это уж верно! Это так! – послышалось кругом. – Порядок известный! Встряска!
– Ложись, что ль, дьявол!
И жиган, под хохот всей тюрьмы, лег на пол, на котором было чуть не на вершок липкой, жидкой грязи.
Тюрьме скучно – она и рада маленькому развлечению.
А ведь этот жиган пришел в тюрьму за то, что задушил из ревности свою жену. В его душе когда-то носились бури. Он чувствовал и любовь, и ревность, и горькую обиду. Как вам нравится Отелло в такой обстановке!..
Захожу в тюрьму в обеденное время. Обед был уже на исходе. Поддувалы побежали в куб за кипятком, заваривать чай. Кто еще доедал, кто прятал на вечер оставшиеся кусочки хлеба, кто ложился отдохнуть.
– Ну, теперь, братцы, жигана кормить. Выходи, что ль! Иль апекита нет?
С нар поднялся человек, с которого смело можно было бы рисовать «Голод». Ничего, кроме голода, не было написано в глазах, в бледном, без кровинки, синеватого цвета лице, во всей это слабой, обессиленной фигуре. Это был жиган, вторую неделю уже проигрывающий даже свою баланду. Дней десять человек не видал крошки хлеба и питался только жидкой похлебкой, баландой. И как питался!
Многие даже приподнялись с места. Тюрьма предвкушала готовящуюся потеху. Особенно это было заметно на лице одного паренька. Видимо, человек готовился выкинуть над жиганом что-то уж особенное.
Жиган подошел к первому сидевшему с краю, молча поклонился и стал. Тот с улыбкой зачерпнул ему пол-ложки баланды и дал. Жиган хлебнул, поклонился снова и подошел к следующему.
Это был типичный иван, лежавший в величественной позе на нарах.
– Жиганам почтение! Обедать, что ли, пришли?
– Так точно, Николай Степанович, полакомиться! – с низким поклоном отвечал жиган.
– Тэк!.. Ну, а скажи-ка нам, чего бы ты теперь съел?
Жиган постарался сделать преуморительную улыбку и отвечал:
– Съел бы я теперь, Николай Степанович, тетерьки да телятинки, яичек да говядинки, лапши из поросятинки, немножечко ветчинки, чуть-чуть свининки, с хреночком солонинки. Слюна бьет, как подумаю!
Тюрьма хохотала над прибаутками. Иван обмакнул в баланду ложку и подал жигану.
– На, лижи!
Жиган открыл рот.
– Ишь, раскрыл пасть! Ложку слопаешь! Нет, ты язычком, с осторожностью!
Жиган слизнул прилипший к ложке кусочек капусты.
– Лижи досыта!
Жиган пошел к следующему.
– Стой! – крикнул иван. – Ты что же это, невежа, напился, наелся, а хозяев поблагодарить нет тебя?
Жиган снова поклонился в пояс:
– Покорнейше благодарим за добро да за ласку, за угощенье да за таску, за доброе слово, за привет да за участие. Чтобы хозяину многие лета, да еще столько, да полстолько, да четверть столько. Чтоб хозяюшку парни любили. Деточек Господь прибрал!
– То-то, учи вас, дураков! – улыбнулся иван. – А еще в гимназии учился! Чему вас там, дураков, учат? Невежи!
Следующим был паренек, судя по лицу, придумавший какую-то особенную штуку.
Он молча зачерпнул баланды и подал жигану. Но едва жиган протянул губы, паренек крикнул:
– Цыц! А Богу перед хлебом-солью молиться забыл? Жиган перекрестился.
– Не так! На коленках, как следоваит! Жиган стал на колени и начал говорить. Что он говорил!
Сидевший неподалеку старик-фальшивомонетчик даже не выдержал, плюнул:
– Тьфу, ты! Паскудники! Паренек хохотал во всю глотку.
– Ну, теперича вот, по-порядку, на! Он подал ему половину ложки.
– Будет, что ли?
– Слава Богу, Бог меня напитал, никто меня не видал, а кто видел, не обидел, слава Богу, сыт покуда, съел полпуда, осталось фунтов семь – те завтра съем, – причитал жиган.
Паренек держался за животики:
– Ой, батюшки, уморил, проваливай!
Следующим был добродушнейший рыжий мужик с улыбкой во весь рот.
– Ах ты, елова голова! – приветствовал он жигана. – Хошь, я в тебя баланды этой самой сколько хошь волью? Желаешь?
– Влейте, дяденька!
– Подставляй корыто!
Жиган поднял голову и раскрыл рот. Мужик захватил полную большую ложку баланды, осторожно донес и опрокинул ее в рот жигана.
У того судорогой передернуло горло, он закашлялся, лицо налилось кровью.
– Отдышится! – сказал мужик, улыбаясь во весь рот.
Жиган кое-как прокашлялся, отдышался и подошел к следующему.
Это был фальшивомонетчик, степенный старик, занимающийся в тюрьме ростовщичеством.
– Угостите, дяденька!
– Прочь пошел, паршивец! – с негодованием отвечал старик.
– Только и всего будет?
– Говорят, отходи без греха…
Жиган упер руки в боки.
Вся камера превратилась во внимание, ожидая, что дальше будет.
– Ах ты, асмодей асмодеевич! – начал срамить жиган старика. – На гроб, что ли, копишь, да на саван, да на свечку…
– Уходи, тебе говорят!
– Да на ладан, да на место. Скоро тебе, асмодею асмодеевичу, конец придет, сдохнешь, накопить не успеешь…
– Уходи!
– Сгниешь, старый черт, с голода сдохнешь…
Но в эту минуту жигана схватил за шиворот вернувшийся из кухни с кипятком поддувала асмодея асмодеича.
– Пусти! – кричал жиган.
– Не озорничай!
– Бей его! – словно исступленный, вопил старый ростовщик.
Огромный верзила поддувала изо всей силы хватил жигана по уху.
– Бей! Бей! – кричал старик.
– Так ты вот как?! Вот как?! Жиган поднялся было с пола, но поддувала сгреб его за «волосья», пригнул к земле и накладывал по шее.
– Бей! Бей! – орал остервеневший старик.
Каторга хохотала.
– За-акуска! – тряс головой и заливался смешливый паренек.
А ведь иван сказал правду: этот жиган действительно прошел шесть классов гимназии…
Я часто, бывало, спрашивал: «За что вы так бьете этих несчастных?» – и всегда мне отвечали с улыбкой одно и то же:
– Не извольте, барин, об их беспокоиться. Самый пустой народ. Он на всякое дело способен!
Из них-то и формируются сухарники, нанимающиеся нести работы за тюремных ростовщиков и шулеров, сменщики, меняющиеся с долгосрочными каторжниками именем и участью, воры и, разумеется, голодные убийцы.