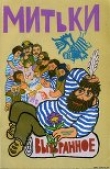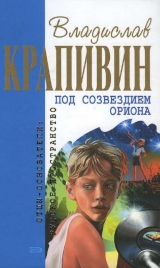
Текст книги "Трое в «копейке», не считая зайца Митьки"
Автор книги: Владислав Крапивин
Соавторы: Александр Кердан,Сергей Аксёненко
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
19.00. Проезжаем колхоз (калгас) имени Суворова. Балагурим: чем это Александр Васильевич провинился, что батька Лукашенко его в колхозники записал? И еще один повод для улыбки: стела «Слава КПСС», а на ее постаменте – чьи-то два стоптанных кирзовых сапога.
Спорим, какие меры длины используют сябры: А. К. утверждает, что белорусские мили, а В. П. говорит, что вэр-сты… Только С. А. молчит и продолжает наматывать эти расстояния на колеса нашей «Лайбы». Оно и понятно. Если бы капитан «Лайбы» на равных участвовал в постоянном трепе остальных членов экипажа, все давно бы оказались в кювете.
19.55. Вот и Полоцк (Полацк), названный так по имени княгини и просветительницы Ефросиньи Полоцкой. {В. П.: «Наверное, все-таки наоборот…») При въезде в город долго торчим на железнодорожном переезде (первый закрытый шлагбаум на нашем пути; а прошли мы уже 3200 километров).
A.К. говорит, что опущенный шлагбаум – нехорошая примета: нас никто не ждет.
B.П. замечает по поводу медленно тянущегося мимо нас состава: «У него первый вагон уже в Витебске, а хвост все еще в Полоцке…»
Наконец шлагбаум открыли, и мы движемся по городу.
Переезжаем реку Палату («в реке Палата вода по блату»). Долго плутаем по улицам, перерытым для ремонта канализации. Потом А. К. идет пешком и находит дом, где проживает тесть С. А. Он (то есть тесть) провожает нас к своему сыну Александру (шурину С. А.), которого не оказывается дома. Далее нас сопровождает сноха С. А. – Наталья.
При посадке Натальи в «копейку» мы тут же прокалываем колесо. (Женщина на корабле… Верь или не верь этой примете и предчувствиям А. К., но первый прокол за дорогу говорит сам за себя.)
Ремонтируемся. Едем в поселок Междуречье, где живут друзья Натальи и Александра – семья Машкиных (Василий и Елена).
Большущий дом из шести комнат, камин, баня, гараж, спортзал (!) и т. д. Здесь ночуем, предварительно посетив баню и отужинав с хозяевами. В. П. дарит детям хозяев свои книжки. А. К. высказывается по поводу «оживших» персонажей Командора… В. П. игнорирует. Митька замечает что-то о неуместности такого юмора. А. К. делает вид, что раскаивается. Тем более что хозяева зовут за стол.
В. П. после нескольких рюмок рассказывает (уже не первый раз за дорогу) историю зайца Митьки, с которым он подружился в 1978 году на съемках фильма «Та сторона, где ветер». (Кого интересуют подробности – читайте повесть «Заяц Митька» в двадцать седьмом томе Собрания сочинений все того же В. П.)
А. К. декламирует свои стихи. Слушатели аплодируют.
Камин уютно потрескивает. Хозяева благожелательны. Гости благодарно расслабляются. Засыпают с тайной завистью в душе: «Почему мы не бизнесмены, а всего-навсего литераторы и не владеем подобными усадьбами?» Но… каждому свое…
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая
8.00. Подъем, завтрак, прощание с гостеприимными Машкиными. Обмен адресами и телефонами (гора с горой не сходится, а человек с человеком… кто знает).
8.45. Снова приезжаем в Полоцк. На спидометре 3505 километров. В городе нам предстоит найти шиномонтажку (В. П.: «Шарашмонтажку, туда ее…») Потом надо побывать на кладбище, где похоронены родственники С. А.
С Полоцком связаны юные годы Сергея Алексеевича. Время в Полоцке – его время…
11.20. Небольшая экскурсия по городу, ее устроил на своей машине Александр – шурин С. А. Соборы, памятники. Старые деревянные улицы, похожие на те, что в наших уральских городках. Перед большой школой – памятник-бюст… кому бы вы думали? Комдиву Азину! Оказывается, известный на Урале герой Гражданской войны успел повоевать и здесь. Будто земляка встретили…
Поехали на кладбище, где покоится другой шурин Сергея и его теща. (Кладбища в Беларуси, может быть из-за особенностей местной почвы, находятся на каких-то насыпных возвышенностях.) Поминаем покойных, как полагается, кладем на могилы цветы. Такая уж жизнь человеческая, что светлая память перемешана с грустью…
Одна из родственниц С. А., пожилая учительница, вполголоса рассказывает В. П. о похороненном здесь муже. Он был мастер-краснодеревщик. Однажды на работающем станке разлетелся на куски шлифовальный круг, и крупный осколок угодил мастеру в голову. И вот теперь смотрит этот человек на живых с фаянсового медальона на обелиске.
– Он очень ваши книжки любил, – говорит учительница Командору. – У нас их целая полка….
Что тут ответишь? В. П. молча подставляет под горлышко бутылки рюмку…
13.05. Покидаем Полоцк. На выезде бортуем «запаску». Заплатили 2,5 тыс. белорусских рублей (по словам С. А., это в два раза дешевле, чем на Урале). Для того чтобы быть во всеоружии при столкновении с местными дорожными милиционерами, А. К. поменял 50 долларов на 69,5 тысячи белорусских рублей (такой у них курс).
13.10. Переехав Западную Двину, движемся в сторону Минска. Вдоль дороги живописные белорусские пейзажи: ярко-зеленые поля и темно-зеленые хвойные чащи. По обочинам небогатые, но чистенькие, ухоженные деревеньки, холмы и речушки. Пустынная трасса.
15.07. Въехали в Минскую область.
15.38. Остановились у мемориала «Хатынь». Это одна из 158 белорусских деревень, сожженных в годы немецкой оккупации (как оказалось, не немцами, а их подручными – батальоном белорусско-литовских полицаев). Сейчас здесь потрясающий по силе воздействия на душу памятник. Кровь стынет от звона хатынских колоколов. У всех тяжко на душе – и у С. А., побывавшего здесь впервые, и у В. П. и А. К., уже приезжавших сюда раньше…
16.20. Едва дотягиваем до заправки на остатках бензина. Заливаем в бак 30 литров, оставив при этом 17 тысяч белорусских рублей (раньше они назывались «зайчиками», так как на купюрах разного достоинства был изображен весь животный мир Белой Руси. Теперь зверушек заменили фасады разных учреждений, но суть осталась прежней: «зайчики» они и есть «зайчики»! Правда, Митька?). На спидометре 3735 километров.
16.45. Мы на Минской кольцевой дороге. В столице Беларуси два дорожных кольца, почти как в Москве. Конечно, кольца эти поменьше диаметром, но все равно вызывают уважение. Мы-то свой город никак «окольцевать» не можем…
Едем в Юго-Западный район к племяннику В. П. Сергею Сергеевичу Крапивину – сыну брата и соавтора книги «Алые перья стрел» и, в свою очередь, известному белорусскому журналисту и письменнику (писателю), впрочем, в писательский союз так и не вступившему.
17.30. Долго ищем, как подъехать к дому Крапивина-младшего. Решаем звонить по телефону-автомату (для чего пришлось купить телефонную карту аж за 10 тысяч рубликов). Вскоре появляется Сергей Сергеевич (в дальнейшем С.С.) и препровождает нас к своему дому.
19.00. С. А. и А. К., оставив В. П. с Митькой у минских родственников, отправляются в гости к Олегу Черемных – однокашнику по академии и литературному персонажу Александра Кердана (см. рассказ «Черный тюльпан»). Едут троллейбусом, метро, потом трамваем. По дороге удивляются минским переменам. В метро, например, где в прежние годы остановки объявлялись на двух языках: русском и белорусском, теперь такие объявления делаются только по-белорусски. И это при том, что в Беларуси оба языка являются государственными и, как нам вещают СМИ, идут интеграционные процессы – сближение двух славянских народов.
Новая форма у минской милиции (напоминает костюмы швейцаров в первостатейных московских ресторанах прошлой эпохи – желтые околыши фуражек и обшлага; или военных музыкантов позапрошлого века, из-за полосатых оплечников). Впрочем, отношение к русским по-прежнему самое доброжелательное (в народе, по крайней мере).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая
11.35. Проспав до 9.30 утра, поздно завтракаем и выезжаем в центр города на «Лайбе». Есть несколько неотложных писательских и личных дел. На спидометре 3807 километров.
12.30. Заезжаем в Союз «письменников» Беларуси. А. К. передает Ольге Михайловне Ипатовой, исполняющей обязанности первого секретаря, письмо от Ассоциации писателей Урала с предложением о сотрудничестве. Акт добросовестно фиксируется нами на видеопленку (сохранилась для истории!).
Нас приглашают на Съезд писателей Беларуси, который открывается завтра, в качестве почетных гостей. Но В. П. и А. К. скромно отказываются. Они уже слышали ироничный рассказ С.С. о том, что на съезде ожидается дележ портфелей и склоки. Уральцы же нужны как козырные тузы в рукаве той или иной группировки.
Здание СП Белоруссии очень представительное, сталинской постройки. По словам С.С., и отношение к «письмен-никам» здесь примерно такое же, как в сталинскую эпоху. У кормушки, но под бдительным батькиным оком. Взбрыкнули только Василь Быков (как член ПЕН-клуба, не нуждающийся в подачках и спецпайке) да Владимир Некляев, бывший первый секретарь, находящийся сейчас в эмиграции. Вот его-то перевыборы и должны завтра произойти.
Мы сослались на занятость (впрочем, так оно и было на самом деле) и попросили огласить наше приветствие съезду, которое тут же и сочинили…
Прощаемся с Ипатовой и подошедшим в последний момент ее заместителем Наумом Гальпериным. Гальперин вдруг вспоминает, радостно обращается к В. П.:
– Владислав Петрович, а у меня есть ваша книжка с автографом! Вы ее подписали когда-то по моей просьбе и передали через Давида Яковлевича Лившица, моего знакомого…
Вот как порой пересекаются пути человеческие…
11.50. Движемся по центру мимо площади Победы (Перемоги), Академии наук, в сторону Московского кладбища. Главная магистраль Минска сегодня носит имя Франциска Скорины. За свою бытность она минимум десять раз меняла свое название, в зависимости от исторической обстановки. Вот только некоторые из них (аналогии же можно сделать самостоятельно): Захарьевская, Гауптштрассе, Мицкевича, Советская, Сталина, Ленина…
С нами С.С., успевающий рассказывать такие вот подробности о достопримечательностях столицы. Они в большей мере адресованы С. А., оказавшемуся здесь впервые, нежели двум другим пассажирам «Лайбы», уже неоднократно бывавшим в столице Белоруссии.
В. П., делая малопонятные намеки по своему или чьему-то иному поводу, сочиняет:
Мне женщины полунагие
Все чудятся средь улиц Минска,
И не могу я не напиться:
Меня съедает ностальгия.
13.30. Мы на Московском (самом элитном) кладбище Минска. Здесь похоронены и Машеров, и генералы, и ученые. В том числе и отец В. П. – Петр Федорович Крапивин – известный педагог, ученый-лингвист, отмеченный в Белорусской энциклопедии (как, впрочем, и его внук – литератор С.С.).
Могила Петра Федоровича находится в глубине кладбища, перед ней – огромный еврейский квартал. За ней – воины-интернационалисты.
В. П. вспоминает об отце, который в тридцатых годах служил под Вяткой и оттуда спешно переехал в Тюмень, спасаясь от НКВД.
До войны и после нее Петр Федорович преподавал в школах и в пединституте Тюмени, потом ушел на фронт, а затем остался в Белоруссии, недалеко от мест своего давнего детства. Такая вот жизнь…
– Он ведь родился в Пултуске, под Варшавой, – рассказывает В. П. – Отец его, адвокат Федор Амвросиевич Крапивин, умер, когда сынишке было чуть больше года. До Первой мировой войны маленький Петя с матерью жили в Вильно, потом, спасаясь от немцев, эвакуировались в Вятку. Там он и познакомился с моей будущей мамой… А его мать, моя бабушка Текла Войцеховна, была полька. Жила с сыном почти в нищете, но гордилась своей древней шляхетской кровью. И отец мой был, значит, наполовину поляк. Хорошо знал язык, любил Польшу. Умер он в шестьдесят четвертом году. Я еще успел его порадовать несколькими своими книжками, изданными на польском языке в Варшаве…
Поминаем отца и деда Крапивиных водкой «Два бусела» (фирменная минская с двумя аистами, изображенными на этикетке). В кустах прыгают белки. Солнце пробилось сквозь листву…
14.30. Мы в газете «Ранща» (что-то типа «Пионерской правды» Беларуси). Главный редактор Михась Хомец, выходец из фотокоров этой газеты, общаясь с нами, говорит только по-белорусски. По мнению С.С., это от пиетета перед классиком (В. П.). Здесь с литературными светилами принято размовлять только на родном языке. (Хотя, по мнению того же С.С., на настоящем белорусском сегодня в Минске не говорит никто. Все копируют Лукашенко, говорящего на местечковой мове.)
Мы, конечно, не знатоки этого языка. (Только А. К. ссылается на свое родство с Беларусью – его бабушка Ефросинья Павловна Возилова родом из-под Могилева, местечко Пропойск! В годы войны этот населенный пункт переименовали в Славгород, дабы в наименовании дивизии, отличившейся при взятии оного, не значилось «Пропойская».) Тем не менее говор Михася (он – славный и добрый хлопец!) нам пришелся настолько по душе, что мы хотим процитировать несколько строк из его книги «Далi чыстыя, далi светлыя», вышедшей в Минске и подаренной нам.
Михась Хомец:
«…Стаю ля карты Беларуш i гляджу на яе, як на прыгожую незнаёмку. Мала езджу… А як хочацца прайсщся па вясковай вулыцы, высоим палявым гастынцы, на iм павггацца з незнаёмым чалавекам, а потым спытаць: «Куды вядзе гэтая дарога?»
17.50. Все, о чем говорит Хомец, близко и понятно нам. Понятен лирический герой Михася, пытающийся проехать незнакомыми дорогами родной страны и познакомиться с новыми людьми.
Пока В. П. дает интервью корреспонденту «Ранщы», А. К. и С. А. общаются с Хомецем. Уже второй раз сходили в магазин. Скоро братанье… А. К. читает Михасю (на чистом русском языке) свое стихотворение «Ночь изменит наши лица…». Михасю особенно понравился образ:
Как форели, будут биться
Под рукой твои колени…
(Слегка захмелевший Митька: «Дело вкуса, конечно…»)
Любознательный редактор «Ранщы» жаждет узнать, кому эти стихи посвящены? А проведав, что героиня – минчанка, просит дать адрес. На это А. К. отвечает экспромтом:
«Любви своей храните адреса», —
Сказал поэт, а прав ли он, не знаю…
Я и домашний адрес забываю,
Уйдя из дома хоть на полчаса.
Пусть это – шутка, но замечу вам
Уже без шутки:
все, что с вами ищем,
Не прорастет на старом пепелище,
Хоть реки слез мы проливаем там…
18.30. К компании присоединились В. П., освободившийся от интервью, и Володя – заместитель Хомеца. Еще один поход в магазин, и расстаемся совсем братьями. Все уже без перевода понимают по-белорусски, а Михась вполне грамотно говорит на языке Пушкина и Достоевского. Выходим на крыльцо, обнимаемся. Сентиментального Хомеца даже слеза напоследок пробивает. Честно говоря, и нам жаль до слез расставаться…
22.00. Старательно уговариваем С.С. ехать с нами к западной границе Беларуси, в Брест. Он, в свою очередь, убеждает нас, что лучше ехать не в Брест (где, кроме крепости, мы ничего интересного не увидим), а в Гродно. Это тоже пограничный город, но дорога к нему выигрышней в плане истории и красот.
За чашей круговой мы как-то сразу соглашаемся, радуясь больше новому попутчику, чем новой дороге.
ВТОРНИК, 29 мая[2]2
С этого момента и до прощания с Минском наши заметки правильнее было бы называть «Четверо в «копейке», не считая зайца Митьки», но, учитывая опыт Дюма-отца, в своих «Трех мушкетерах» не упомянувшего четвертого по счету – д'Артаньяна, – решаем: все оставить так, как есть. Главное – не название, а содержание.
[Закрыть]
5.30. Подъем, умывание и завтрак, приготовленный заботливой супругой С.С. – Лилей, дочерью польско-белорусских крестьян, в гостях у которых мы должны оказаться к исходу этого дня (они живут на хуторе рядом с Гродно).
6.15. Выезд из Минска. На спидометре 3851 километр. Быстро, пользуясь тем, что с нами С.С., прекрасно ориентирующийся у себя дома (а дом у него – вся Беларусь), выскакиваем на трассу, ведущую к Бресту (с нее удобнее свернуть на Лиду и Гродно).
6.25. Проезжаем реку Птичь. Здесь зона отдыха минчан и мотель (модное в семидесятых годах место тусовки «золотой» молодежи Советской Беларуси). Теперь такой популярностью пользуется международный спорткомплекс Раубичи, где есть все: гостиница, ресторан и банно-развлекательный центр. О Раубичах С. С. писал в своей книге «Квартира дважды кавалера», вышедшей в Минске в 1996 году.
6.30. Движемся по Брестскому шоссе (образец скоростной дороги). Нам навстречу идут иностранные фуры. По мнению все того же С.С., они на восток везут сникерсы. А наша «Лайба» везет на запад нас. Какая контрабанда страшнее, трудно сказать…
6.45. Переезжаем бывшую советско-польскую границу (образца 1939 года). Здесь, как говорит всезнающий С.С., в те злополучные времена арестовывали советских дипломатов, возвращающихся домой из заграничных командировок. Немудрено, что некоторые предпочитали не возвращаться.
Как напоминание, что и мы (за исключением С.С.) за границей, с нас сдирают еще 87 (российских) рублей за проезд по скоростному шоссе (удовольствия бесплатными не бывают!). Белорусские автомобили за проезд здесь не платят. Вот тебе и братья-славяне…
7.25. Повернули в сторону местечка Мир и спустя несколько минут въехали в Гродненскую область, в которой в 1956 году родился сопровождающий нас Сергей Крапивин. Ура!
7.50. Въехали в местечко Мир. Замок Радзивиллов (а может быть, Сапегов) – бывших белорусско-литовских магнатов. Замок мы нашли в прекрасном состоянии, несмотря на ведущиеся реставрационные работы и ливень, застигший нас у средневековых стен. Если абстрагироваться от нашего путешествия, то можно представить, что мы где-то в центре Германии или Австрии. С.С. говорит, что копия этого замка есть как раз в австрийском городе Тироле.
Неподалеку от замка пруд с плотиной. Слобода. Костел. Побродив вокруг исторического памятника, рифмуем:
А. К.:
Древнее, как мир, местечко Мир,
Радзивиллов замок на пригорке.
Можно было б здесь устроить пир,
Да боюсь, получится он горьким…
В чем горечь этого несостоявшегося пира, коллективу неясно, но А. К. добавляет, адресуясь к В. П.:
Не первый раз он здесь явил
Души прямое благородство
И Митьку грудью заслонил,
Чтоб с непогодою бороться.
Дело в том, что В. П. заботливо укрывает зайца от дождя за пазухой брезентовой штормовки.
Дале «пииты» и Митька заканчивают поэтическое упражнение втроем:
Осада замка сорвана была…
Нам в спину дождь хлестнул из-за угла.
Вдобавок разбитная радзивиллка
Метнула в нас пластмассовую вилку.
На этом был окончен бранный спор —
Но вилка где-то в сердце до сих пор…
8.00. Едем в сторону Новогрудка – бывшей столицы литовского княжества (Минск в ту пору был жалкой деревушкой). Впереди дорога, длинная, как слуцкий пояс. Такой носили польские и литовские магнаты (он оборачивался вокруг торса, как минимум, три раза). Служил хозяину и кошельком, и местом для крепления оружия, и чем-то вроде «бронежилета», если сказать на современный лад. Вот и нас дорога и охраняет, и защищает от всего: дурных мыслей, ненужных встреч, лени…
С обеих сторон узкого шоссе – поля и пущи. С.С. рассказывает, что здесь находился эпицентр восстания Кастуся Калиновского, которое подавлял бывший декабрист генерал Муравьев. На упрек одного из современников, что он много повесил восставших, Муравьев ответил резко (может быть, самому было не по себе…): «Я – не из тех, кого вешают (очевидно, намекал на пятерых повешенных сотоварищей), а из тех, кто вешает сам!» Такая вот метаморфоза.
Кстати, генерал остался в памяти потомков еще и тем, что по его приказу на территории Западной Беларуси построены церкви-муравьевки (так их прозвал народ). С целью борьбы с католичеством и насаждения православия. По архитектуре эти церкви напоминают подмосковные храмы и никак не вяжутся с местными костелами, кое-где так и оставшимися стоять рядом.
8.30. Въезжаем в Новогрудок. Древняя столица Литвы стоит на холмах, густо обсаженных липами. Это водораздел: одни реки, берущие здесь начало, впадают в Балтийское море, другие текут на юг, в Черное. Но важнее, что это место как бы исторический «водораздел» двух религий: православия и католицизма. Здесь всегда наиболее острым было противостояние Запада и Востока. И до нового времени, и потом…
В годы Второй мировой войны именно здесь, в Ново-грудке и вокруг него, базировались все противодействующие силы: Армия Людова (просоветские поляки) и Армия Крайова (опора Лондонской польской эмиграции), армия генерала Андерса (созданная в Мурманске и воевавшая против Роммеля в Египте, а потом вернувшаяся в Европу) и советские партизаны. Кроме них, здесь были и литовско-белорусские полицаи, и, конечно, немцы, и, наконец, просто бандиты…
С.С. интересно пересказывает свой очерк о противостоянии советских партизан и Армии Крайовой. Рассказ любопытен еще и потому, что его главный герой Гурген Мартиросов – старый товарищ Петра Федоровича Крапивина (деда С.С. и отца В. П.) по преподавательской работе в Гродненском пединституте (и, как выяснится чуть позднее, дальний родственник Крапивиных)…
– … Да, немало крови пролилось в ту пору на здешних землях, – говорит Сергей Сергеевич в конце своего повествования. – И в Белоруссии, и в Польше. И порою жестокая военная судьба сталкивала между собой людей, одинаково любивших свою страну. Случилось так, что в состоянии жесткой конфронтации оказывались разные польские армии и партизаны. И все-таки надо отдать должное полякам: все они фашистов ненавидели крепко и сражались с захватчиками храбро…
Вспоминаем строчки польского поэта Константы Ильдефонс (в переводе Иосифа Бродского):
…Пока хоть лоскут на мачте,
под нами земля покуда,
останется польское знамя таким,
как прежде, повсюду.
Повсюду, на год, на век ли, повсюду: во льду ли, в пекле, в земле африканской, мурманской, гонимо долей цыганской, останется гордым и правым, в собственной смерти повинным рассветом бело-кровавым…
8.50. Мы в Новогрудке. Чистый ухоженный городок с булыжниковыми мостовыми. Родовое имение поэта Мицкевича (ныне музей). Съедобные (по мнению С.С. – большого гурмана) улитки на дорожке, ведущей к музею. Амбарный замок на воротах (оно и понятно: рано еще…).
Сергей Сергеевич упоминает имя: Марыля Верасшаки. Известно, что она – дама сердца Мицкевича. Но что с ней стало, С.С. не знает.
А. К. называет другое имя – Каролина Собаньская, урожденная графиня Ржевусская. Этой удивительной женщине посвящали свои стихи и Адам Мицкевич, и Александр Пушкин.
Влюбленный Мицкевич во время пребывания в Одессе: «О, если б ты лишь День в душе моей была…»
Пушкин позже в Петербурге: «Что в имени тебе моем?»
Александр Сергеевич вполне серьезно называл Каролину «демоном». Вот оно, поэтическое предчувствие!.. Ведь ни тот, ни другой поэт не знали, что эта Мата Хари своей эпохи «стучала» на каждого из них своему любовнику генералу Витту и через него Бенкендорфу, платным агентом которого была до конца своих дней. У Александра Сергеевича, если верить исследователям, Собаньская – последняя «холостяцкая» любовь перед женитьбой на Натали Гончаровой.
Что же относительно Мицкевича и Пушкина, то у них была в жизни всего одна встреча, и тогда они произвели друг на друга неизгладимое впечатление. Подумалось вдруг: женщина как дорога. Она соединяет и разъединяет людей через время, расстояния и превратности судьбы. Слава Богу, пани Собаньская, при всей своей демоничности, не смогла привести к барьеру этих двоих…
9.10. На другом конце Новогрудка – развалины рыцарского замка двенадцатого века. Впечатляет. Обзор с холма – верст на пятьдесят: видны поля и пущи. Глубокий ров. Надпись, предупреждающая, что лазить здесь нельзя, а то задавит. Но разве что-то остановит любознательных ребят…
Ищем среди каменьев исторические экспонаты. Находим чьи-то кости и черепок. Довольны, будто бы это и впрямь ценность, а не остатки бродячей собаки и походной тарелки неизвестного нам археолога…
9.30. Выезжаем из Новогрудка. На окраинной улице типичная (по словам С.С.) для местечка картина: лавка керосинщика, как правило, еврея («яврея» – на местном говоре), аптека (хозяин тоже «яврей»), костел, корчма, волостная управа… Одним словом, «улица, фонарь, аптека…»
9.45. Едем в сторону города Лида. С.С. разглагольствует, что лидское пиво – лучшее в мире, что Лида в этом качестве – Мюнхен Беларуси. И нам нельзя проехать мимо, не вкусив этого божественного напитка.
– Чем больше удовольствий мы пропустим здесь, тем больше их нас ждет впереди! – Термин «пропустим» в данном случае следует понимать как «глотнем».
B.П. и А. К., как самые сговорчивые, тут же откликаются строфой:
Хорошая девочка Лида
На улицах Лиды живет.
Она не читает Майн Рида,
Но пиво стаканами пьет!
C.С. отозвался на экспромт:
Вас рифмами слабит отчаянно,
Как будто с касторки несет…
Обиды на нашего гида мы не затаили, поскольку рекламируемое им лидское пиво и в самом деле оказалось вкусным и в меру холодным.
10.06. После пива легче дышится и говорится обо всем.
В. П. рассказывает, что вчера у С.С. в Интернете на своем сайте прочитал письмо от некой Ольги М., которая упрекает его за «чернуху» в последних книгах, начиная с «Лоцмана»…
(Это у Крапивина-то «чернуха»? Почитала бы она, скажем, Н. Коляду…) А одна старушка задает Командору (по Интернету же!) такие богословские вопросы, на которые ни один епископ или профессор теологии, скорее всего, не ответит.
Теперь В. П. в задумчивости. Он привык добросовестно отвечать читателям, но что написать им сейчас, не знает. Особенно по поводу «чернухи». Совместно уговариваем его отложить решение вопроса до возвращения домой. В. П. соглашается отложить при условии, что ему дадут глотнуть коньяку.
– Это после пива-то! – возмущается Митька.
– А ты не пей, если не хочешь!
Но Митька хочет. Тем более что лидским пивом он пренебрег.
Заводим разговор о литературе. С.С. наизусть декламирует отрывок модного сейчас в Беларуси прозаика N. (сам батька на одном из последних пленумов его похвалил, мол, вот так надо всем писать!):
«Богатый будет нынче житный укос, много мужики самогонки наварят…»
10.10. Едем по местам, где в годы войны был штаб Армии Крайовой. Кстати, С.С. рекомендовал А. К. и С. А. на время поездки в Западную Белоруссию снять армейский камуфляж, в котором они путешествуют. Советскую (российскую) армию здесь до сих пор не любят. Еще бы! В местных лесах, по словам С.С., до 1956 года водились националисты, которые при поддержке ЦРУ вели борьбу с Советами…
С.С. развлекает публику своими рассказами. Один из них, связанный с «военной» ситуацией и литературой одновременно, приводим без сокращений.
«…В застойную эпоху сидели мы с приятелями в университетском общежитии. За рюмкой чая вместе с соседями по блоку – студентами из старинного датского города Орхуса. Их в советский вуз прислали на стажировку по части славянских языков. Парни оказались вполне свойскими, и сокурсник мой Сева (староста курса и человек, как-то связанный с органами) в порыве душевной теплоты и откровенности завел такую речь:
– Хлопцы! И сами вы замечательные, и королевство ваше датское тоже замечательное! Но одного не могу понять: зачем Дания состоит в агрессивном блоке НАТО? Да неужели у вас всерьез кто-то думает, будто СССР способен обидеть маленькую страну?
– Не думаем, а знаем точно, что в Советском Союзе давно вынашивались планы агрессии против нас, – вынув трубку изо рта, невозмутимо ответил Бент, один из датчан.
Сева, хотя и считался на факультете неким политфрондером, теперь аж зашелся от праведного негодования. Начал страстно излагать суть последних советских мирных инициатив.
Но датчанин также убежденно ему в ответ:
– Планы агрессии вынашивались. Причем эта идея отражена в советской литературной классике.
– Где, в каком произведении?! – завопил Сева.
Бент взял с полки томик Ильфа и Петрова, раскрыл то место, где описывается, как Остап, накануне изъявший-таки у Корейко миллион, едет по пустыне на верблюде и рассуждает вслух.
Рассуждает он вот о чем.
«Ну, стал я миллионером. И чем бы мне теперь заняться?.. А не объявить ли себя вождем местных племен, купить у англичан оружия и пойти на кого-нибудь войной? На кого? А хотя бы на Данию. Повод? А зачем они убили Гамлета – принца и наследника своего законного? И вообще покойный Паниковский замечательно бы смотрелся с жирным датским гусем…»
– Убедились? – печально произнес Бент, закрывая произведение советских классиков.
Крыть Севе было нечем…»
10.15. Проезжаем местечко Уселюб. Ехидничаем: не отсюда ли пошел содомский грех и все другие непонятные явления в интимной сфере? С. А., кинув взгляд на спидометр, говорит, что там уже цифра 4000. Опять же повод…
Неугомонный С. С. (он тоже почувствовал волю, вырвавшись из ритма столичной жизни) рассказывает нам о самогонных заводах в Налибокской пуще, мимо которой нам предстоит проезжать. У него по этому поводу написана целая статья. «Самогонные рабы» за два доллара в сутки и «фломастер» – пластиковую бутыль с самогоном – горбатятся на своих хозяев. О незаконном производстве знают и милиция, и местная власть, но ничего не предпринимают.
Тема оказалась интересной для всех…
10.20. Переезжаем реку Неман (Нёман). Чуть севернее ее в 1812 году переходили войска Бонапарта – пятьсот тысяч человек, говорящие на двунадесяти языках европейских народов. Из всего Наполеонова воинства обратно через Неман переправилось всего семьдесят пять тысяч человек. Однако человечество ничему не научилось – ни в ту пору, ни в последующие времена…
10.30. Проезжаем поворот на Щучин. В 1978 году А. К. – выпускник военно-политического училища – здесь проходил стажировку в ОБАТО (отдельный батальон аэродромно-технического обслуживания) в должности заместителя командира роты охраны по политчасти. Уехал сюда, по его словам, на второй день после свадьбы. Может быть, потому, вернувшись через два месяца, радуясь счастливому возвращению, и положил начало первому сыну – Ивану. Сегодня тому уже двадцать три года…
Справа от дороги наблюдаем сенажные башни, напоминающие то самое, чем и зачинаются дети. Вспоминаем шутки, которые отпускались в адрес возводимой в Свердловске в годы перестройки телебашни (так и не достроенной до сего дня). Уж она-то точно была моделью гигантского… того самого. Сенажные башенки по сравнению с нею, как упомянутые органы пигмеев… Эти фантазии очень далеко могут завести нашу временно холостяцкую компанию, однако ушастый моралист Митька вовремя напоминает:
– Договаривались же! Ни слова о политике!
При чем здесь политика, не совсем ясно, однако все стыдливо умолкают. А самый интеллигентный из нас – В. П. (Заяц Митька: «Это он сам так считает»…), чтобы разрядить обстановку, сочиняет:
Пусть будет жребий мне счастливый дан,
Чтоб возвратился я на свой диван
И, вспоминая эту красоту,
Чесал бы брюхо рыжему коту…
10.35. Разговор о детях заставляет С.С. вспомнить вчерашнюю «дипломатическую выходку» его двенадцатилетнего сына Васи. Вася собирает пустые бутылки, чтобы купить новые колеса для своих коньков-роликов. Собрав все, что осталось после нашего застолья, он долго кружил по кухне вокруг полупустой бутылки водки. Потом наконец не выдержал и обратился к своей бабушке, мывшей в это время посуду:
– Баб, ты водку пьешь?
– Н-ну… если чуть-чуть, когда праздник или еще что-нибудь…
– Бабушка, ну, допей, а? Здесь всего стаканчик! А мне пустую бутылку отдашь…
Вот оно, поколение «Пепси».