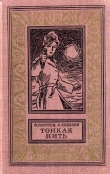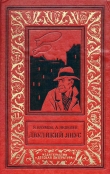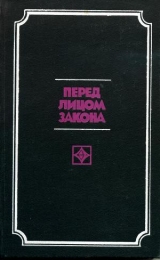
Текст книги "Знакомый почерк"
Автор книги: Владимир Востоков
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Краснов прочел стихи, пощелкал по открытке ногтем.
– Он очень ловко облек в стихотворную форму научный спор. Постороннему ничего не понять, не доказать.
Профессор словно прочел его мысли.
– Однажды, незадолго до того, как почтальон принес сей листок, коллега Храмов излил на меня в институте все эти сарказмы, только, разумеется, в прозе. Несолидно было бы в его возрасте изъясняться в разговоре стихами, но что он грешит версификацией – об этом в институте известно. Он наш Ювенал… Не правда ли, Михаил Михайлович?
– Грешит стишками, грешит, – подтвердил Нагаев.
– Что же это он так… так прозрачно? – скорее самому себе задал вопрос Краснов. – Опрометчиво для умного человека.
– Видите ли, насколько позволяет мне судить мой скромный опыт, когда кто-то считает себя умнее других людей, он, как правило, поступает опрометчиво. Уже тем самым, так сказать. – Профессор не упускал случая пошутить.
Краснов встал. Надев очки, встал и Терехов.
– Спасибо, профессор, за исчерпывающие объяснения.
– Не за что. Если эта открытка представляет какой-то интерес, я считаю, вам повезло, ибо я хотел ее порвать, как и прежние, но сразу этого не сделал. Потом она куда-то затерялась, а теперь вот нашлась.
– О нашем разговоре лучше будет никому не рассказывать.
– Я понимаю.
– Извините, что прошу об этом.
– Ничего, ничего. Это меня не обижает, не тревожьтесь.
Они пожали друг другу руки и раскланялись.
Он ушел, мягко притворив за собою дверь.
– Что скажешь? – спросил Нагаев.
– Открытку я возьму. – Краснов спрятал ее в свой портфель.
– А с Храмовым что делать?
– Ничего, решительно ничего, – с необычной поспешностью ответил Краснов.
– Ты чего это встрепенулся? – удивился Нагаев, и Краснов ругнул себя.
– Не надо его трогать, – уже спокойно сказал он. – Как будто никто ничего не знает. Я разберусь. Между прочим, он на лекции был?
– Нет, свой курс он начинает читать через неделю. В институте пока не появлялся.
– Ну, спасибо тебе, Мих-Мих.
– Повторяю за профессором: не за что…
От Нагаева Краснов вернулся к себе. Время было обедать, но ему не терпелось получить заключение почерковедческой экспертизы. Эксперт управления был в отпуске. Взяв открытки, лежавшие в сейфе, Краснов отправился пешком домой к старику графологу, который раньше проводил у них экспертизы, долго проработавшему в управлении. Сейчас он был на пенсии, но его часто приглашали в качестве консультанта.
Графолог продержал его целых два часа. Старик сначала сфотографировал открытки, проявил пленку, напечатал карточки – у него на дому оказалась целая фотолаборатория. Потом манипулировал какими-то трафаретами, глядя через огромную, диаметром чуть не в волейбольный мяч, лупу на бронзовой ручке, что-то чертил на разграфленных листах плотной бумаги. И наконец, сделав несколько оговорок, заявил, что, по всей вероятности, все открытки написаны одним человеком. Но это требует дополнительного исследования. Так изрек он официальным тоном после своих долгих священнодействий, а провожая Краснова до дверей, сказал уже по-свойски, домашним голосом:
– Одна рука писала, Игорь Иваныч, одна…
Краснов знал, что надо провести официальную экспертизу, но сейчас ему и этого было довольно.
Прямо от графолога Краснов, не заходя к себе, поднялся на третий этаж, к генералу.
– Разрешите, Анатолий Иванович?
Басков поднял голову от бумаг, посмотрел на Краснова и сказал без всякой вопросительной интонации:
– Нашел.
Краснов заулыбался, подходя к столу.
– Нашел-ся, Анатолий Иванович.
– Не скромничай, когда не надо. Садись.
Генерал слушал, не перебивая и не глядя на Краснова. Сложив руки ладонями перед лицом и уперевшись в стол локтями, он глядел, не мигая, на противоположную стену – такая была у него привычка слушать. Новичков это поначалу сбивало с толку, но в конце концов все постепенно убеждались, что такая манера удобна и для докладывающего и для слушающего. Для докладывающего исключаются, если можно так выразиться, зрительные помехи, а слушающий, не отвлекаясь мимикой говорящего, может лучше сосредоточиться.
– Хорошо, – сказал Басков, когда Краснов закончил словами: «Все, Анатолий Иванович».
– Через неделю Храмов должен вернуться из отпуска. А может, уже вернулся. Будем вызывать?
– Подождем, – не раздумывая, решил Басков. – Дадим шанс его совести. Может, сам придет. Но понаблюдать за ним надо.
– Есть, Анатолий Иванович.
– Ты недельку-то отдохни. – Басков чуть заметно окал, потому что родом был с верхней Волги. Но уехал он из родных мест, как знал Краснов, лет сорок назад. Его легкое оканье вызывало в воображении Краснова тонкие обручи, но не круглые, а заметно смятые.
– Отдохнуть всегда не мешает, – сказал Краснов.
– Вот и давай. Море еще теплое.
Краснов уже взялся за медную ручку двери, но Басков остановил его вопросом:
– Как думаешь, он один?
– По-моему, одиночка.
– Иди.
Областное управление Комитета госбезопасности размещалось в старинном трехэтажном не то полудворце, не то в полуторном особняке – так определяли подобные здания в городе.
Краснов, идя по светлому коридору, где с одной стороны были окна от пола до потолка, увидел в простенке зеркало, похожее формой на щит или на фамильный герб какой-то плутовской династии, которую, как у Сухово-Кобылина, крестил пиковый король. Но зеркало было хорошее. В четырех кругло срезанных его углах медово поблескивали медные шурупы с те царские, неподдельные золотые десятирублевки, которые Краснов видел однажды в кабинете начальника ОБХСС, когда его, работника угрозыска, вызвали по делу скромного заведующего уличным овощным ларьком, – монеты лежали в коробке из-под печенья почти доверху.
Честно говоря, Краснов, как все нестарые еще люди, любил зеркала. А зеркало, перед которым он остановился, – это зеркало, несмотря на свой почтенный возраст, совсем не облупилось и было лучше любых новых. Он хотел посмотреть на себя потому, что генерал посоветовал ему отдохнуть.
Неужели ж ты, парень, так сдал за эти три месяца?
Нет, он себе все-таки понравился. Совсем исчезла кривая складка у рта, брови не сдвинуты…
Оставив зеркало, он поглядел в окно.
Начался дождь, крупный, с вишню. Девушка в голубенькой батистовой кофте, глянцево мелькая полными загорелыми икрами, перебегала через улицу, и дождь уже успел промочить батист на ее высокой груди. Батист быстро промокает и становится прозрачным, как будто и нет его. Краснов проводил девушку глазами, пока она не скрылась за углом.
Глава II
О том, чего пока не знает Краснов
Выражаясь архаичным языком, по неисповедимой прихоти судьбы нам придется еще раз обратиться к разговору о периодической печати, и опять в прямой связи с Евгением Петровичем Храмовым. Но не будем забегать вперед. Расскажем по порядку о том, чего не знает пока капитан Краснов и что станет ему известно в самом конце этой истории, которая начиналась столь незатейливо, а потом столь замутилась, что капитан Краснов едва не почел себя профессионально несостоятельным.
Контрразведчикам необходимо было определить мотивы, двигавшие Храмовым. А для этого мало располагать сведениями о его сегодняшнем бытии. Им нужно было познать жизнь Храмова в развитии. Никаких внешних причин питать злобу к советскому строю у Евгения Петровича не имелось. У него интересная работа. На свой заработок он свободно мог бы содержать семью из четырех человек, а между тем живет холостяком.
Не в одиночестве же дело. В том, что он одинок, никакая власть не может быть виновата.
Значит, причины лежат где-то глубже, может быть, в далеком прошлом?
Это действительно так, но Краснов этого не знает, и потому ему придется пережить много тяжких часов и дней. Нам же нет нужды играть на неизвестности. Нам полезно высветить фигуру Евгения Петровича с самого начала, чтобы впоследствии не отвлекаться от других событий и лиц, которые потребуют к себе пристального внимания.
Биография Евгения Петровича удобна в том отношении, что из нее легко вычленить узловые моменты. Однако начать надобно издалека.
Отец его, Петр Арсентьевич Храмов, окончив в 1908 году Петербургский императорский лесной институт, поехал лесничим в глухую Вятскую губернию. Его оставили инспектором при губернском управлении, но он был человеком не чиновного склада. Взяв в жены красивую девушку из местных мещан, которая не побоялась жить среди непроходимой чащобы, в настоящем медвежьем углу, научил ее ездить верхом на лошади и стрелять из ружья, а через год, летом 1909-го, добившись назначения лесничим, купил молодого жеребчика-двухлетку и трехлетнюю кобылку и отправился в лесничество; всадников сопровождал обоз из трех телег с приданым жены.
В 1910 году у Храмовых родился сын Петр, в 1916-м – Евгений. За неимением акушера повивальной бабкой был сам отец, которому помогала жена объездчика Андрея.
За отсутствием гимназии и школы Петр Арсентьевич учил сынов тоже сам. И, надо отметить, оказался недурным учителем.
Однако, как ни благотворно домашнее воспитание и учение, детям необходимо было дать правильное образование. Храмов предвидел горючие слезы жены, но, готовый к ним, действовал твердой рукой. В 1926 году он написал в Москву Лене Кирееву, своему единственному товарищу по институту, который был членом ВКП(б), большевиком, три раза ссылался при царском режиме в Сибирь и трижды бежал. Киреев занимал в столице высокий пост. Он никогда не звал друга к иной жизни, к иной должности – был убежден, что его из лесу труднее вытащить, чем медведя из берлоги. Но в каждом письме спрашивал, не нужна ли какая-нибудь помощь, и это был не риторический вопрос.
К нему-то и обратился Петр Арсентьевич за советом, как и где лучше устроить детей на учебу: с нынешними порядками он знаком не был, ибо стал уже настоящим отшельником, хотя газеты выписывал.
Киреев скоро ответил длинным письмом. Не хитря и не обинуясь, он обосновал разумность своего предложения, так как ему хорошо была известна щепетильность друга и его решительное неприятие какой-либо зависимости. Он, Киреев, зарабатывает много. Жена тоже работает. Детей у них нет. Занимают они прекрасную квартиру в центре, на Трубной площади. С ними живет теща, добрая старая женщина. Она готовит отменно.
Вывод: самое разумное – привезти Петра и Евгения в Москву, поселить в квартире на Трубной. Школа совсем недалеко. Детям будет с тещей не хуже, чем цыплятам под крылом у наседки.
Храмов колебался недолго: видел, что предложение сделано от чистого сердца. И настал день, когда кордон был залит слезами. Плакали жены рабочих, женщины, с недавних пор тоже зачисленные в штат лесничества. Своей жене Петр Арсентьевич плакать на проводах запретил, приказав отплакаться ночью.
Объездчик Андрей заложил парой коляску на мягких рессорах, приторочил сзади чемоданы и узлы отъезжающих. Расцеловались со всеми чадами и домочадцами, уселись и, утирая мокрые от чужих слез щеки, тронули.
Это был первый узловой момент в биографии Евгения Петровича Храмова. Женя не плакал. С чего плакать десятилетнему мальчику, отправляющемуся в огромный, никогда не виданный мир?
Приезд в Москву был подгадан так, что через два дня начиналась запись в школу. Дядя Леня поселил гостей в просторной комнате с двумя широкими окнами, где стояли два дивана и непонятная кровать, называвшаяся, как узнали братья позже, раскладушкой. После ужина братьев отправили спать, а взрослые остались за столом.
Утром за завтраком составлялся план действий. Дядя Леня собирался самолично пойти к директору школы, но отец сказал: «Пожалуйста, никаких протекций, сам поведу». И дядя Леня не настаивал на своем.
А когда за дядей Леней пришла из наркомата машина и он предложил всем прокатиться, отец опять отказался: «Пожалуйста, Леня, не надо. Мы так погуляем».
Следующий день был посвящен повторению пройденного – отец экзаменовал их по всем дисциплинам и со всей возможной строгостью. Отвечали оба без запинки, но он все-таки беспокоился, потому что не знал, каковы нынче требования учителей.
На всех экзаменах – они продолжались три дня – отцу по его настоянию разрешили присутствовать, и, кажется, именно это и спасло их. Отвечая на вопросы учителей, и Евгений и Петр глядели только на него и отвечали спокойно. Результат ошеломил учительскую: при всей придирчивости экзаменаторов выяснилось, что десятилетнего можно принять в пятый класс, а старшего – в выпускной. Отец уезжал гордый и довольный. А у них начались школьные будни.
Это был второй узловой момент в жизни Евгения.
Учились братья отлично. В 1927 году Петр окончил школу и поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта на мостостроительный факультет. Может, выбор был сделан безотчетно, под впечатлением незабываемой поездки из Вятки в Москву, но Петр рвался именно в этот институт.
В 1932 году, когда Евгений окончил школу, Петр получил диплом инженера и женился на девушке-москвичке, лицом очень похожей на их мать, а значит, и на Евгения, который был копией матери.
В 1932 году в жизни Евгения произошло два важных события, и оба можно считать узловыми. Первое: он поступил в институт стали. Почему именно туда? Хотелось чего-то основательного. Второе: он получил паспорт. Хотя свидетельств о рождении у братьев не было, ибо на кордоне, где они родились, не было ни церкви, ни попа, ни администрации, а везти новорожденных в Вятку для крещения и регистрации Петр Арсентьевич Храмов посчитал необязательным, однако дядя Леня все уладил.
Случись по-иному, обидно было бы братьям. Ведь тогда, в тридцать втором, в Советском Союзе проводилась паспортизация. Это был праздник для всего народа.
О втором событии надо сказать особо еще и потому, что его оттенил маленький штришок, который с течением времени превратился в характерную черту личности Евгения Храмова. А дело такое. Получали паспорта братья вместе. Когда им их вручили, каждый долго рассматривал свою книжечку, а потом они книжечками поменялись и опять долго рассматривали. И вдруг Петр дернул брата за рукав, кивнул на дверь, они вышли на улицу. «Эй, гражданин Храмов, вы разве в Ленинграде родились?» – спросил Петр, тыча пальцем в графу «место рождения». Евгений не смутился. «Писать – на кордоне? Ха!» Старший пристально глядел на младшего, будто за пять лет корпения над конспектами и чертежами видел его в первый раз. «Балда, зачем же здесь врать?» – «Красивей так!» В тот миг Петр понял, что его влияние на братишку, влияние, в прочности которого он никогда не сомневался, кончилось. И у него возникло смутное ощущение, что они – две ветви одного дерева – растут в разные стороны. «Ладно, с этого дня зову тебя ленинградцем».
Вскоре Петр получил назначение и уехал в Днепропетровск. Братья расставались надолго.
Евгений учился играючи, все ему давалось с лету. А немецким занимался так серьезно и успешно, что стал отрадой преподавателя. Но вот товарищей у него почему-то не было. Правда, это с лихвой восполнялось вниманием к нему со стороны девушек. Сам он мужской дружбы, которую принято называть суровой, как мужскую слезу – скупой, не искал. Ему довольно было и женской.
В студенческие времена в нем сильно развилось чувство превосходства над другими. Во-первых, лучший на курсе, во-вторых, самый молодой в институте. И не хочешь, а возгордишься.
То, что с ним происходило, нередко случается с юношами: он перерос не только сверстников, но и людей гораздо старше себя. Однако, как известно, природа не терпит никакого неравновесия, и во второй половине жизни обычно происходит нечто обратное.
Нарушив обычай, существовавший при старшем брате, он перестал ездить на каникулы к отцу с матерью. Отец присылал ему деньги – этого вполне достаточно. А стипендию, кстати, он стал откладывать, для чего завел сберегательную книжку. Каникулы проводил на подмосковных дачах у знакомых девушек. Родителям писал мало, а брату совсем не писал.
Диплом был в 1937 году защищен блестяще. Евгения Храмова оставили в аспирантуре. Профессор, ставший его руководителем, был специалистом по твердым сортам стали. Но тут явились и неприятности – так, во всяком случае, квалифицировал это Евгений. В ноябре схоронили тещу дяди Лени, и это породило массу неудобств: некому стало готовить, стирать и ходить по магазинам, а также убирать квартиру.
В декабре на Север перевели дядю Леню и его жену. Квартиранту Храмову, хоть он и был уже прописан, предложили съехать. Ему дали комнату в общежитии на Соколе, во Всехсвятском. Ходить надо через комнату, в которой живут четверо студентов младших курсов и стенка тонкая, всякое реготанье слышно, как через бумагу, и уборная общая, и умывальник. После удобств квартиры Киреева он страдал.
И вдруг – это было в апреле – его вызвала секретарша ректора. Она сказала, что звонил товарищ Киреев, просил зайти к нему домой.
По состоянию здоровья дядя Леня с женой вынуждены были вернуться в Москву. Все опять пришло в норму. Пока Евгений переходил с курса на курс и сдавал кандидатский минимум, Петр успел поработать на строительстве Днепрогэса и перекинуть несколько мостов через реки – мостов, которые он же сам скоро будет взрывать. В 1939 году, когда младший собирался защищать кандидатскую диссертацию, старший базировался в Киеве. Они по-прежнему не переписывались. Обоим было некогда.
И тут стряслось несчастье – да, это называлось уже не просто неприятностями, а несчастьем: у Жени открылась язва двенадцатиперстной кишки. На пороге диссертации! Дядя Леня повез его в поликлинику старых большевиков. Старичок врач, обследовавший его, сказал, что болезнь – результат расшатанных нервов и переутомления. Никаких препаратов прописывать не стал, назначил диету и посоветовал ехать в деревню пить мед.
Вот и еще три большие вехи на жизненном пути Храмова: институт, диссертация, болезнь. Многие ему сочувствовали. Действительно досадно. Другие недоумевали: неужели положение так серьезно, что немедленно надо все бросать и лечиться? Ведь осталось всего ничего, защитился бы и стал самым, может быть, молодым в стране кандидатом наук.
Но Храмов ни о чем не в силах думать. Ему кажется – но, возможно, это и в самом деле так, – что он устал смертельно и болен тоже смертельно. Отныне единственной его заботой становится язва. Она не дает ему покоя, хотя особенных физических страданий не причиняет.
С сожалением его отчислили из аспирантуры – временно, с правом вернуться, когда позволит здоровье. Храмов вечером у себя в комнате составил план дальнейшей жизни и записал его в маленький блокнотик в переплете из зеленого сафьяна – получилось пять пунктов. Привычку планировать он завел еще по окончании института. Сам придумал, никому не подражал. Он не выписывался из квартиры дяди Лени, не снимался с комсомольского и военного учета, не снимал денег со сберкнижки – в предвидении скорого возвращения. В букинистическом магазине он купил несколько французских и английских книг. Учебники английского и французского были куплены раньше. Он намеревался к знанию немецкого прибавить знание и этих языков (четвертый пункт плана).
Дядя Леня купил ему билет на поезд. Его жена приготовила еды на дорогу. Храмов упаковал два чемодана, послал телеграмму отцу, чтобы встречал, и отбыл в город Киров.
Все тот же, даже ничуть не постаревший объездчик Андрей ждал его с коляской, только лошади были другие. В коляске лежал провиант на три дня пути – мать обо всем позаботилась. Июльская погода стояла прекрасная, солнце, смолистый дух безбрежных лесов – а Евгений Храмов был мрачен, во всю дорогу едва перекинулся с Андреем тремя словами. И стал еще мрачнее, когда коляска свернула на усадьбу и отец крикнул радостно: «Мать, ленинградец наш приехал!» Они целовали его и обнимали, а он стоял, повесив руки вдоль худого своего тела. Очень обиделся за «ленинградца». Даже то, чему следовало бы радоваться, его раздражало. Отец был крепок, на лице ни морщинки, только чуть поседел, а ведь ему уже пятьдесят четыре. Мать как будто остановилась на сорока годах и больше не старела. Узнав о причине его неожиданного появления, отец чуть ли не весело сказал: «Ну и ничего, эка невидаль – язва! Поправишься, поправим тебя!» Мать в первую минуту опечалилась, но, сообразив, что из-за болезни Евгений проживет у них долго, может быть, целый год, даже обрадовалась. И это окончательно испортило приехавшему всякое настроение. Он решил, что ему или не верят, считают это каким-то притворством, или им его здоровье недорого.
И потекли в семействе Храмовых новые будни – для матери с отцом радостные, для сына как бы подневольные. Пасеки в лесничестве не было, но меду нашли по окрестным ближним и дальним деревням во множестве и самого разного. И травных настоек мать наделала по старинным народным рецептам, но пить их Евгений категорически отказался. За ним ухаживали, как за младенцем, ловили каждое его слово, каждый взгляд, а он все больше замыкался в себе. Мед, впрочем, пил.
В конце концов, видя, что их повышенное внимание только раздражает сына, родители предоставили его самому себе. Он много гулял, немного читал – книг было маловато – и порою заглядывал в свою недописанную диссертацию, намечая дальнейший ее ход. И принялся за английский…
Однако пора покончить с подробным жизнеописанием молодого Евгения Храмова. Его портрет, конечно же, не завершен, но главные черты, как надеемся, каждому ясны. Перезимовав, Евгений отправился в Москву показаться доктору. Тот нашел его посвежевшим и окрепшим. Однако язва не исчезла. Рекомендовали лечь в стационар.
Следующие шесть лет изложим сжато, используя лаконичные записи дневника, ведшегося Храмовым нерегулярно.
«Дядя Леня все устроил… Три месяца лечения не дали заметного результата. Лежать больше нет смысла. Вернулся в лесничество.
Пожилой гражданин (лежал со мной в палате) ругал меня – при такой язве надо работать, все пройдет. Черта с два! Еще разок перезимуем».
«Началась война. Немцы напали».
«Отец гонит в Киров, в военкомат. Поехал в Москву. Взял выписку из истории болезни. В военкомате посмотрели, решили освидетельствовать. Снова глотал трубку, сдавал анализы. К службе негоден. Попутно нашли еще что-то. Кровь плохая. Должен освидетельствоваться через год. Открепился, встану на учет в Кирове.
В институте заплатил комсомольские взносы, снялся с учета. Никто меня не хочет узнавать. Свинство. Набиваться не собираюсь. Хорошо, что за месяц до войны успел взять деньги со сберкнижки – 11 383 р.».
«Отец смотрел документы из военкомата. Успокоился. Беспокоит радиопр. Я сделал к нему приставки, может ловить европейские станции, но движок работает плохо, дает неровный накал. О. обещал испр.». «Все время говорят о вкладе в оборону. Моим вкладом будет диссертац.».
«Я же не виноват, что болен. Я бы рад».
«Петр с женой (я забыл ее имя, оказывается, Ольга) пишут – уезжают из Москвы. Надолго, м. б., на год или больше. Куда – не пишут, адреса не дают. Интересно. Мать плачет».
«Ездил в Киров – военкомат. Язва на месте. Теперь еще год».
«Немцы вышли к Волге. Что же будет?»
«Пишу диссертацию. Сюда бы Ленинскую библиотеку!»
«Ездил в военкомат. Лучше, но язва на месте. Была комиссия. Сняли с учета совсем. Тем лучше. Противно одно – 27 лет, а уже белобилетник».
«Отец сломал ногу. Помогал геодезистам чинить триангуляционную вышку. Сам виноват. Мог бы послать плотника. Андрей ездил за врачом. Положили в гипс».
«Обследовался по собственному почину. Язвы нет. Здоров».
«Пробую писать рассказы. Несколько уже готово. Кажется, ничего себе».
«Победа!»
…Последнее слово записано уже не в лесничестве. Солнечным апрельским утром 1945 года Евгений Храмов с готовой диссертацией в чемодане – не кандидатской, а как он считал, докторской диссертацией – приехал в Москву.
Если использовать его же выражение, все было на месте, кроме язвы, которая исчезла. Дядя Леня оставался на своем прежнем высоком посту, только почему-то ходил в военной форме с погонами генерал-майора. Жена его тоже продолжала работать. Комната сохранялась в нетронутом виде, ждала его. В институте приняли если и не с распростертыми объятиями, то вполне по-товарищески. Но… ах, если бы не это «но»!
Его диссертацию читали три очень знающих специалиста, и мнение было единодушным: не только на докторскую, как самонадеянно рассчитывал Храмов, но и на кандидатскую она не тянет. Автор сильно отстал от жизни. Все, о чем он трактует, давно оставлено практикой позади. Но искра божья у автора, безусловно, есть. Вывод: следует повторить аспирантуру.
Это был удар для его самолюбия, хотя в глубине души Храмов понимал, что уважаемые профессора правы. Понимал, но не принимал. Затая обиду, считая себя чуть ли не оскорбленным, он поступил в аспирантуру, как будто делал институту великое одолжение, тогда как одолжение делали ему.
Начав заниматься, он быстро убедился, что за прошедшие годы в области знаний, касающихся твердых сталей, накопилось так много нового, что ему в пору было идти не в аспирантуру, а на студенческую скамью. Давняя привычка ходить в лидерах не позволяла Храмову признать свою отсталость, а преувеличенное самолюбие – оказаться незнающим. Он всерьез засел за изучение нового.
Но было еще и тщеславие. Он привез с собою из лесов десяток рассказов – надо попробовать их опубликовать. Осенью 1946 года Храмов пошел в редакцию одного из популярных органов. Вот почему в начале этой главы мы говорили, что нам еще придется вернуться к периодическим изданиям.
Напустив на себя застенчивость, которой вовсе не испытывал, Храмов вошел в большую комнату литературного отдела, где по четырем углам стояли письменные столы. Увидев не сидевшего, а стоявшего за столом слева у окна мужчину, Храмов безошибочно определил, что он и есть заведующий. За другими столами сидели женщины.
Отделом литературы в этой редакции заведовал человек лет пятидесяти. Отменно вежлив, прекрасные манеры, очки в тонкой, как намек, золотой оправе. Его можно было бы отнести к тому типу мужчин, который принято называть англизированным, если бы не чичиковское брюшко.
Храмов робко поздоровался, зав спросил, что ему угодно. Храмов подошел поближе, вынул из портфеля рукопись, отпечатанную на машинке, и сказал, что принес рассказ. «Вообще-то надо бы вам сдать ее в наш отдел писем, но раз уж вы пришли прямо к нам… – Зав протянул руку. – Давайте». Храмов по неопытности думал, что рассказ тут же и будет прочтен, но на сей раз ошибся. Респектабельный зав заглянул только в последнюю страничку, чтобы узнать, каков объем рукописи. А Храмов успел за это время разглядеть среди раскиданных по всему столу журналов и бумаг две яркие обложки – журналы «Лайф» и «Лук». Он смотрел на них так, словно увидел наконец на прилавке в магазине давно разыскиваемый галстук. Английский он изучил, но читал только классику, а ему хотелось узнать, что такое современный язык. Наблюдательный зав перехватил его взгляд и спросил с симпатией:
– Вы знаете английский?
– Да, немного. Самоучкой.
Зав бросил его рассказ на стол и сказал по-английски, указывая на стул:
– Садитесь, пожалуйста. Кем вы работаете?
Храмов сел и, чувствуя уже неподдельную застенчивость, ответил тоже по-английски:
– Я аспирант института стали.
– Сколько вам лет?
– Тридцать.
Зав опять заглянул в последнюю страницу его рукописи.
– Ну что ж, рад познакомиться, Евгений Петрович. Меня зовут Анисим Михайлович. У вас прекрасное произношение. Никогда не подумаешь, что вы самоучка.
– Всю войну слушал английское радио. Я жил в лесу на кордоне, приемник мы не сдавали. – Храмов был польщен безмерно, он весь сиял.
– Минуточку, – сказал зав по-русски, взял рассказ и подошел к женщине, сидевшей у окна в другом углу. – Алла Михайловна, голубушка, прочтите в ближайшее время, пожалуйста. – Вернулся к своему столу, выдвинул из правой тумбы ящик, достал пачку журналов «Лайф», протянул их Храмову: – Вот, возьмите. Я вижу, вы заинтересовались. Эти, на столе, я только что получил, еще не читал. Но и эти не старые.
– Спасибо. – Храмов даже растерялся, что редко с ним случалось. – Но как же…
– Вернете, когда явитесь получать отказ. – Зав повел очками в сторону женщины, которую звали Аллой Михайловной.
Шутка могла бы прозвучать двусмысленно, если бы эта женщина не была в столь почтенном возрасте. Храмов положил журналы в портфель.
– Огромное спасибо. Извините. – Он поклонился, но Анисим Михайлович не прощался, вышел вместе с ним.
В коридоре Анисим Михайлович взял Храмова под руку и заговорил совсем другим тоном, очень доверительно:
– Вам когда-нибудь приходилось заниматься редактированием?
– Нет. – Храмов чувствовал себя удивительно свободно с этим человеком, хотя они были знакомы всего пятнадцать минут. – А почему вы спрашиваете?
– Не хотите попробовать?
– А это что?
– Очерки, статьи, рассказы.
– На русском?
– Да. Переводные. С английского. Я потому и говорю с вами, что вы знаете язык.
– И оригиналы есть?
– Есть. – Анисим Михайлович остановил его в небольшом холле. – Хотите попробовать?
– С удовольствием.
– Подождите меня.
Он вернулся с голубовато-серой папкой в руке.
– Вот. Здесь сорок страниц. И оригиналы. Сможете принести через неделю?
– Постараюсь. А править прямо на этих страничках?
– Да.
– Карандашом?
– Можно чернилами.
– Ясно.
– Запишите на всякий случай мой рабочий телефон.
Храмов спрятал папку в портфель, записал телефон. Анисим Михайлович протянул руку.
– До свидания.
Рука у него была мягкая, как пастила…
Шагая к центру, Храмов мысленно восстанавливал секунда за секундой свой краткий, но так неожиданно закончившийся визит в редакцию. Скоропалительность, с которой Анисим Михайлович сделал свое предложение, его удивляла. Но, может, так вообще принято в журналистской и литературной среде?
Не менее удивительным было разительное несоответствие внешности этого человека и его имени. Анисим… Храмову представлялось, что обладатель такого имени должен, во-первых, жить в деревне, а во-вторых, быть дюжим, ражим мужиком. Или, наоборот, затюканным, облезлым мужичонкой. Это, конечно, из области фантазии, но, во всяком случае, Храмову так подсказывало воображение: Анисимов он до сих пор в жизни не встречал…
Вечером он с неведомым доселе удовольствием принялся за работу. В папке оказались две статьи и рассказ. Бумага необыкновенно белая и плотная, шрифт на машинке явно не наш – заметно мельче, и рисунок букв другой. Анисим – так стал звать про себя Храмов скорого на решения заведующего литературным отделом – дал ему второй экземпляр, из-под копирки. Ну, да, понятно: если он, Храмов, только зря измарает этот экземпляр, у Анисима останется для работы первый.
Сначала Храмов прочел все насквозь. Перевод был плохой. Собственно, не перевод, а подстрочник, калька. Непохоже, чтобы переводил русский. Статьи посвящены Америке.