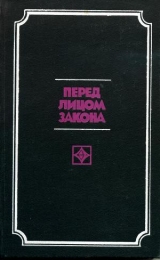
Текст книги "Знакомый почерк"
Автор книги: Владимир Востоков
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Глава XIII
«– Мы вас ждали, Паскевич…»
Обширная квартира Ричарда Славского была отдана на съедение мышам, в изобилии появившимся невесть откуда, – так бывает иногда с опустевшим и заброшенным жильем.
Клуб «Дискуссия» умер естественной смертью. Ричард усердно занимался в институте, куда ему в конце концов разрешили вернуться. Дома он только ночевал. Потому и пустовала квартира.
С Джорджем у него был еще лишь один разговор, кончившийся почти полным разрывом.
Они встретились во Дворце спорта в Лужниках на хоккейном матче – для конспирации. Разговор был минутный, потому что происходил на ходу: по пути с трибун в туалет. Джордж сказал, что Ричард пижон и молокосос, с которым опасно водить знакомство, что Ричард поставил его под удар. Слова были обидные, тем более что Ричард вызвал Джорджа на свидание по важному поводу: он получил телеграмму от Фастова. Сунув сложенный вчетверо бланк телеграммы Джорджу в карман, Ричард шепнул: «Примите мои наилучшие пожелания и проч.» – и отвалил в сторону.
Телеграмма содержала краткое сообщение: «Все собрались ждали вас». Это надо было понимать так: вся сумма денег – то есть тридцать пять тысяч – у Фастова в наличии, он готов их передать и ждет встречи с курьером. Позже станет известно, что Джордж через надежный канал сообщил об этом Дею и одновременно огорчил его новостью: он, Джордж, и его друг Ричард находятся под подозрением и участвовать в акции по передаче денег не могут.
Идея Сысоева начинала давать результаты, но чекисты пока об этом не ведали. Может быть, получив донесение Джорджа, Казимир Паскевич и его шеф Роджерс сочли бы необходимой немедленную повторную поездку в СССР, чтобы заполучить деньги от Фастова. Однако неразумно было бы не пустить в ход и новый катализатор.
Так случилось, что однажды январским днем 1975 года на работу Станиславу Михайловичу позвонил человек, представившийся майором госбезопасности, и попросил пригласить его в гости для делового разговора, что Станислава Михайловича даже обрадовало. Тем же вечером майор пришел в дом на бывшей Песчаной, ныне улице Вальтера Ульбрихта, – это был Сысоев.
Они пили чай и разговаривали с глазу на глаз в комнате, где не так давно Станислав Михайлович принимал брата. Это был для майора Сысоева совсем не простой разговор.
Он не стал начинать издалека, спросил напрямик:
– Станислав Михайлович, вам брат ничего не рассказывал, где он в войну обретался?
– Да вроде был за океаном… Так я понял…
– Получается, очень нехорошая у меня миссия… Вроде почтальона, который похоронки приносил.
– Почему же? Сейчас не война.
– Я вам обязан печальные вести сообщить. О вашем брате.
Станислав Михайлович развел руками.
– Куда уж дальше! Я о нем узнал такое – печальней не бывает. Какой он мне брат!
– Быва-а-ет, – со вздохом возразил Сысоев, чувствуя некоторое облегчение.
– Не представляю себе.
– А вот… – Сысоев вынул из внутреннего кармана сложенный лист, развернул его. Это была выписка из архивного дела Казимира Паскевича, напечатанная на машинке густо, через один интервал. – Прочтите.
Станислав Михайлович прочел и, бросив бумагу на стол, сказал коротко:
– Гад.
– Безнаказанный живет, – сказал Сысоев, – а числится в государственных преступниках.
– Еще как живет! – не удержался Станислав Михайлович. – Правда, он, похоже, у них на побегушках.
– Не совсем. Скорее для черной работы.
Помолчали немного. Станислав Михайлович хмурил брови, задумавшись. Потом спросил:
– Он же был в Москве… Что же вы его не арестовали?
– Тогда мы еще ничего не имели. Он под другой фамилией приезжал.
– Что сейчас от меня требуется? – Тон у Станислава Михайловича был решительный.
Наконец Сысоеву стало совсем легко, и он приступил к делу, ради которого пришел.
– Вы еще не посылали писем в Вену? Пора послать. – Он вынул из кармана знакомый Станиславу Михайловичу тюбик зубной пасты.
– Давайте писать, – сказал Станислав Михайлович, тоже как будто почувствовавший облегчение.
Они перешли за письменный стол и сели рядышком.
Сначала был составлен черновик. Затем его отредактировали и переписали набело. После этого Станислав Михайлович приготовил химическую копирку, как его учил Роджерс.
Тайнописный текст гласил:
«Удалось получить данные большой важности. Посылать почтой в обычном письме нет возможности. Сообщите способ передачи».
А поверх этого невидимого текста Станислав Михайлович написал чернилами:
«Здравствуй, Казимир!
Извини, что долго не давал о себе вестей. Доехал благополучно. Жена и дочь очень довольны подарками, благодарят тебя. Сейчас впрягся в работу, время горячее.
Очень хочу, чтобы ты приехал к нам в гости. Считай это моим ответным приглашением».
Сысоев и Станислав Михайлович понравились друг другу и расставались по-дружески, высказав надежду, что еще встретятся при совсем иных обстоятельствах. Тюбик Сысоев унес с собой.
Утром по пути на работу Станислав Михайлович опустил письмо в почтовый ящик.
Реакция последовала быстро. 29 января Станислав Михайлович получил письмо, опущенное в Москве, в котором неизвестный отправитель извещал его, что скоро приедут гости – именно так, во множественном числе. У Сысоева даже сердце екнуло: неужели сам Роджерс пожалует? Вот была бы удача! В жизни контрразведчика такие счастливые случаи выпадают нечасто…
Увы, Роджерс не приехал. Приехал – вернее, прилетел – один Казимир Паскевич.
Это случилось 6 февраля. В «Интурист» загодя поступила просьба мистера Дея закрепить за ним в качестве гида-переводчика Галину Храмову. Она его встречала в Шереметьеве, и все было как в прошлый раз, только шофер другой и разговор, разумеется, тоже. И остановился Дей в «Интуристе», но в другом номере. И еще погода другая.
Невозможно было предугадать, с чего начнет Казимир Паскевич – с денег или с якобы добытых его братом данных, подлежащих передаче. Если с первого – все нормально и просто. Для второго варианта был заготовлен особый план. По логике вещей Казимир должен начать со второго: брат в Москве, а Фастов с деньгами в двух тысячах километров от Москвы. Однако в делах подобного рода обычная логика не всегда пригодна. Тот, кто приехал, тоже не дурак. Он тоже имеет свои варианты и считается с возможностью того, что с ним ведут игру. При таких раскладках нередко побеждает тот, кто поступает вопреки привычной логике. Вероятнее всего, Казимир должен рассуждать так: зачем немедля забирать и носить при себе «взрывоопасные» документы, если они всегда под рукой? Это лучше сделать незадолго перед возвращением.
Как бы там ни было, Станислав Михайлович был готов к тому, что брат захочет увидеть его сразу по приезде. Роль его была трудна только тем, что он не мог бросить в глаза Казимиру «гада».
Станислав Михайлович зимой не ездил на своей машине, она стояла в гараже. А гараж находился очень далеко от дома – в районе Варшавского шоссе. За день до прилета Казимира, вызвав врача на дом, Станислав Михайлович взял больничный листок. В Москве погуливал грипп, поэтому ничего необычного в его недомогании врач не усмотрел. Если Казимир захочет тут же увидеться с братом, Станислав Михайлович пригласит его к себе, покажет больничный и сообщит, что документы спрятаны в гараже. И предложит: мол, ты не на один же день приехал, устраивай пока прочие дела, а через недельку поправлюсь и съезжу за бумагами.
Итак, принимались во внимание два варианта. В действительности же, выражаясь изящным канцелярским слогом, имел место гибрид первого варианта со вторым.
6 февраля в девять часов вечера Казимир позвонил брату по телефону-автомату с телеграфа.
– Здравствуй, родной! – бархатисто звучало в трубке. – Ты меня приглашал, и вот я здесь.
– Когда приехал? – спросил Станислав Михайлович, не проявляя особенного восторга.
– Сегодня, дорогой мой, сегодня.
– Так заезжай сейчас же.
– Пожалуй, отложим немного. Надо отдохнуть, что-то полет тяжелый был. А завтра позвоню. Как твои успехи?
– Нормально. Загрипповал вот, но это чепуха, температура небольшая.
– Значит, ты все время дома?
– Да, с недельку проваляюсь. Тут тебе жена с дочкой подарки приготовили.
– А ты? – со значением спросил Казимир.
– Ну и я тоже, конечно.
– Хорошо, братишка. Я счастлив, что снова в Москве и снова слышу тебя. До завтра.
Утром стало ясно, что Казимир документов у брата не возьмет по крайней мере дня три: Галина заказала билеты на самолет, чтобы отправиться в город, где живет Фастов, на 8 февраля.
Днем 7-го он звонил с телеграфа Фастову. Тот был дома, не очень обрадовался, но заверял, что устал ждать и что все в порядке.
Вечером 7-го Казимир снова позвонил брату и объяснил, что должен на несколько дней покинуть Москву, а как только вернется, они увидятся. Станислав Михайлович не возражал.
8 февраля утром Казимир вылетел со Внуковского аэродрома на юг.
Галина Храмова не отличалась выдающейся наблюдательностью, но она заметила, что мистер Дей в этот свой приезд выглядит гораздо более озабоченным и менее любознательным, чем в прошлый. Он по-прежнему оставался неизменно любезным и предупредительным, но, к ее удовольствию, без налета прежней галантерейности. Это-то и заставило ее присмотреться к мистеру Дею внимательнее, и тогда она и обнаружила его сосредоточенность в себе. Тем лучше, подумала она, проще отношения…
Понятно, что Галина Храмова никак не предполагала лишиться своего туриста «люкс» в южном городе и вернуться в Москву без него. Но ей предстояли неожиданности.
…В гостинице «Черное море» помнили добродушнейшего мистера Дея. Ему предложили тот же номер, и он пошутил: «Что, вы так его и держали пустым до моего возвращения?» И отказался от него. Дали другой.
Галине мистер Дей сказал, что будет один ходить по городу, а она может располагать собою по своему усмотрению. У него была лишь одна просьба: заказать обратные билеты на завтра.
…С моря дул влажный ветер, с неба сыпалась сухая снежная крупа. Осыпаясь на тротуар, крупа прилипала к наледи, и тротуар становился шершавым, похожим на белую наждачную бумагу. Идти было нескользко, Казимир Михайлович шагал широко. Путь был ему знаком и конечный пункт тоже: он направлялся в кафе «Астра», где в предыдущий приезд Галина Храмова познакомила его со своим дядюшкой и где сейчас его по договоренности должен был ожидать Юрий Георгиевич Фастов с тридцатью пятью тысячами рублей. Казимир Михайлович не испытывал беспокойства, но все-таки его несколько смущало то обстоятельство, что такую большую сумму необходимо получать в многолюдном месте. Он нес с собой чемоданчик. Если Фастов тоже с чемоданчиком, они просто обменяются ими. Если вся сумма в сотенных купюрах, то вообще проблемы нет. Надо надеяться, Фастов продумал этот вопрос, прежде чем назначить свидание в кафе в пять часов пополудни.
Казимир Михайлович вспоминал свои долгие беседы с Евгением Петровичем Храмовым, которого в глубине души считал бесперспективным для настоящей работы, слепым идеалистом, но с которым ему очень хотелось встретиться, чтобы посмотреть, насколько он продвинулся вперед после того, как получил почти настоящий печатный станок. Он наметил сегодня же вечером, после встречи с Фастовым, навестить Храмова.
Сумерки сгустились. Казимир Михайлович издалека увидел на уровне вторых этажей неоновый белый цветок и зеленое слово «Астра». И тут словно что-то притормозило его, он замедлил шаг. Почему в самом деле Фастов выбрал для свидания именно кафе, где так много народу? Вон и очередь у входа стоит… Очередь, правда, была предусмотрена. Фастов сказал, чтобы Казимир Михайлович не смущался этим. Он предупредит швейцара, надо постучать в дверь и сказать, что к Фастову, – его пропустят… Нет, поворачивать Казимир уже не мог.
…Дальнейшее происходило как бы автоматически, по заданной программе, помимо его воли.
Извинившись перед пышноволосыми юнцами, толпившимися у входа, он пробрался к двери, постучал. Шторка на зеркальном стекле двери отодвинулась в сторону, на него глянул глаз в морщинистой оправе, он назвал фамилию Фастова, и дверь открылась. Старый швейцар принял у него пальто, дал номерок, и Казимир Михайлович вошел в хорошо освещенный зал, очень тесно заставленный столиками. Очки отпотели, но он все же увидел мельтешащую над головами сидящих белую руку – Фастов звал его. Он сидел в самом центре зала. Соседями по столику была молодая пара, один свободный стул ждал Казимира.
Он поставил чемоданчик на пол между собою и Фастовым, оглядел пространство под столом – никакого другого чемоданчика там не было. Казимир протер очки замшевым лоскутком, окинул Фастова приветливым взглядом. Карманы у того совсем не оттопыривались. «Где же деньги?» – казалось, хотел спросить Казимир.
Перед Фастовым стояла початая бутылка рислинга. Он протянул к ней руку.
– Хотите?
– Нет, нет, мне нельзя.
– Что заказать?
– Кофе.
Фастов собирался позвать официантку, но Казимир Михайлович движением бровей попросил его наклониться поближе и шепнул:
– А где же?..
– Там, на вешалке, – передразнивая его, загадочным тоном ответил Фастов.
– Вы с ума сошли.
– Швейцар свой человек. Он мои вещички не проглядит, не беспокойтесь.
– Давайте уйдем отсюда.
– Можно, – согласился Фастов.
Он остановил проходившую мимо официантку и рассчитался.
В гардеробной было много народу, толклись какие-то люди, одни в пальто, другие без пальто.
Казимир Михайлович поставил свой черный новенький, поблескивающий металлом чемоданчик на нечистый пол у барьера, отдал номерок швейцару, тот подал ему пальто, помог одеться.
Потом оделся Фастов. Швейцар выставил на барьер его потертый серый фибровый чемоданчик, с которым Фастов обычно ходил в рейсы. Фастов опустил его вниз, поставил рядом с чемоданчиком Казимира Михайловича – это выглядело как телега рядом с автомобилем последней модели.
…Ну конечно! Тысячу раз виденный и читанный элементарный прием: сейчас они перепутают чемоданы, и дело в шляпе. Но по шпионским правилам обмениваемые предметы должны быть похожи друг на друга если не как близнецы, то хотя бы как двоюродные братья. А здесь даже и не седьмая вода на киселе. Кто-кто, а уж Казимир Михайлович правила знал. И все же произошло тысячу раз виденное и читанное: он взял чемоданчик Фастова. И тут же на его руку, державшую ношу, легли другие руки. Это было настолько неожиданно в беспорядочно толкущейся толпе, что в первый момент Казимир Михайлович подумал – его грабят.
– Позвольте! – воскликнул он, отшатываясь от человека, сжимавшего его руку.
– Вы взяли не свою вещь, – сказал Сысоев. И чуть возвысил голос, чтобы перекричать гул кафе: – Прошу понятых.
Он повел Казимира Михайловича через коридор. Они зашли в кабинет директора кафе.
Тут был составлен протокол, зафиксировавший, что Фастов и господин Дей – так записал майор Сысоев, посмотрев в паспорт, предъявленный Казимиром Михайловичем, – обменялись чемоданчиками. Двое понятых, молодые парни, расписались, и Сысоев, поблагодарив, сказал, что они могут идти. Они ушли с неохотой.
В переулке стояли две «Волги».
Фастова и Казимира Михайловича поместили в разные машины.
Через пять минут они оказались в управлении КГБ, и начался первый допрос.
Казимир Михайлович протестовал, возмущался, требовал связать его с посольством.
С ним не стали играть: на очной ставке Фастов рассказал о манипуляциях в Амстердаме. Казимиру Михайловичу задавали упорно один и тот же вопрос: кто он такой и каковы его интересы в СССР? И он непоколебимо стоял на одном и том же: бизнесмен, совладелец фирмы химических продуктов, доктор социологии, приехал в Советский Союз, чтобы изучить возможности заключения торговых соглашений.
Фастова, оказывается, он видит в первый раз. Все это подстроено.
Среди вещей Казимира Михайловича обнаружили аргентинский паспорт на другое имя. Казимир Михайлович, не моргнув глазом, сказал, что паспорт ему подброшен.
Было очевидно, что сбить Казимира Михайловича с его позиций – позиций бизнесмена и социолога – не удастся, а если и удастся, то ценой очень долгих допросов. И хотя допросы велись в обычные рабочие часы, днем, в хорошо проветренной комнате, майор Сысоев ни себе, ни упорному старику здоровья портить не хотел. При очередном допросе вдруг сказал Казимиру Михайловичу:
– Какой же вы мистер Дей? Мы вас знаем очень хорошо. Мы вас ждали, Паскевич.
После, рассказывая товарищам об этом моменте, Сысоев очень сожалел, что у него не было киноаппарата, такого, какой имелся у Казимира Михайловича. «Момент, достойный запечатления крупным планом», – как определил Сысоев.
Казимир Михайлович не упал в обморок, не хватал судорожно ртом воздух и даже не просил воды. Он вздрогнул и застыл, с ужасом уставившись на Сысоева. А тот вынул из стола выцветшую папку, извлек из нее плотный лист бумаги с грифом, исполненным готическим немецким шрифтом, и, встав и обойдя стол, подержал этот лист перед лицом Казимира Михайловича. Вот тогда-то Паскевич в одну минуту сделался настоящим старикашкой.
Однако напрасно Сысоев рассчитывал, что Паскевич сдастся без боя. Еще три месяца мотал он нервы множеству людей: он требовал доказательств, требовал живых свидетелей его гнусных деяний.
Нашли свидетелей, добыли доказательства. И состоялся суд, приговоривший Казимира Михайловича Паскевича к смертной казни. Он подал прошение о помиловании. Его помиловали, заменив расстрел пятнадцатью годами колонии строгого режима.
Еще раньше, при первых шагах следствия, посольству было сообщено, что мистер Дей задержан с поличным и будет судим по советским законам. Так Роджерс узнал, что его подручный арестован в южном городе, куда поехал к Фастову за деньгами.
О Паскевиче двух мнений быть не могло, но с Фастовым как поступать? Он совершил преступление, за которое Уголовный кодекс предусматривает самую суровую кару – от десяти до пятнадцати лет заключения. Но Фастов искренне раскаялся – искреннее не бывает. Фастов активно и сознательно, по доброй воле помогал следствию, при его участии был арестован Паскевич.
Люди порою склонны быстро забывать и прощать обиды и даже злодеяния, это в их характере, тем более если преступивший закон повинился. Иного человека, кипящего справедливым негодованием при виде преступника, можно в полчаса превратить в его горячего защитника. Но правосудие не может уподобляться человеку, у которого рассудок полностью подчинен эмоциям.
Фастова судили. Приговор оказался мягким. Перед отправкой из города ему разрешили свидание с женой. И может быть, никогда прежде они не испытывали такого глубокого чувства взаимной любви. Происшедшее словно сняло ржавчину с их отношений. Предстоящая разлука не пугала ни его, ни ее. Валентина все пытала мужа, считает ли он ее виноватой в том, что осужден, а он целовал ей руки и благодарил. Кто знает, куда бы завела его нелегкая, если бы она не пошла тогда в пароходство. Он ведь ее не слушал, шлея под хвост попала. А у Миши Суликошвили хватка мертвая…
Джордж был выдворен из страны за деятельность, враждебную советскому народу.
Перепуганный Ричард Славский дал беседовавшему с ним чекисту честное слово, что никогда не вернется к тому образу жизни, который он считал таким сладким. И детям своим закажет, если они у него появятся, конечно…
Эпилог
Капитан Краснов еще в угрозыске четко осознал, что нельзя смотреть на жизнь и на людей сквозь призму тех дел, которыми ему приходилось заниматься. Его не надо было убеждать, что его «клиенты» лишь «редко встречающиеся, иногда в отдельных случаях нетипичные преступные элементы». Он не помнил, где прочел или услышал эту неуклюжую формулировку, но она существовала. Было время, когда он боялся очерстветь и озлобиться, но оно давно прошло. На любом пшеничном поле могут появиться сорняки. Их нужно вырывать. А лучше не допускать.
Дело Храмова – Фастова – Паскевича было первым большим делом Краснова на работе в органах госбезопасности. Обозревая все, что произошло в его рамках, он видел людей откровенно враждебных, преступников по убеждению, людей запутавшихся и просто легкомысленных. Такова уж специфика его работы: хорошие, нормальные люди не нуждаются в сугубом внимании чекистов – они нуждаются только в их защите, в щите. Да и, в сущности, занимались они одной личностью – Паскевичем. А на гнилом дереве кого увидишь? Червяков да пауков. А лес стоит чистый…
Не ахти какое оригинальное соображение, но оно всегда верное, никогда не стареющее: если гнилое дерево не убрать своевременно из леса, от него заразятся другие деревья. А живое жалко.
Что же сказать о людях, которые из-за каких-то подлых созданий, недостойных человеческого имени, мучаются, страдают и едва не теряют то, что отличает человека от звероподобного существа, – веру в добро и бескорыстие?
Самую большую боль испытывал Краснов, когда думал о Валентине Фастовой. Он не считал себя способным до глубины проникнуть в женскую душу, заглянуть в сердце матери маленького мальчика, чей отец, кому она поклонялась как богу, сделался вдруг преступником. Но он мог себе представить, сколько горя она приняла, какую неизбывную, непереносимую боль испытала. Любовь и долг – кажется, эти два великих чувства по всем земным законам должны быть слиты воедино и помогать друг другу. Нет, оказывается, не всегда и не везде. Чуть отступил Юрий Фастов от честных правил, чуть поддался низменным желаниям – в эту щель тут же проникли ложь и грязь. А там, где ложь и грязь, появляются такие, как Казимир Паскевич и Миша Суликошвили. И вот уже сломана жизнь прекрасной женщины, рушится семья, и маленький мальчик лишается отца. Краснову моментами казалось, что он физически ощущает страдания, выпавшие на долю Валентины Фастовой.
А потом по контрасту ему вспоминался Ричард Славский, Джордж и их недоразвитая паства из клуба «Дискуссия». Этим-то вряд ли доступны хоть какие-то сильные чувства. Ни большого горя, ни большого счастья они не сумеют, наверное, испытать никогда, и Валентину Фастову им не понять.
Ну, с Джорджем все предельно ясно: это враг, работающий за плату. Подобные Ричарду подбирают огрызки, хотя и считают себя при этом аристократами. Надо полагать, получив урок, Ричард Славский кое-что понял и теперь направит все свои наличные способности на собственное нормальное развитие, а стало быть, на благое дело.
Что касается паствы, Краснову хотелось бы собрать вместе этих зарвавшихся юнцов и развязных девиц – не под эгидой клуба «Дискуссия», разумеется, – и сказать им краткую речь. Он сказал бы примерно так:
«Мои молодые слушатели! Выньте сигареты изо рта и перестаньте жевать резинку. Послушайте меня внимательно. Чего вы хотите, разглагольствуя о преимуществах западного образа жизни, которого вы и не нюхали? Вы же не знаете, как пахнет слезоточивый газ, когда им окуривают толпу демонстрантов где-нибудь в Соединенных Штатах, и не имеете понятия, какой вкус бывает у полицейской дубинки, когда ею разбивают человеку зубы где-нибудь в Западной Европе. Вы не стояли в длинных очередях на бирже труда.
Если вы как потребители диетических куриных яиц мало-мальски знакомы с птицеводством, то должны знать, что есть такое народное словечко „болтун“, – оно относится к яйцу, из которого никакая курица не сможет высидеть цыпленка.
Надеюсь, я выражаюсь достаточно популярно.
Вы мне крайне несимпатичны, малоуважаемые бывшие члены клуба „Дискуссия“, извините за откровенность. Но я твердо уверен, что пройдет совсем немного времени, вы подрастете, и вам будут смешны и горьки эти сомнительные увлечения более чем сомнительными проповедями вашего бывшего знакомого Джорджа – смешны, если не противны.
Вы еще молоды – у вас все впереди. Так будьте же людьми, никогда не забывайте, кто дал вам жизнь и крылья. Спасибо за внимание».
Поняли бы они его или нет? Наверное, должны бы понять…
Рассуждая так, капитан Краснов шел на последнюю – он это знал – встречу с Евгением Петровичем Храмовым. Перед тем они виделись на квартире у Храмова неделю назад. Квартира уже была пуста – Храмов все распродал за полцены соседям. Оставались только кровать и холодильник.
Распродаже предшествовало четыре месяца совершенно необычного единоборства. Тридцатипятилетний капитан госбезопасности Краснов учил жить пятидесятидевятилетнего старшего преподавателя института Храмова. На это стоило посмотреть.
В первый месяц после происшедшего Евгений Петрович держал себя нервически.
Капитан Краснов не уважал людей, которые в раскаянии рвут на себе волосы и плачут. У него была на этот счет своя теория. Он утверждал, что слезы растворяют раскаяние и удаляют его из организма. И что ж там остается? Ничего. Настоящее раскаяние должно долго оставаться в душе человеческой.
А Евгений Петрович много плакал. И в этот «мокрый» период Краснов с ним разговаривать не хотел.
Затем наступил период мученичества. Тут они уже разговаривали, и Храмов обильно цитировал Федора Михайловича Достоевского, сочинения которого знал досконально. Краснов увидел просвет в настроении Храмова. Евгений Петрович уверял, что жаждет пострадать, и был рад услышать от Краснова, что его действия могут быть квалифицированы судом как преступные и повлечь за собой кару в виде лишения свободы.
Он действительно заслужил такую кару, но с ним обошлись крайне гуманно. Есть такая щадящая мера – предостережение. Храмов его и получил, расписавшись в получении.
И тут настал третий период – ощущение полной пустоты внутри и полной непричастности к внешнему. Положим, все внешнее, окружавшее его, Храмов и прежде считал чуждым себе, но он чувствовал его живое присутствие хотя бы потому, что мог ругать все сущее и пускать в него отравленные стрелы. Что касается внутренней жизни, высоких взлетов духа и прочего, то тут Евгений Петрович ощущал всегда свою непревзойденность. И вот, пожалуйста, ни того, ни другого. Но…
Бывают утери слаще обретений. И это с изумлением открыл для себя Евгений Петрович на шестидесятом году жизни. Все, что ушло от него и из него, очистило место для чего-то иного – не обязательно из ряда вон выходящего, пусть обычного, самого обыкновенного, но для чего-то такого, что прежде было ему неведомо. А проще – для нормального человеческого мироощущения и осознания себя в мире других людей.
Этот третий период и свел Храмова с Красновым. Храмов, оставшись в полной, как вакуум, пустоте, искал общения с человеком живым. Краснов считал себя обязанным не оставлять его в беде. И это дало свои плоды. Первое, что сделал Храмов, – нанес визит профессору Терехову и просил у него прощения. Предлагал в письменной форме, через стенную печать института, изложить свою вину. Но профессор простил его и так. Затем Храмов подал заявление в ректорат с просьбой об отчислении по причине его недостойного поведения. Просьбу удовлетворили. Тогда-то он и ощутил острое чувство одиночества. И позвонил Краснову…
Если принять во внимание особенности биографии Евгения Петровича, не покажется поразительным, что Краснов, годившийся ему в сыновья, обладал гораздо более обширным жизненным опытом. Да и вообще у чекиста в этом отношении много преимуществ по сравнению с людьми других профессий.
Старость и молодость поменялись местами. Старость вопрошала, молодость подыскивала подходящие случаю ответы, облекая их в форму, доступную пониманию неразвитого ума.
– Вы знаете, – сказал Краснову Евгений Петрович, когда они встретились впервые вне стен управления, на Приморском бульваре, – у меня на книжке много денег, хватит на десять лет. А мне до пенсии всего один год.
– Можно позавидовать.
Но Храмов уловил истинный смысл ответа.
– Вы правы, не в этом дело.
– Если бы в сберкассу можно было складывать неизрасходованные силы, – вздохнул Краснов.
– Я не читал о такой возможности даже в научно-фантастических романах. – Храмов тоже вздохнул.
– Так что же, будете доедать сберкнижку?
– А что же еще? Уеду я отсюда. Тут меня люди знают. Стыдно в глаза смотреть. Уеду. Буду доедать сберкнижку.
Евгений Петрович изобразил жалкое подобие саркастической улыбки, которая прежде удавалась ему необыкновенно хорошо.
Недели через три Храмов позвонил Краснову и сообщил, что списался с институтом одного крупного города, расположенного возле Полярного круга. Краснов вначале высказал опасения, что столь резкая перемена климата может не пойти ему на пользу. Но Храмов считал это предрассудками. Для него главное – попробовать сложить жизнь по-новому. И Краснов согласился с этим.
А потом состоялись спешные переговоры с ЖЭКом относительно сдачи квартиры и выписки, и вот Краснов идет прощаться с Евгением Петровичем. Он идет и думает, что самым счастливым образом вся эта история кончилась для Храмова. А ведь она с него и началась.
Краснов за прошедший год многому научился. Главное же, он понял, насколько важна его нелегкая работа. Она гораздо важнее и труднее, чем он думал раньше. Его можно было называть бойцом невидимого фронта, солдатом необъявленной войны или как-нибудь еще, это не имеет значения, но он сознавал, что участвует в упорной и бескомпромиссной борьбе, и твердо знал, что никогда не отступит.






