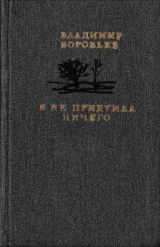
Текст книги "Я не придумал ничего (Рассказы для детей и взрослых)"
Автор книги: Владимир Воробьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
И вдруг – отречение царя, свобода! Мать прекрасно помнила этот день, да и мыслимо, ли забыть такое! Вся Самара на улицах. Обнимаются, целуются незнакомые между собой люди. Поздравляют друг друга, иные даже плачут от счастья. Повсюду флаги – национальные русские и революционные алые! Везде митинги, ораторы сменяют один другого.
Трибуны – извозчичьи пролетки, вынесенные на тротуар столы. Речи произносятся с балконов, с перевернутых бочек и ящиков. Можно было провозгласить свою собственную политическую «платформу», взобравшись на фонарный столб.

И отовсюду, со всех сторон несется, ширится, ходит волнами смелая, вольная и непреклонная «Марсельеза». Папа и мама, шальные от надежд, с алыми бантами на груди, вместе со всеми распевают ее.
Только не со всеми они кричали ура. И не всем ораторам аплодировали. Умные они у меня были… Ведь одни – за «войну до победного конца», другие – за «долой войну». А были и такие, которые с радостью заголосили бы «Боже, царя храни», да справедливо опасались – побьют.
Многие поняли уже тогда, что одинаковой для всех свободы не бывает, что борьба за подлинную свободу народа еще впереди и легкой она не будет.
До боли сожалею я теперь о том, что не расспрашивал отца ни о чем. А ведь он и сам, наверное, хотел мне рассказать многое. Юность обычно слишком занята бывает собой, сиюминутными делами, хоть и нужными, интересными… Всем, что свалилось на нее само по себе. А между тем пройдут годы, и, может быть, у тебя у самого будет свой неповторимый день, своя «Марсельеза», – и никто тебя о ней не расспросит…
КАМЕНЬ С ДУШИ
 ыл хабаровский желтый день. Это действительно бывает иногда в Хабаровске, обычно в конце лета, на исходе дня. Солнце спускается к небосклону неяркое, совсем ручное, как говаривал отец. Деревянные дома и столбы, новые, не успевшие почернеть заборы, редкие живые деревца, и особенно бревна длинных мостов через глинистые овраги речонок Плюснинки и Чердымовки, – все вдруг сделается желтым.
ыл хабаровский желтый день. Это действительно бывает иногда в Хабаровске, обычно в конце лета, на исходе дня. Солнце спускается к небосклону неяркое, совсем ручное, как говаривал отец. Деревянные дома и столбы, новые, не успевшие почернеть заборы, редкие живые деревца, и особенно бревна длинных мостов через глинистые овраги речонок Плюснинки и Чердымовки, – все вдруг сделается желтым.
А лишь только солнце коснется дальнего, за широкой рекой, горизонта, все становится ненадолго синим, потом сразу багровым, и вот уже наступили вечерние теплые сумерки с первой, робкой, голубеющей в чуждой дали звездочкой…
В такой вот, еще не умерший желтый денек и увидел я папу. Он возвращался, как всегда в этот час, с работы, но, кроме портфеля в одной руке, в другой у него было… ружье!
Я мгновенно все постиг, бешено обрадовался и припустил что есть духу навстречу.
Отец долго не отдавал мне ружья. Я изнывал от желания схватить, я пытался отнять, но папа играл со мной, как с котенком. Сердце мое колотилось в неистовой радости.
– Отдай! Ну, пожалуйста, отдай! Это мне, я знаю! – приставал я.
Теперь-то мне понятно, почему папа тянул секунды. Он знал: пройдет эта радость, и будет ли еще такая…
Но вот наконец ружье у меня в руках! Почти новенькое, замечательное, МОЕ ружье!
Как оказалось, в портфеле у папы были не бумаги, над которыми он обычно корпел ночами, а порох, дробь, новенькие, сверкающие латунные гильзы и всякая прочая охотничья снасть. Вечером отец не сел за работу, учил меня собирать, разбирать и смазывать затвор, чистить ствол, заряжать патроны. И был это один из счастливейших вечеров в моей жизни.
Сам отец не ходил на охоту, и первый раз я отправился с моим учителем физики. Наш Александр Сергеевич иногда поручал мне вести урок вместо него. Учитель тогда не был главной фигурой в классе. Дети должны были учиться сами. Это называлось бригадным методом. Все парты составлялись таким образом, что половина класса сидела спиной к учительскому столу и доске. Каждые четверо оказывались нос к носу и были бригадой. Кто-нибудь один за всю бригаду сдавал зачет по предмету. Я сдавал физику, другой – русский язык, третий – математику… Великих трудов мне стоило уже потом, взрослым, восполнять пробелы в знаниях.
Конечно, я прибежал задолго до назначенного часа.
Учитель понимающе улыбнулся. Вообще-то он был не очень улыбчивым, и поэтому, я замечал, он не всем нравился. А есть люди, которые всегда улыбаются, всем улыбаются. При ином человеке скверно поступят, скверно скажут о другом, скверно выругаются, а он… улыбается. Наш Александр Сергеевич был другим.
К концу дня нам удалось товарным поездом перебраться на ту сторону Амура. И только поезд отгромыхал и скрылся, я увидел двух уток: они суетились в канаве возле железнодорожного полотна. Я выстрелил и, конечно, не попал.
Мой учитель только посмеивался, он знал, что никакие наставления мне сейчас не помогут. К собственному волнению мне надо сначала притерпеться, а потом превозмочь его. Дается это не сразу, иной не научится владеть собой за всю жизнь.
День прошел как в счастливом бреду. Если бред бывает счастливым… Я расстрелял весь патронташ, ничего не добыл и только мешал Александру Сергеевичу. Особенно подвел я его, когда мы подкрадывались к стае диких гусей. Они громко и тревожно гоготали, приближаясь к нам. Я знал, что нельзя высовывать голову из камыша, и все-таки высунулся… Стая взмыла и стороной, вдоль высокой серой стены камыша, умахала на другую сторону озера.
И еще я побывал в тот день на черной речке. Такое можно увидеть только на Дальнем Востоке или… во сне.
Цветастый, какого и не придумать, осенний лес. Поляну пересекает неширокая речка. Она черная, чернее не бывает. Гладь воды – как полированный эбонит, зеркально гладкая чернота. И в ней отражается удивительный мир. Золото, багрянец, изумруд листьев, серебряные перья облаков, синее небо, черные, коричневые, красные стволы деревьев так и живут в нем перевернутые, перепутанные и невесомые, как в страшной и прекрасной сказке…
С кустов свисают черные, алые, желтые неведомые ягоды. Прямо из воды тянутся на тонких стеблях вверх и уходят вглубь лиловые и белые цветы. Замерли в безветрии гордые и печальные пепельные ковыли. И всюду-всюду, вверху и внизу, посвечивают фонарики.
Все дремлет, грезит о чем-то и чего-то ждет…
Ночевали мы с учителем в доме переселенцев, новом, как гроб. Он был непонятно длинный, я тогда таких еще не видел и не знал, что они. называются бараками. Только что сколоченный из молочно-белых новых досок, он еще скипидарно пах. Обильные смоляные слезы медленно стекленели на них.
Внутри, из конца в конец, в три этажа – нары. За лоскутными крестьянскими одеялами ютятся семьи. Оттуда доносится разноголосица, детский плач, перебранка. На ближних нарах храпят здоровые, очень уставшие люди.
В небольшом свободном от нар пространстве, в закутке возле забитого рогожей, еще не застекленного окна, – раскаленная докрасна круглая железная печурка. В отсветах неяркого пламени старик в белой холщовой рубахе до колен плетет сеть. На ногах у него новенькие аккуратные лапоточки. Белые густые волосы подвязаны ремешком, белые кустистые брови свисают на умные строгие глаза. Удивительно он был похож на стариков из русских сказок, только, правда, не на того жалкого старичишку, который все старался угодить своей старухе и вконец надоел золотой рыбке.
Сухие длинные пальцы старца проворно гоняли челнок в ячейках сети. Горбатая его тень на стене нелепо дергалась, словно большая птица с короткими крыльями хотела и не могла взлететь.
Под ширканье челнока я и заснул, успев лишь спросить старика: «А много в озере рыбы, дедушка?» На что он промолвил непонятно: «Рыбки – слава те господи! Да что ж она без хлебушка-то…»
Возвращались с охоты измученные, на тормозной площадке. Поезд чуть не всю ночь простоял на разъездах, мы промерзли с учителем до костей. Потом попросились на паровоз. Поклон тебе, паровозный машинист! Жарким пламенем полыхало в топке. Горячий железный пол дрожал и качался. Пахло водяным паром, нагретым железом, машинным маслом, угольной пылью – всем сразу. Я мгновенно сомлел, сидя на корточках в уголке.
На товарной станции, куда мы прибыли только под утро, меня разбудили, разогнули, поставили на ноги.
– Вставай, охотничек! С крещением! – смеялся машинист.
Мне помогли спуститься по железной лесенке на землю. Ноги не слушались, ружье было стопудовым. Но скоро все пошло, и я, думалось мне, совсем неплохо выглядел с ружьем и красавцем селезнем, подвешенным к поясу. Но город еще спал, улицы были безлюдны, и Хабаровск много потерял в то утро…
Утку дал мне Александр Сергеевич, уверив, что у настоящих охотников принято делиться добычей и что, мол, он тоже когда-нибудь не откажется.
Настроение у меня стало портиться сразу, как только мы расстались. Смятение и тоска овладели мной, когда я подошел к дому.
«Вот если бы я! Если бы я сам убил утку! Вот было бы здорово! Вот было бы хорошо!» – исступленно желал я.
Дверь открыла мама. Увидев утку у пояса, спросила чуть-чуть испуганно:
– Неужели?..
Это еще можно было пережить и даже ответить в положительном смысле, но папа… Он был в постели, привычно потянулся к тумбочке за портсигаром. Не глядя на меня, ровным голосом, будто ему все равно, спросил:
– Сам убил?
И вот тут-то и произошло самое глазное и самое для меня важное. Улыбаясь до ушей, огорченно правда, я протянул:
– Да не-е-а…
И сразу будто камень с души свалился, радостно и легко стало мне. И, верите ли, даже в комнате посветлело, словно окон прибавилось. Отец, все еще не глядя на меня, с особенным, как мне показалось, удовольствием, прикурил, пыхнул дымком и сказал, кивнув на утку:
– Покажи.
ВЕСЕЛЫЙ БАРАМИДЗЕ
 ы снова живем у подножия Машука, горы, заросшей кудрявым леском, с зеленой голой макушкой. Вокруг города возвышаются и еще горы. Их очертания на полотнище голубого неба так знакомы мне… А вдали в особенно погожие, ясные деньки виднеются островерхие сахарно-белые вершины Кавказского хребта. Казалось, это оттуда в жаркий полдень веет прохладный ветерок.
ы снова живем у подножия Машука, горы, заросшей кудрявым леском, с зеленой голой макушкой. Вокруг города возвышаются и еще горы. Их очертания на полотнище голубого неба так знакомы мне… А вдали в особенно погожие, ясные деньки виднеются островерхие сахарно-белые вершины Кавказского хребта. Казалось, это оттуда в жаркий полдень веет прохладный ветерок.
Поселились мы в двух комнатенках крохотной квартиры, в самой глубине большого двора, окруженного домами, сложенными из белого известняка, со множеством порогов, крылечек, балконов, увитых диким виноградом, невысоких каменных лестниц без перил.
Высеченный в известняковых отложениях двор сверкал белизной. Этому, впрочем, немало способствовал наш дворник Акопыч своей усердной метлой.
Двор полого спускался от зияющей пещерами Горячей горы к улице с самым что ни на есть курортным названием – Теплосерной. Это был, собственно, бульвар в обрамлении тощих акаций. По обе стороны бульвара – улицы, вымощенные крупным синим булыжником.
Возле железных ворот царственно возвышалось, раскинув могучие ветви, даря прохладную тень, огромное тутовое дерево. Здесь же – общий водопроводный кран. В замшелых влажных камнях под ним жила пучеглазая лягушка, – как в продолжение многих лет мне казалось, всегда одна и та же. Иногда в предрассветные часы мы беседовали…
Комнаты у нас с мамой были такими маленькими, каких я, кажется, ни раньше, ни позже не видел. В каждой помещались лишь кровать, маленький стол и табуретка. Мне кроватью служил сундук, в котором лежало наше нехитрое имущество – зимняя одежда. В нем же хранились разные вещицы – память о лучших днях: мамины венчальные свечи, папины запонки, сделанные из двух старинных серебряных монеток, и мой вконец уставший на марше из детства оловянный солдатик.
Сундук въехал когда-то в наш самарский дом весь сверкающий черным лаком и медными полосками, праздничный. Я хорошо помню этот день даже теперь. Я, тогда трехлетний малый, трудился до поту, отводя звонкие, серебряными веревочками вьющиеся из-под сугробов ручейки. Все сверкало в тот день: и окна дома, и ручьи, и огромные – не перейти – лужи, и отдельные крохотные льдинки в разломах снега у меня на лопатке вспыхивали то белым, то синим, то розовым светом.
Потом сундук плыл с нами, мной и мамой, напуганной до онемения, по какой-то страшной быстрой реке. Смеркалось, рядом вертелись в водоворотах и догоняли нас целые деревья, черные рукастые коряги и огромные пни с рыжими мохнатыми хвостами. Перегруженная лодка черпала бортом злую мутную воду, а в это время где-то близко бухало и бухало. Это били пушки, я слышал гражданскую войну.
Потом была у него скучная длинная дорога на Кавказ, потом на Дальний Восток, потом снова сюда. И суждено ему было приехать со мной на Урал, и на нем здесь играли в куклы мои маленькие дочки.
Так иные вещи живут с человеком подолгу и верно ему служат.
Втиснуть в мою комнату удалось еще рассохшийся, очень маленький комодишко, купленный на барахолке. На комод поставили не к месту большое, туманное зеркало. Оно много лет не давало мне остаться наедине с собой: куда ни повернусь или даже лягу на сундук – мою кровать, – а все время вижу себя как бы со стороны и будто в банном туманце.
В тот же день, как мы приехали, обошел я дорогие и памятные мне места. Казалось, я невероятно долго отсутствовал. В умиление привели меня малюсенькие парты в нашей школе первой ступени имени МОПРа. Старые каштаны во дворе не стали ни выше ни толще. Сколько поединков когда-то выдержал я здесь, глупый малыш! Конечно, побывал и на комсомольской поляне, где всегда в майские праздники было народное гулянье, джигитовка, рубка лозы… И у места дуэли Лермонтова: здесь наш пионерский отряд ночевал у костров. И сад возле нашего дома, никому не принадлежавший, но огороженный, казалось тогда, высоким забором, стал небольшим, а забор и три грушевых дерева возле него стали ниже, будто в землю вросли. Вот, оказывается, как бывает, если ты уехал одиннадцатилетним, а вернулся, когда тебе шестнадцать-семнадцатый. Вечность прошла!
И город стал другим. Посуровел, притих. Не видно праздных курортников в тюбетейках, фланирующих по аллеям с кизиловыми тросточками. Не чадит базар шашлыками. Длинные очереди с раннего утра и даже ночью за хлебом, за керосином… За всем.
Помню киножурнал перед началом фильмов. Германия. Бесконечные ночные шествия с факелами, орущих фашистов. Отверсты рты, выброшены вперед руки. Тишина и мрак кинозала взрывается воплями немолодого уголовника с челкой и черными короткими, щеткой, усиками. Он только что пришел к власти и теперь качает права в мировом масштабе. «На дело» он пойдет через пять лет.
Мы с мамой получали пенсию за отца и потихоньку «распродавались». За плошку муки я отдал кабардинцу серебряные карманные часы отца. Старинные, они заводились крохотным ключиком на цепочке, а на крышке было выгравировано сомнительного свойства пожелание: «Больше пей водки, от нее все качества».
Как раз в это время и появился у нас безунывный грузин Барамидзе.
Наступил вечер, а он все еще никак не мог найти пристанище на ночь. О гостинице нечего было думать даже ему, человеку удачливому невероятно, опытному, обладателю командировочного удостоверения с жирной лиловой печатью. А на частные квартиры на две-три ночи в те времена никто не пускал.
Грузин стоял с нашей соседкой у ворот и потрясал перед ней своим удостоверением. Он пламенно и нежно убеждал ее, прижимая руку к сердцу, в том, какой он честный человек, какое замечательное у него удостоверение, какая благородная работа: он завторг треста «Минводборжом».
– Панимаишь, не вино, не водка, а полезный минеральный вада баржоми! Его, панимаешь, в аптеке, пажалста, продают! – объяснял грузин, как исповедывался.
Мама в тот вечер отправилась на всю ночь к сестре играть в лото и проходила мимо. Грузин с надеждой взглянул на нее, а соседка с жаром еще большим, чем он, повторила все маме. Сильно подозреваю: на маму крепче всего подействовала простая с виду истина, что боржоми не вино. А обещанные десять рублей лишь подкрепили довод.
Мама, чтобы не возвращаться, а то «пути не будет», издали показала на нашу дверь и предупредила, что пустит только до завтра, но грузин, узнав, что она идет играть в лото, принялся просить, чтобы она взяла его с собой, он тоже хочет играть.
Мама, смеясь, пыталась втолковать ему, что собираются там, в общем, люди пожилые, только старухи и старики, играют на копейки и что ему будет скучно, но грузин Барамидзе уже сверкал в азарте черными своими очами с красными прожилками на выпуклых белках.
Под утро он заявился ко мне с приветом от мамы. Ничего не поделаешь, пришлось постелить ему между моим сундуком и комодом.
На другой день мама рассказывала, как молодой грузин очаровал всех, увлек своей веселостью, как, чуть не под утро, убрали стол и стулья, подмели семечковую шелуху в доме тетки, и Георг – так звали грузина – танцевал лезгинку и наурскую под прихлопывания и музыку на губах. Он то вертелся в пляске, как бес, то плыл черным лебедем, то мелко-мелко семенил на носках, нахлобучив папаху на лоб. Я отлично представил себе все это, так как не раз уже видел кавказские танцы и очень любил их.
На шум и дикую музыку сбежались было соседи, да и они тоже стали прихлопывать и галдеть, нисколько на тетку мою не обиделись. Встряхнулись люди немного, и было им это, наверное, нужно в те нелегкие дни. А Георг все изображал вконец отчаявшегося человека, игрока, проигравшегося в пух и прах (копеек сорок!), делал «страшные глазища» и грозил заявить в милицию, что, мол, «открыли тут, панимаишь, шалман и гирабят командированных». Потом чуть не до утра под общий хохот рассказывал кавказские анекдоты.
Барамидзе пробыл у нас дня три-четыре, конечно, все узнал о нас и взялся помочь, сотворить невозможное, устроить так, чтобы мы с мамой, кроме пенсии, получали хотя бы какую-нибудь зарплату: ведь работающему к хлеба полагалось по карточкам больше. Георг рассудил, как Соломон: я не могу числиться на работе с материальной ответственностью как несовершеннолетний, а мать – как получающая до моего совершеннолетия пенсию за папу. Георг похлопотал, чтобы я сам получал предназначенную мне пенсию, а маму оформил на работу завскладом боржоми. Но работу выполнял я, а это, впрочем, уже никого не касалось, тем более, что высшее начальство и бухгалтерия находились далеко в Тбилиси.
Жить стало чуточку легче, и мысль о том, что я получаю зарплату, согревала меня. А времени работа занимала немного и состояла лишь в том, что один-два раза в месяц я получал один-два вагона ящиков с боржоми и распределял их по аптекам Кавказских Минеральных вод.
Был я в моем складе и за грузчика, и за счетовода, и за кассира, и за заведующего. Поэтому, наверное, и дело было поставлено у меня преотлично. Ежемесячно я должен был представить Георгу Барамидзе горлышки с туго вбитыми в них пробками – это был «законный» бой. Пробки тогда в боржомные бутылки вколачивались насмерть, как в бутылки с шампанским.
Дома, составляя отчеты, я, чтоб насмешить маму, в подражание Георгу хватался в ужасе за голову, будто в совершенном отчаянии от сложности дела, с нарастающей скоростью бормотал: «Пробки, горлышки, бутылки, пробки, горлышки, бутылки!» И, словно бы сбивался со счета, орал: «Пробки, горлышки, бутылки!»
Однажды в очередной свой приезд Барамидзе после делового дня пришел под вечер сам не свой. Выпуклые глаза его, казалось, лезли из орбит, белки словно кровью налились. Он снял папаху, шагнул, сел на кровать и долго молчал. Потом стал рассказывать как-то необычно, не по-своему – бесстрастно.
А было так: Барамидзе повстречал знакомого чеченца. Тот был печален, а когда увидел, что Георг улыбается, сердито спросил:
– Чего ты сияешь, как медный таз, начищенный злой женой? Какой сегодня праздник?
– А почему ты свой большой нос повесил, как чувяк на гвоздь? Ты не знаешь, какой праздник? Я тебе сейчас скажу! У тебя зуб болит?
– Нет, – отвечает чеченец.
– Голова, живот?
– Нет, не болит, – качнул головой тот.
– Рука? Нога? Другой какой вещь болит? Нет? Может, душа болит? Нет?! Может, жену ингуш украл?
В ответ только зубы в ухмылке сверкнули.
– Друг умер? Папа? Мама?
– Нет, нет! – отшатнулся в испуге чеченец. – Ты что, Георг!
– Дети здоровы? – наседал тот.
Чеченец сжал губы в нитку и сдвинул брови.
– И это тебе не праздник?! А?! Это тебе не праздник?! Тебе когда праздник? Первое мая тебе праздник, а что все живы-здоровы – тебе так, скучный день!
Барамидзе давно поднаторел в пропаганде своей философии удачливого и веселого человека: если нет явной и большой беды, то живи как на празднике; жизнь – большой радостный праздник. И был он, думается мне, отчасти прав.
– А он на меня пасматрел, – продолжал рассказывать Барамидзе. – Глаза – вот! Папаха, глаза и усы. Лица, панимаишь, совсем нет, такой худой… Пасматрел и гаварит: «Я, Георг, кушать хочу». И заплакал. Панимаите, мужчина плачет! Горец! Чечен!!!
Барамидзе вдруг скрипнул зубами и повалился лицом в подушку. Ходуном заходили острые лопатки под сатиновой черной рубашкой.








