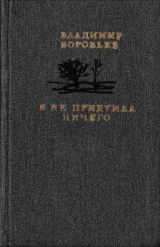
Текст книги "Я не придумал ничего (Рассказы для детей и взрослых)"
Автор книги: Владимир Воробьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Владимир Воробьев
Я НЕ ПРИДУМАЛ НИЧЕГО
Рассказы для детей и взрослых

От автора
Огромна людская память! Она вмещает в себя все: знания, образы людей и животных, звуки, цифры, краски…
А есть еще у человека память сердца. Люди, обладающие ею, не забывают, что они чувствовали когда-то, может быть, очень давно – обиду, восторг, благодарность, любовь, радость, горе, стыд… И многое другое, даже малейшие оттенки подчас сложных, смутных, смешанных чувств.
Тот, у кого сердце помнит, всегда способен понять других и, если надо, вовремя придет на помощь.
ПАПА МЕНЯ ПОБИЛ
 ражданская воина еще не закончилась, трудно было жить в разрушенной стране. И многие из горожан устремлялись на время в деревни, надеясь, что, обрабатывая землю, можно хотя бы не умереть с голоду. Однако и в деревнях жить было нелегко, а крестьянский тяжкий труд иным оказывался совсем не под силу.
ражданская воина еще не закончилась, трудно было жить в разрушенной стране. И многие из горожан устремлялись на время в деревни, надеясь, что, обрабатывая землю, можно хотя бы не умереть с голоду. Однако и в деревнях жить было нелегко, а крестьянский тяжкий труд иным оказывался совсем не под силу.
Мы приехали жить в родную деревню отца. Я был маленьким и в свои три-четыре года, конечно же, ничего не понимал из того, что творилось вокруг. У меня были свои заботы. Главной из них было поймать лягушку.
Сразу за околицей было вековечное зловонное болотце, которое так и называлось Вонючим. Возле него невесело росли несколько чахлых кустиков, зато трава здесь была на диво сочная и пронзительно зеленая. На бережку всегда собиралась деревенская детвора. Удобное место, ровное, играй во что хочешь, и покличут – услышишь.
Чаще играли в лапту, но меня, такого маленького, не принимали, и я, предоставленный самому себе, залезал в болото и часами бродил в нем, пытаясь схватить лягушку, а их тут было превеликое множество.
Иногда я увязал в жирном пахучем иле, пытаясь выбраться, оказывался по шею в густой пахучей водице. Случалось и глотнуть ее.
Лягушку схватить мне не удалось ни разу, а вот головастиков, плавающих черными тучками повсюду, изредка удавалось поймать. За таким занятием однажды и увидел меня папа. Я тоже его заметил. Он отламывал от куста прутик, и я сразу догадался зачем. Хотя, надо сказать, меня еще ни разу таким образом не наказывали. На берег я вылез весь в болотной ряске, какие-то листочки свисали с ушей. Этакий зелененький водяной, какое-то болотное существо, одним словом.
Я проворно подбежал к своей одежде, но успел надеть только лифчик. Кстати, знает ли кто-нибудь из теперешних мальчиков, что такое лифчик? В мое время это была необходимейшая часть одежды городских ребятишек. Этакий жилетик, к нему прикреплялись резинки для чулок, и застегивался он на спине. Канительная одежонка, в общем.
Папа вжикнул прутиком, и я со всех ног припустил от него бегом, в одном лифчике с болтающимися по бокам резинками.
Страх – чувство, знакомое каждому. Он побуждает человека настораживаться, осознавать опасность. А вот чрезмерный страх – тот парализует волю. Сильно испугавшийся человек не способен защищаться. Но о какой защите тут могла быть речь? Я с голой попкой бежал, пыля по сельской улице, а шагающий сзади отец повжикивал прутиком и иногда достигал цели.
Однако наказание ничему меня не научило. Я продолжал охотиться на просторах Вонючего болота. Правда, теперь я то и дело поглядывал на дорогу возле мостика, не появится ли папа с прутиком.
И еще – я теперь отмывал ноги от ила и на всегдашний недоуменный вопрос мамы, почему от меня болотом попахивает, я, как заправский опытный лгун, отвечал честным голосишком, что, мол, вспотел… И всегда при этом испытывал непонятное мне тогда тягостное чувство.
Повторялось такое изо дня в день, и, усиленное страхом наказания, оно отчетливо запомнилось, это тягостное чувство вины солгавшего человека. Я всегда потом безошибочно догадывался, когда лгали мне. Всегда при этом знал, что испытывает сейчас этот несчастный человек, и, стыдясь за него, даже… сочувствовал ему.
ОБИДА
 ам, в деревне, я первый раз в жизни, не на картинке, увидел корову. Стоит жует, скучная… И овец увидел. Кудрявые, все в репьях, дурные какие-то, шарахаются туда-сюда по двору.
ам, в деревне, я первый раз в жизни, не на картинке, увидел корову. Стоит жует, скучная… И овец увидел. Кудрявые, все в репьях, дурные какие-то, шарахаются туда-сюда по двору.
И впервые я тогда увидел поросят. Большая страшноватая свинья Хавронья лежит на солнышке и хрюкает. А поросята тыкают ей круглыми носиками в живот и сладко почмокивают от удовольствия.
Но больше всех на свете мне понравился конь Араб. Он мне так понравился, что ни рассказать, ни забыть нельзя. Араб сам подошел, понюхал мою голову, а потом вдруг взял у меня из руки хлеб с маслом и съел.
Отец ездил на Арабе в поле и еще по каким-то своим делам. И вот однажды я стал просить его, чтобы он посадил меня в седло. Не с собой, а одного. Пусть придерживает снизу руками, но чтобы я один, на коне, верхом!
И только было папа хотел забросить меня в седло, подбежала мама. Ну, знаете, как у них: «Ах, ни в коем случае! Ах, упадет!»
Я, понятное дело, плакать.
Тогда мать подхватила меня на руки, понесла и посадила… на корову!
Это было ужасно. Это было так обидно, так стыдно и горько!
Я до того отчаянно рыдал, что от слез сделался весь мокрый, посинел и опух.
Очень долго меня не могли успокоить, а надо сказать, я вовсе не был плаксой.
Но чего же я так обиделся тогда?.. Хотя, если правду говорить, мне до сих пор обидно. И, странное дело, всегда, всю жизнь потом, стоило мне попасть впросак или потерпеть неудачу, я вспоминал этот случай и чувствовал себя всадником на корове.
«ПАРФЁН, ДАЙ ДОЖДЯ!»
 еревенские ребятишки легко и сразу приняли меня в свою стайку. Шумливые, как воробьи, целыми днями пропадали мы то на берегу Волги, то возле бревен на пыльной и знойной, казалось, бескрайней сельской площади.
еревенские ребятишки легко и сразу приняли меня в свою стайку. Шумливые, как воробьи, целыми днями пропадали мы то на берегу Волги, то возле бревен на пыльной и знойной, казалось, бескрайней сельской площади.
И вот однажды к вечеру на площади собралась толпа. Мы, детвора, вертелись тут же. Мужики были хмуры. Огромными ручищами скручивали они «козьи ножки», зло высекали огонь кресалами, сплевывали под ноги. Бабы, пригорюнясь, стояли поодаль, тихо, как при покойнике, судачили.
Где-то далеко за Волгой погромыхивал гром, но спасительного дождя все не было.
Вот на бревна взобрался непонятный человек.
– Это Парфен! – округлив рот и глаза, шепнула мне девочка.
Парфен был в расстегнутой шинели, в солдатских обмотках на журавлиных ногах. Длинный, с огромными черными глазами. В черной щетине ямами запали щеки. Скалились невиданно крупные желтые зубы.
Парфен нелепо взмахнул руками, потом сдернул с головы серую солдатскую папаху и с каким-то отчаянием махнул ею в толпу.
– Мужики! Голодуха, знамо дело!.. Ну, вы не думайте што! Не думайте, што это бог, дескать. Бога нет! Нету бога! Я бог! И ты бог! И ты! – Парфен тыкал шапкой в мужиков.
Толпа ахнула, шевельнулась, подалась назад. Кто-то что-то сказал, послышались смешки, и стало не так страшно.
Только от любопытства, от ожидания чего-то невероятного взмок у меня нос.
– Вот скоро пилюли будут, – подергал Парфен щекой. – Одну пилюльку проглотил – и сытый! Пилюли! Потому как революция теперя! Революция, мужики! Будем гнуть дуги, лопаты и прочую нацию!

Он еще долго, убежденно говорил, то прижимая папаху к тощей груди, то раскидывая руки, словно собираясь взлететь. И, по его словам, выходило, что все вокруг вот-вот, сию минуту, переменится. По сторонам сельской площади, всюду, куда тыкал папахой Пар-фен, будут навалены горы хлеба, сахару, пестрого ситца, новеньких гвоздей, коробков спичек. Встанут рядами белые бочки пахучего дегтя, сами собой враскорячку зашагают дуги в лазоревых цветочках, а поодаль сгрудятся лопаты.
И я как бы уже видел: на белом облаке сидит нестрашный, добрый Парфен в своей старой шинели, обмотках, в рыжих солдатских ботинках и сверху благословляет нас всех папахой. И от этого идет теплый благостный дождик… А мужики и бабы покидывают себе в рот, словно семечки, пилюльки и улыбаются, сытые.
Незаметно для себя я подошел к Парфену совсем близко. Полы его шинели пахли неведомо, пронзительно.
Минет два десятка лет, начнется Великая Отечественная – и я узнаю его, этот запах военного лихолетья, запах вагонов и госпиталей. Так же пронзительно будет пахнуть моя шинель…
Посмеиваясь и поругиваясь, а где и яростно споря, толпа расходилась.
На опустевшей площади ветер завивал смерч. Пыль к соломинки крутились в нем, и он, как живой, ушел в проулок.
А вдали все так же громыхало, как будто кто-то бессильный ронял и ронял пустые ведра. Перед вечером, когда сумерки опустились на село, мы, ребятишки, наверное кем-то наученные, раскинув руки, кружились под окнами Парфеновой избы и тянули:
– Парфен, Парфен, дай дождя! Парфен, Парфен, дай дождя!..
Пройдет время – и осмыслит крестьянин Парфен все, что слышал на митингах, все, что поначалу так нелепо смешалось в его голове. И уже не пустой мечтой о сытных пилюльках позовет за собой деревню колхозный вожак Парфен.
НАШ ПЕТУХ
 ои отец и мать были никудышными крестьянами. Да и как могло быть иначе: всю жизнь прожили в городе. Отец, по его словам, не одну дюжину штанов просидел в конторе.
ои отец и мать были никудышными крестьянами. Да и как могло быть иначе: всю жизнь прожили в городе. Отец, по его словам, не одну дюжину штанов просидел в конторе.
А тут вдруг незнакомое дело, неведомые заботы, непосильный, непривычный труд. Рассказывали потом, как однажды в страду, намаявшись на жатве, отец с мамой понимающе переглянулись, да с поля, таясь соседей, бегом домой! Такие они были у меня крестьяне…
У мамы, в ее домашнем хозяйстве, тоже было не все ладно. Очень огорчал ее наш петух-красавец. Был он действительно на редкость красив. Перья золотистые, синие, желтые, черные. И удивительно горласт был Петька, громче всех других петухов в деревне по утрам орал.
По двору расхаживал как генерал – важный, гордый, глядит на всех строго. То одним глазом поглядит, то другим боком повернется.
Только вот странно – был наш Петька трусом, а это среди петухов редкость.
Мама досадовала, прямо-таки из себя выходила. Все соседские петухи нашего бьют, а он даже отбиваться не хочет. Растопорщит роскошные свои крылья, прочь бежит и еще возмущается:
– Кто?! Кто-о? Кха!
А известно кто – соседский петух тебя лупит за твою красоту. Вот тебе и кха!
Мама кому-то его отдала, а на базаре в ближнем большом селе купила другого. Там ее заверили:
– Не сомневайся! Редкой храбрости петух. Прямо георгиевский кавалер! Спасибо скажешь.
Мама принесла нового петуха и выпустила его во двор. Петух, правда, был прост с виду, но это ничего, лишь бы храбрый был.
Он поклевал, поклевал зернышки, курам что-то строго и непонятно сказал, вроде: «Ко-ко, которые, конешно…» И повел их гулять на улицу.
А соседки уж выглядывают из калиток и окон, пересмеиваются:
– Глядите, Анюта нового петуха купила!
– Ну, теперь пропали наши, Никольские!
Сейчас же прибежал чужой петух – и нашего бить. И крылом его, и клювом, и шпорами! Наш петух дерется, не убегает, даже сам нападает… но крылья не топорщит, не бьет ими противника. Сил, что ли, маловато? Забивает его соседский петух, только перья летят. Мама аж плюнула с досады и в избу ушла, хлопнув дверью.
Теперь все петухи били нашего. Нарочно прибегали, как только он со двора с курами выйдет. Понравилось им. Жалко было петуха, но все равно забьют его до смерти, и решила мама определить его, бедного, в суп.
Когда она петуха ощипывала, то вдруг вскрикнула и заплакала.
– Горе ты мое, горе! Несправедливость-то какая! – приговаривала она.
Я подбежал.
Оказалось, что крылья у нашего петуха еще с базара были связаны…
НА ОДНОМ КОНЬКЕ
 вадцатый год. Голодная заснеженная Самара. Я маленький, очень маленький и очень счастливый. Сегодня мама купила мне коньки, вернее, один конек. Он ржавый, но какое это все-таки чудо – остроносый конек «Нурмис», самого что ни на есть маленького размера! Недаром мама отдала за него сколько-то там миллионов.
вадцатый год. Голодная заснеженная Самара. Я маленький, очень маленький и очень счастливый. Сегодня мама купила мне коньки, вернее, один конек. Он ржавый, но какое это все-таки чудо – остроносый конек «Нурмис», самого что ни на есть маленького размера! Недаром мама отдала за него сколько-то там миллионов.
Бечевкой, крест-накрест, мне привязали конек к валенку. Потом закрутили бечевку круглой струганой палочкой.
В долгополой синей шубке, опоясанной красным кушачком, в теплом рыжем малахае – таким я выхрамываю из нашей калитки на тротуар.
И вот я поскакал, поскакал! Главное – успеть скакнуть ногой, пока другая едет на коньке. Едет, едет нога; скачет, скачет другая. Ух ты! Только малахай все сползает на лоб, и пот застилает глаза.
Доскакал до угла, свернул за угол. Еще до угла и за угол. Долго-долго так. Уже опустилась на город тьма. На незнакомых улицах зажглись редкие тусклые фонари…
И вдруг прямо передо мной целое скопище ярких лампочек вверху, где-то гремит музыка, за длинным щелястым забором мелькание теней, непонятное шарканье.
Я быстро, по-собачьи, разгребаю снег и протискиваюсь в щель. По огромному полю, запорошенному белым крошевом льда, едут, скользят на коньках, шаркают с легким звоном взрослые люди, очень много людей. Куда они все едут?
Печальная музыка играет им вслед, на прощанье.
Я машу им варежкой.
Но все они едут по кругу и возвращаются снова, и едут, скользят все по кругу, по кругу…

В гимназических и солдатских шинелях с развевающимися полами, в расстегнутых пальто, в мохнатых фуфайках, в брюках галифе с гетрами на ногах, в матросских бушлатах, черных клешах. Девицы – в широких длинных юбках, отороченных мехом, прячут руки в пушистые муфты.
Поблескивают, посверкивают коньки. Они у всех привинчены к ботинкам.
Я выбрался на лед и поехал, поскакал. Скок, скок, скок. Почему-то нет никого на одном коньке. «На одном коньке даже лучше, – утешаю я себя. – Только вот обгоняют все…» Скок, скок, скок. И малахай все сползает на лоб.
Вот снова заиграла музыка. Громкая, веселая, она будто торопит нас, но никто не едет быстрее. Больше всего мне понятно в ней «Бумм! Бомм!» и «Ух! Ух! Ух!» и еще «Дзеннь!».
Вконец запыхавшийся, я встал возле дощаной веранды и смотрел на музыкантов. Изо рта у меня валит пар. Едкий пот застилает глаза.
Бомм! Бомм! Гремит поставленный набок большущий барабан. В него бьет, пытаясь согреться, озябший старичок в белых валенках.
Ух! Ух! Ух! Это ухает огромным сверкающим жерлом медная труба, несколько раз опоясавшая солдата в заиндевелой шинели и серой шапке. Солдат изо всех сил дует синими губами в светлый кончик трубы. Вот он заметил меня, смешно свел глаза к переносью, потом развел их в стороны, чуть не до самых ушей, потом свирепо завращал ими.
О! Я понимаю отлично: это он для меня… И хихикаю, и тру мокрой варежкой занемевший нос.
Тяжко ухает толстая труба, нетерпеливо дзенькают насквозь промерзшие медные тарелки. Потом что-то невыразимо печальное запели трубы поменьше.
Я снова скачу среди льдистого поскрипа, медных возгласов. Я давно устал, взмок и замерз. На мучнистом нескользком льду все меньше и меньше людей. И вдруг вижу: я остался один.
Покашливая, поскрипывая валенками, ушли музыканты, и погас на веранде свет. Потом исчезли, будто улетели в черное небо, одна за другой гирлянды лампочек. По краям пустыни улегся мрак, стало совсем темно, и мне захотелось спать. Я дохромал до изгороди, нашел свою ямку, пролез и снова оказался на улице.
Куда теперь? Где наш дом? Я повертел головой, поправил малахай и поскакал, поскакал наугад. До угла и за угол. Опять до угла и за угол.
Глубокой ночью меня повстречал красноармейский патруль. А как передали на руки обезумевшей маме, не помню. Я спал.
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
 ишь только обо мне забудут, я выбираюсь за ворота. А если меня еще не хватились, бегу в гору, в Струковский сад, что над Волгой.
ишь только обо мне забудут, я выбираюсь за ворота. А если меня еще не хватились, бегу в гору, в Струковский сад, что над Волгой.
Кто и когда показал мне сюда дорогу, я не знаю. Наверное, приводили гулять. Но теперь я прибежал по делу. Дома мне сказали, что сегодня приедет на пароходе папа, а отсюда видно все пароходы.
Мне не перелезть через ограду. Зато я прополз под ней и сижу теперь под самой кручей, в прогретой солнцем, сухой и жесткой траве.
Там, внизу, Волга. Она синяя-синяя, и по ней плывет маленький белый пароходик. Другой такой же прячется за пристанью. Видны только нос и красно-белая труба.
Вон на том, который подплывает, наверное, и едет папа! И вдруг я поражаюсь открытию! Маленькие разноцветные лодочки длинным рядком стоят, уткнувшись в желтую кромку берега. Я знаю, если сбежать туда вниз, к воде, они большие настоящие лодки. А если вот отсюда, с кручи, смотреть – они игрушечные, даже меньше, как скорлупки ореховые.
Спохватываюсь и дивлюсь теперь тому, что и пароходы издали совсем маленькие. Вот, можно закрыть моей грязной ладошкой – и не видно будет.
Я то заслоняю от себя пароход ладошкой, то поскорей отнимаю ее и удивляюсь, удивляюсь…
Тот, что стоял за черно-белой пристанью, боком, боком неохотно отходит прочь. Он гудит протяжно и жалобно, будто его прогоняют. А другой пароходик уже совсем близко и вдруг отчетливо выговорил:
– Е-едуу-у-у-у!
Я радостно взвизгиваю и срываюсь с места. Это ведь папа едет! Поспешно проползаю под изгородью на забросанную окурками и семечковой шелухой аллею и во весь дух бегу домой.
Но возле наших красных обшарпанных ворот пришлось остановиться. Посредине тротуара стоит высоченный, до самого неба, матрос в необъятных клешах. Перед ним – испуганный мальчик в гимназической фуражке.
Матрос снял с мальчика фуражку, оторвал трилистник, бывшую гимназическую эмблему, и закинул прочь.
– С кокардами еще гуляют, – непонятно сказал матрос и нахлобучил фуражку на мальчика.
Тот опрометью бросился бежать.
Теперь матрос смотрит на меня. «Что он оторвет? Ухо?» – ужасаюсь я. И моргаю сразу взмокшими глазами.
– Ты чей? – Матрос присел передо мной на корточки.
Я заплакал.
– Э-э, – протянул он разочарованно, – не моряк.
И ушел, весь в колыхании черных клешей. Сердито вились ленты на ветру.
В дом я влетел пулей. Даже забыл про папу. А он вот он! Идет ко мне немножко чужеватый, раскинув руки.
– Папа!
Я, замирая, взлетаю к самому потолку. Мгновенно ощущаю: там сухо, пыльно и страшно. Но я уже лечу вниз, в папины большие сильные руки.
Папа пощекотал меня табачными усами и поставил на ноги.
– А посмотри-ка вон туда, – показал он рукой. На полу стояли шеренги сверкающих оловянных солдатиков. Я задохнулся, подбежал, запрыгал на месте и распластался возле них на гладком прохладном полу.
Солдатики были пешие и конные. Пехота с ружьями на плечо, кавалеристы с саблями наголо. Два барабанщика и один солдат с блистающим оловянным флагом.
Шеренги сверкали радостно и победно. И слышалось мне ржание, дружный взбряц ружей, протяжные звуки команд и дробный бой барабанов.
Войска шли к окнам, и оттуда на них светлыми снопами валилось солнце.
Много лет спустя, когда я стал совсем-совсем взрослым, мой последний оловянный солдатик повстречался мне на дне старого сундука. Иссиня-тусклый, будто озябший, с погнутым ружьем на плече, он, мой товарищ, еще бодрился и шагал, шагал, шагал…
И вдруг словно повеяло на меня тугим речным ветром, увидел я синюю Волгу, белые пароходы на ней, и будто послышалось мне, как зашуршала под ветром трава на высоком откосе, заплескались черные ленты за бескозыркой матроса. И даже защемило у меня где-то в середке, будто опять меня маленького подкинул папа к самому потолку.
МЫ ЕДЕМ НА КАВКАЗ
 осле освобождения Кавказа от белых туда были направлены из Самары люди, имеющие опыт работы в советских учреждениях. Целый эшелон с семьями и тогдашним немудреным имуществом.
осле освобождения Кавказа от белых туда были направлены из Самары люди, имеющие опыт работы в советских учреждениях. Целый эшелон с семьями и тогдашним немудреным имуществом.
Я еду с папой и мамой в одном из красных товарных вагонов, которые тогда назывались телячьими, с обязательной надписью «Сорок человек восемь лошадей». Он был старым, очень уставшим, этот вагон, скрипел и стонал всякий раз, когда поезд трогался, и постукивал, будто был на деревянной ноге.
С нами людей немного, все взрослые и неинтересны мне. Я как-то почти не различаю их. А между тем тут шла жизнь и кипели страсти, даже выпускалась газета «Кавказец». Это была затея отца.
Вот передо мной листок, переживший всех. Машинописные фиолетовые строки свежи, как будто только вчера отпечатаны на старом, ветхом листке.
Раздел объявлений: «В вагоне 855104, слева от входа, продается большая партия терпения. Спешите купить, цены вне конкуренции. В том же вагоне, справа от входа, оптом и в розницу продаются раскаяние и упреки. Там же можно купить партию порошка, называемого „Порча настроения“. Подается к обеду».
Голодные пайки, а тут нате вам – «подается к обеду», «продается оптом», «цены вне конкуренции»! Как велика, однако, инерция речи…
А вот стихотворение «Подражание Маяковскому»:
Дрянная коробка с глазами,
В коробке двуногие звери возятся.
Ночному горшку, миске, ложке
Жгут жертвенник – примус.
Подписано Минаковым. Я тогда еще заприметил его в нашем вагоне, наверное, одного из всех попутчиков. Большого, в черной кожаной тужурке, сапогах и черных кожаных галифе, его все слушались. А позже нас, детей, часто катали в его большом открытом автомобиле с просторными кожаными сиденьями.
Изредка он бывал у нас дома, с наслажденьем ел свои любимые кислые щи и поглядывал на меня без любопытства. О чем-то отец всегда спорил с ним. Папа горячился, бегал по комнате, курил, ломая спички, Минаков угрюмо молчал, жевал мундштук погасшей папиросы.
В нашем телячьем я на самом верху трехэтажных нар. Из небольшого квадратного окна с погромыхивающим железным ставнем мне все видно.
Медленно идет наш поезд. Под насыпью валяются на боку и вверх колесами закопченные остовы сгоревших вагонов. Гигантскими серыми зверюгами привалились к откосам мертвые паровозы. Их длинные серые туловища – как в засохшей кровище, в потеках красной ржавчины.
Длинной чередой стоят мертвые паровозы и на заросших белой кашкой запасных путях. Помню широкую трубу такого мертвеца, четко очерченную на синем полотнище неба. На миг мне тогда показалось: труба немо ревет…
Возле вагонов крикливыми стаями сновали невероятно оборванные, очень голодные и опасно смелые беспризорники. Они заполняли все тесное пространство между составами.
Но вот раздавался заливистый свист вожака, и все исчезали. И тогда обязательно оставались тут трое-четверо тихих, медлительных, с истаявшими лицами и огромными глазами. Дети привставали на цыпочки, робко заглядывали в вагоны, просили хлеба и, если им не давали, покорно отходили прочь.
Кто они все? Дети зарубленных, застреленных в германскую, в гражданскую… Дети тех, чьи тела остывали в тифозных бараках, в забитых живыми и мертвыми вокзалах, в вагонах примерзших к рельсам беспаровозных поездов. Где только и как только не умирали люди в те лихолетья. И оставались дети…
Но что я мог тогда понимать, сытый маленький мальчик, с папой и мамой, только руки к ним протяни. Мне было жаль тех ребят внизу потому, что мы вот уезжаем, а они остаются.
Иногда наш поезд сутками стоял на глухих безымянных разъездах, где не было ничего, кроме неба и пустынного знойного поля. Среди давно угасших костров ни для чего бродили люди из нашего поезда. Набегавший ветер, тоже как от нечего делать, невысоко вздымал пепел.
И всюду, всюду – каждая пядь земли, что видна мне была из вагона, поросла белой кашкой. О, эта белая кашка! Трава пустырей, придорожных откосов, остывших пожарищ. В те времена проросла она даже сквозь шлак и мазут умолкших железных дорог. Значит, подолгу разглядывал я тебя, белая кашка, что из всех травяных имен только твое и запомнил… И все реже и реже встречаю теперь. Отступило, бежало зеленое войско в белых плоских фуражках под напором немого асфальта и шепелявого гравия.
Но вот наконец мы приехали. Наш поезд отгрохотал на спуске и встал, скрипя тормозами.
– Пятигорск! Кавказ! Приехали! – послышались возгласы.
Меня, разучившегося ходить, сняли с нар, вытащили наружу и поставили на ноги. Из-под вагона тянуло мазутом и душной горячей землей.
– А где Кавказ? – первым делом спросил я, вертя головой во все стороны, ожидая увидеть невесть что.
– Да вон! – улыбаясь в прокуренные усы, сказал отец и показал рукой на большую кудрявую гору с зеленой лысинкой на макушке. По склону горы взбирались игрушечные белые домики.
Я не очень-то верю папе и на всякий случай снова гляжу по сторонам. Однако ничего, ровным счетом ничего, больше нет. Только белый облупленный вокзал с ржавыми столбиками и рваной крышей. Да пустая привокзальная площадь. На ней солома, повсюду навоз и синеватые тонкие струйки горького дыма недавно осиротевших костров.








