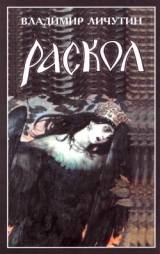
Текст книги "Раскол. Книга III. Вознесение"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Ты, батюшко, не страшись. Ты в рай прямо. Куда мне до тебя… А где и спотыкнулся ты, так не с осердки и не по распутству… Блазнило, и ты чурался, бежал прочь. И спотыкнулся. Это я грешница, прелюбодеица. И в смертный-то час охапила тебя, завистница, висну на шее…
– Очнися, матушка. Не клепли на себя понапрасну. Бог не оставит без призору твоей плодильницы, опечатает в свое время. Проснешься поутру, а уж здорова, как пасхальное яичико…
– Алеша, ты по мне шибко не убивайся. Хоть и была тебе пряником медовым… Долго не вдовей, не горюнься. Не насылай на царство печали и скорби. Веселися не натужно, коли нужда придет, и не постися через край. И Христос того завещал: де, чтоб не смел мирской человек напрасно плоть мучить… Гли, милый, на кого стал похож? – шептала государыня, водя тонким влажным перстом по мужней узловатой руке, по набухшим до черноты росстаням жил. – Солоного абы прокислого много не ешь, с того на воду позывает, – подсказывала государыня, как истинная домовица-большуха, отъезжающая накоротко по монастырям с богомольем. И ни тени печали в просветленных, уже не здешних глазах. – Да бери, Алексей Михайлович, в жены девку здоровую, непорченую, несглазливую, не из розлива московских шептунов, что видом агнец, а нутром волк. Да Ивана-то Мусина не обижай, блудня, далеко от себя не отсылывай парничка; хоть и сколотыш, но твоих, царских кровей. Не бойся, что люди скажут, но бойся, как Господь на то взглянет…
От последних слов смутился царь, кровь кинулась в лицо, и чтобы скрыть стыд и внезапные жалостные слезы, уткнулся в сголовьице, пряно пахнущее женою. Марью Ильинишну от долгих наставлений как бы опрокинуло в короткий сон, она забылась на миг, даже потеряв дыхание; и царь боялся сшевельнуться, чтобы не потревожить болезную. Он дышал в щеку супруге, и блазнило ему, что их слезы, так угодные Господу, сливаются в единый родник печали. Ах ты, Боже наш, помилуй нас.
А Марьюшка вдруг ясным голосом, будто и не задремывала, сказала государю, слегка колыбнувшись головою:
– Алексей Михайлович, приотодвинься от меня. Ты живой, а я смертью пахну… Попрыскай на меня из ароматника розовой водицей абы укропной. Ско-ро с трав-кой смешаю-ся… Посеюсь цветочком лазоревым под твой сапожок. Да ты не соступи на меня, слышь?
Государыня разжала кулачок, в нем, как в скудельнице, покоился запотевший камень египетской яшмы. Держалась за него до последнего, как за якорь спасения, да ишь ты, не пособил родименькой, но увлек на самое дно. Прислушалась к себе: кровотеча прервалась, да и откуда было взяться кровце, коли из самых глубинных боевых жил, омывающих сердце, источилась она по капле. Глаза у царицы округлились, а обочья свинцово посинели. Дыханье стало пресекаться, и больших усилий стоило выдавить каждое прощальное словцо.
– Детей позвать? – снова тревожно спросил государь, уже зная верно, что светлый ангел прилетел за женою. Марья Ильинична слабо улыбнулась, не ответила на вопрос.
– Сбрызни на меня французской воткою, – попросила настойчиво, едва шевеля языком, облизнула губы: ей и на смертном одре хотелось выглядеть перед благоверным приглядчивой. Вдруг боль покинула тело, льняной белизны лицо разгладилось, стало прозрачным, как стень; тонкая жилка, почасту, замирая, билась на впалом виске. Крупная, тельная, дебелая, государыня как-то скоро теряла очертания, погружаясь в крахмальную наволоку, в копешку хлопковой бумаги, невидимой для царева взгляда. Марьюшке еще что-то хотелось сказать важное, и она, уставя взгляд на подволоку, где Сын человеческий терпел крестные муки, вдруг добавила:
– Алеша… Алексей Михайлович… Государь… Простил бы ты всех бессловесных. Кто окромя тебя простит? Не гони на заклание, не пять под себя силком, милый. Втихую-то и ольху согнешь… Иль не слышишь, как стенает люд? Родницу свою, Федосью Прокопьевну, пощади. Пусть и дура баба, но никто из земных не властен душе ее…
– Я бы радешенек, да… – торопливо воскликнул государь и всхлипнул обиженно, по-детски, не в силах унять новых слез.
– Вот и хорошо. Вот и ладно…
Марья Ильинична устало смежила веки. Египетская яшма выкатилась из горсти на одеяльницу. Царь вздрогнул, решив, что отошла благоверная; взялся за шнур звонка, чтобы звать постельницу, но удержался. Торопливо подобрал камень, подул на него, протирая ладонью красные, холодно мерцающие искры, и зачем-то спрятал за пазуху в зепь. Марьюшка покоилась недвижная, тихо остывая. Царь скользнул взглядом по малахитовому прикроватному столику, в растворенном зеркале-складне увидал чье-то набухшее, усталое лицо с мешками под глазами, каштановую бороду клочом, на голове бархатная шапочка вздыбилась еломкой, будто под волосами прободились рожки… Ах, что же за зверь такой подглядывает за плечом? Государь даже обернулся с тревогою на сердце.
… Чего-то тебе втемяшилось, царь-государь? Знай, это Свет Божий вылепливает из потаенных сумерек твой истинный лик, коего ты страшишься. Почуй же, сердешный, самого себя сокровенного и ознобись от ужаса; озеночки багровы от кровавой росы, а в зеницах сам дьявол угнездился, злорадно усмехаясь…
Облик в зеркале, опушенном синим сукном, вдруг расплылся, утонул в сиреневой глуби, и понял Алексей Михайлович, что плачет нынче уж в который раз. Сквозь слезы высмотрел на столике хрустальные очки, когда-то подаренные им сыну Алексею, и, приставя к носу, сквозь шлифованные грани взглянул на жену; и увиделся ему алмазный сверкающий купол и внутри его крохотная невинная девочка с изумрудными глазами. Царь торопливо отнял очки, из костяного ароматника отлил на ладонь пряного травяного настоя и прыснул на жену. И Марья Ильинична вдруг сшевельнулась, открыла глаза; еще хотела что-то сказать, но язык не послушался ее…
Царь позвал комнатную боярыню и, поцеловав жену в губы, тайным переходом ушел к себе в Теремные покои. В опочивальне у него стоял сосуд каменный нефритовый, оправленный золотом. Египетскую яшму опустил в кубок, налил белого ренского вина, принесенного спальником, и выпил.
Глава вторая
Часы стояла Федосья Прокопьевна в домовой церкви, когда прибежал из царицыных хором с худой вестью нарочный посыльщик: де, государыня опочнула нынешнею ночью, и ей, дворской боярыне, четвертой по старшинству при Дворе, надобно обряжать покоенку в последний путь.
Морозову острогой под самое сердце ударило.
Спешить бы надо, без раздумки лететь, ведь самого близкого человека лишилась. Дворецкому Самойлову велела малый поезд закладывать без лишнего шума. Но черная весть и без колокольного звону людей на ноги ставит; по усадьбе голка покатилась волною, в людских лучины запалили, раздвинули ворота коньих дворов, все слуги прянули на ноги, чтобы срядиться немедля, не осердя хозяйку; теремные девки, не зная, чего пожелает боярыня, раскрыли сундуки и казенки, и почтенные шафы с верхним платьем, и чуланы с шубами и опашнями, чтобы боярыню охорошить. Вот и каптану вытянули за оглобли из каретного сарая, запрягли шестериком гнедых; фонари толклись на заулке, как июльские светляки, то вспархивая по-над снегами, то западая в сыпучие мартовские забои, еще не хваченные настом; скрип саней, крехтанье и уросливое ржание коней и мертвого подымут; все опочивальни, и повалуши, и клети с подклетями растревожены суетою.
И странно было Федосье Прокопьевне подглядывать в темно-синие, чуть хваченные инеем репьи слюдяной оконницы, забранной в узорчатую свинцовую ячею; словно бы в хрустальные очки смотрела на дно глубокого омута, где, дробясь на осколки, текла чужая неведомая жизнь. Боярыня замрело остолбилась, а сзади, смиряя дыхание, столпились сенные девки с богатым платьем в руках. Глядели жалостливо на пригорбленные усталые плечи госпожи, обтянутые синим сарафаном-костычем, на янтарное ожерелье, тугим обручем обнявшее шею, на парчовый вишневый сборник на голове, из-под которого на затылок выбивались уже седые волоконца. Когда-то тяжелую темно-русую волосню и двум спальницам трудно было увить в косы, а ныне старушьи ковыльные прядки так жалостно и неряшливо сникли из повойника наружу, как плакун-трава…
Оглянулась, махнула рукою, велела девкам ступать прочь. Лишь попросила на плечи шубу лисью с пухом и ожерельем бобровым, да на ноги чулочки горносталевые, чтобы не ознобить плюсны. Постельница с укоризною, втай покачала головою; не знала того панафидница, что хозяйка днями тайно пострижена тихвинским игуменом Досифеем и отдана под начал старице Мелании. Одно ведомо постельнице: в таком сряде в государев Терем ход заказан. Но что боярыне Морозовой до тайных пересудов шептунов, ежли кольчужка, вывязанная самолично из коньего волоса, обнимает плоть туже всяких железных юз, смиряя любодейные мяса. Вот и вошка-то, коли засвербит под повойником, то и тогда боярыня не повелит девкам чесать голову: хоть и немилосердая тварь, но тоже божья животинка, не под костяной гребень уродилася.
Тихо, без шелеста и скрипа отворилась потайная дверь из чулана, где жили старицы-белевки: прослышав тревогу, по сердечному зову, как верная мати к духовной дочери своей, вступила в опочивальню кроткая наставница Мелания. Не поднимая тусклого острого личика, изжелта-серого от долгих постов и молитв, посоветовала строго:
– Давай, собирайся, дочи… Доколь медлить пустошно? Божье то дело покойников уряживать.
Федосья опустилась на колени, уткнулась в подол застиранного ветхого кафтана, призналась жалобно:
– Не ходить бы? Боюся зверя рогатого, да дьявола носатого…
Имела в мыслях царя и патриарха.
– Э-э… голубеюшка! Кого страшишься, не ходя в пути? Страшен черт, коли во сне приснится. А на яву-то пристанет, так и открестимся.
– Под чужой устав идти, как под дьявола пластом лечь… Но и Марьюшки того пуще жаль…
– Поднимайся с колен-то. Не возвышайся ломовато, да и не упадай понапрасну. Все под Богом, дочи. Пришла беда в ворота – вари кутью, раздвигай столы панихидные. И не злобись на царя без нужды, дитятко. Он к тебе милостив.
… Да и как не милостив-то? Это Марьюшка Ильинична, Царствие ей Небесное, достучалась до государева сердца, и сменил Алексей Михайлович гнев на милость, и вернул обратно поместья, что, осердясь, отобрал под свою руку для новой роздачи… Но вернулись в дом Федосьи Морозовой в надел для сына Ивана Глебовича починок Бокалды и Сергач, село Лысково и Мурашкино с приселки, с деревнями и пустошами; да в Галицком уезде село Воскресенское со всей округою; да село Холмец с наделками в Ржевской вотчине; да в Темниковском уезде починки и пустоши, и бортные ухожья, и лешие озера, и сенные покосы на триста восемьдесят четьи…
А как зарились дворцовые челядинники на эти земли. Дворецкому Хитрому с семейством все мало и мало, ухапливает под себя не щепотью и горстью, но охапками и беремем, будто с собою хочет уволокчи все на тот свет; а и надобно-то станет землицы с сажень… Вон Марьюшка Ильинишна в золоте хаживала, с золота ела-пила, да прибрал Господь в свой час, и лежит сейчас, сердешная, растянясь на лавке, словно сухостоина лесовая…
С этими мыслями стояла боярыня середь полаты, пока укрывали лисьей шубою до пят, да на голову вздевали лисий треух; две сенные девки взяли Федосью Прокопьевну под локотки, чтобы весть во двор. И опять что-то показалось не по уму госпоже, от дверей повернула обратно, огрузла на лавке, раскинув на стороны рыхлые полы опашня. И сказала с грустью, оглаживая на коленях клин синего старушьего сарафана:
– Как ты хошь, старица, но не лежит у меня душа в этот вертеп ехать. Там каждый угол дворскими псами мечен, так и смердит. А глазами-то едят, да раздевают, кобелины. Будто уличную б… ку…
– А ты не бери, девонька, в ум. Душу-то эдак вот, в кулачок, сожми, а нос-от в мохнатушку спрячь, да и смело иди, будто никого нет. К чистому да совестному грязь не пристанет… Ты на дворню не угрюмься, не сутырься с нею. Тоже ведь люди подневольные. Не всякого Бог-от сразу привечает, а попускает во гресе; когда-то еще очнется тот человечина. А ты не возгоржайся, матушка, что ко Христу скоро припущена… Ну да что зря говорить: ступай давай не промедля. Мертвые живых не ждут.
… Ой, Мелания, ой, матушка сокровенная; каждое словечушко твое – золото да серебро; и откуль, из каких глубин сердечных берутся те потаенные истинные слова, кои восколеблют и самую унылую душу…
И подумала тут Федосья Прокопьевна: да и что я, всамделе, сама себя поедом ем? Марьюшка ждет, лежит окоченелая, уже вся во Христе, меня, поди, заждалася душа ее любовная, а я здесе-ка, во своем терему ширюсь, как воевода на кормлении…
И прижала боярыня наставницу к широкой груди, приклонила ее сухонькую головенку, словно к высокой приступке, и понянчила возле сердца; черный платочек кулем, повязанный вроспуск, пахнул росным ладаном и маслицем, и сухариками ржаными, и дымком курильницы. Вот она, исповедница, судьбою отмеченная: сама, как конопушка, воробей подзастрешный, а вся от головы до пят, будто единое Божье слово; рассудила разом, как от ковриги ломоть однорушный отсадила ножом, и сказала: де, на, Федосья Прокопьевна, отъедайся на моих словесных хлебах.
… Самой себя испугалась боярыня: ой, не выеден изнутри ветхий человек, так и клянчит себе послабки, чтобы оступилась, дала воли ко греху.
И уже большухой, московской именитой вдовою, свойкой государю, пошла Морозова за дверь; и сенные девки не успели подхватить ее под локотки. Прочь, прочь!.. Что я, пирог слоеный, чтобы рассыпаться на крохи от встряски? Еще ноги, слава Богу, держат, и жилы не набрякли от многопирования, но, словно можжевеловые коренья, прочно пронизали тело…
* * *
На Пожаре, высоко взметывая пламя, зловеще горели сторожевые костры. Возле стрельцов увивались бродячие собаки, робея, жались к ногам. У рыбных рядов впаялись в мартовский снег сани, выставив в небо оглобли; мужики ночевали тут же, закопавшись в возы, иные паслись у кружечного двора. Боярыня не сразу свернула во дворец, но велела проехать к Васильевскому спуску. В Кремле гудели скорбные колокола, по стенам зорко стерегла воинская спира, гремя бердышами и топорками, порой била в тулумбасы, беспокоя ночь. Боярыня вышла из каптаны на Болоте, невдали от палаческой колоды, приказала челяди ждать; настуженный воздух пахнул рыбьей кровью, максой, требушиной и свежими огурцами. Наверное, с вечера привезли корюшку с Белоозера. По аспидному небу шатались сполохи, вороны угрюмо крыкали над иноземными торговыми лавками.
Боярыня, шаркая валеными пимками, осторожно спустилась по покати берега к урезу льда и будто угодила в погребицу, такая мертвящая тишина объяла ее. Глухо было, темно, хоть глаза выколи, за Москвой-рекою с протягом выли волки, прибиваясь к церковным звонам. Щербатые кирпичные стены дышали стужею, казалось, за каждым уступом скрывались варнаки; всхолмленная небесная твердь нависла над головою, готовая придавить. И в груди Федосьи Морозовой тоже застыло все, как в черепушке, выставленной на мороз. Боярыне хотелось узнать глубину грядущего одиночества и сиротства, и тут она почуяла его: жизнь кончилась, незачем было продлевать ее, а Бог не призывал к себе. В ледяной погребице, куда нечаянно сунулась Федосья, вся мирская шелуха разом опала с плеч, как нищее платье; словно голую, выставили архангелы боярыню на посмотрение пред Христом, чтобы узрел Господь, как в стеклянной склышечке, насколько черна ее душа…
Боярыня вздрогнула; ночной холод ознобил ее всю, прокравшись под подол костыча… Опомнилась. Зачем оказалась здесь? Чего нашла сокровенного?.. Да вот сподобилась тайне, как причастилась и соборовалась.
Федосья оглянулась, подняла глаза вверх, будто со дна лесной лощины, обросшей дубравником. На горе, в белесом зыбком облаке отраженного кострового света и небесных залысин, табунком толпилась челядь, упорно вглядывалась в толщу тьмы, боясь потерять госпожу. Боярыня всхлипнула от жалости к себе и вдруг с пронзительной остротой ощутила утрату; ресницы сразу склеились, а в груди не то чтобы облегчило, но все готовно приготовилось к скорби.
Федосья Прокопьевна скорым шагом пересекла заулок у рыбных рядов, залезла в избушку каптаны, задернула тафтяную завесу на окне, велела ехать ко Двору. И все время, пока тихой ступью попадали по Болоту мимо стрелецкой вахты и свертывали на Никольский мост надо рвом и сторожа с фонарями, проверив поезд, со скрипом отворяли железные ворота в башне, пропуская в ночной Кремль каптану, окруженную многой челядью с батогами и сенными девками, стоящими у переднего щита и на наклестках саней; и пока ехали мимо Чудова и Борисовских дворов к Успенскому собору, наконец-то остановясь на Соборной площади в затулье близ Благовещенского храма; и после, когда скорым шагом спешила на внутренний Постельный двор за переграду мимо церкви великомученицы Екатерины, – так вот, во всю эту дорогу у Федосьи было каменно-застывшее лицо и никого не видящие глаза, по-рыбьи округлившиеся, похожие на мартовские льдинки, в глубине которых свернулась розоватая слеза.
В сенях царицынских хором толпилась служба; пахло талым воском, ладаном и тем неуловимым сладковатым духом, что посещает дом сразу с приходом покойника. Боярыня сбросила лисью шубу на руки мовнице, жестко протерла ладонями лицо, чтобы снять мертвящую личину, перекрестилась пред надвратным образом Матери Небесной; две отроковицы, облаченные во все черное, распахнули пред нею дверь в спальный чулан.
Федосье показалось поначалу слишком людно в опочивальне. Хлопали двери, не стережась, туда-сюда шаталась челядь; ходил крадущимся валким шагом крестовый поп Феофан и кадил, гремя цепями курильницы; крестовый дьякон читал Псалтырю; теремные нищенки, обмыв государыню в мыленке и завернув в смертное, принесли покоенку прямо на лавке и поставили посреди чулана; мовницы скатали постелю в трубу и вытащили в сени, кисейный полог связав в узел; царицына кровать без глубоких пуховых перин, сголовьиц и крахмальных одеяльниц осиротела, и спаленка сразу так опустела, словно хозяйка съехала в новые хоромы. А разве и не так?.. в Христовы чертоги отведет Марьюшку шатающаяся средь небесной тверди зыбкая лествица. Но праведного жития была Госпожа, и спосыланные ангелы помогут вскарабкаться душе чистой к подножью Вышнего престола.
Ее же хладеющая безмолвная оболочка, завернутая в саван, как гусеница в белоснежный кокон, недвижно покоилась на лавке. Напоследок вошли в чулан мамки, вынесли прикроватную колоду, обтянутую бархатом, и комната как бы совсем отъединилась от живого мира, приуготовилась к похоронам.
Федосью тут ждали. Она еще с порога поняла это; ждали и как бы не верили, что явится суемудрая в «вертеп». Насурмленные брови Анны Ртищевой безмолвно взметнулись и опали. С двух сторон лавки стояли четыре креслица немецкого дела, обитые золотной парчою. И как бы по странному списку на трех подушках, горестно пригорюнясь, сутулились три Анны: Ртищева, Хитрова и Морозова.
Сестра покоенки, Анна Ильинишна, комкала в ладонях батистовую фусточку: наплакалась, сердешная, до дурноты; да и как не уреветься, ведь не только родную сестреницу спровадила в вечную разлуку, но и потеряла надежную тропу в Терем. И Федосья Прокопьевна, глядя на свойку, искренне пожалела ее, простив сразу все грехи. Действительно: с глаз хитрая, в словах увертливая, голосом шумливая, повадками нахальная. А разгостится да спознается, – такая ли добрая и развеселая; и шутку иной раз такую подкинет, что и молодой разбитной женке не скроить… Анна Ртищева, хоть и близкая родница, но гордовата и ломовата, Никоновы отирки, любит, чтобы все по-ейному стало, чужой воли не терпит и всякую святую душу под свой норов приклоняет… Анна Хитрая с виду сама простота, а с исподу – змеюка подколодная, всю царицыну жизнь под себя уноровила, только что в кровати не ночевала. Два-оба с Богданом, как псы цепные, улеглися у престола…
Опустилась Федосья Прокопьевна в креслице и, не глядя на верховых боярынь, принагнулась к упокоенке, поцеловала скрещенные руки и губы, и лоб усопшей. А, чего там: смерть не красит человека. Ведь как крепилась Федосья, велела себе настрого держаться, чтобы ни слезинки из глаз; знала себя, лишь дай послабки, а там прихватит до родимчика, не остановить. И вдруг горло запрудило, ком приступом накатил из груди, Федосья Прокопьевна ойкнула, не сдержалась, заскулила по-собачьи, сбивая к затылку сборник, выцапывая седые пряди себе на глаза, словно собралась волосами обирать с лица слезы. И завыла в полный голос, запричитывала, плотно ударяя ладонями по коленям. Поди, до государева Терема донесся пронзительный воп боярыни: «Ой, да на кого ты нас и спо-ки-ну-ла-а-а… !»
Анна Ильинична вздрогнула, обняла за плечи свойку, прижала к груди, чтобы не рвалась печальница к усопшей. Анна Петровна Хитрова подумала с тайным торжеством: «Сутырщица-поперечница, злая раскольница. Притащилась в хоромы в сарафане. На кого взнялась?.. Повой, пореви. Это и ты спехала царицу в могилку допрежь времен. Марьюшка-то покоенка была поноровщица-потаковщица тебе, много сердца поизорвала, улещая государя… Эх вы, на горе стоите, да никого не видите. Людей-то ни во что не ставите, пока живы те. Пусть слеза свинцовой пулей застрянет в сердце. Авось поумнеешь, суемудрая…»
– Ну, будет тебе убиваться-то. Мы не реветь сюда созваны, – скрипуче осадила Хитрова, стараясь оттеплить голос. – Мертвых из могилы не принашивают, – добавила невпопад. Хорошо, никто не расслышал последних укорливых слов. Тут сенная девка внесла жбанчик сыченой воды, налила в кубок, и Анна Ильинишна напоила страдницу, будто уснувшую на ее высокой груди. Сомлевшей Федосье Прокопьевне стало так уютно, спокойно от горячего телесного духа, волнами истекающего от свойки. И не то чтобы вдруг стало стыдно за свой воп и кликушество, но неловко оттого, что она, Федосья, как бы отняла, присвоила главное горе царицыной сестры.
Надсада потиху отступила от сердца, в горле унялись клекоты и всхлипы. И вдруг из подклети, где жили теремные нищенки, по обогревным колодцам, как из подземной таинственной часовенки, просочилась в спальный чулан духовная песнь, словесно невнятная, но в звуках удивительно приимчивая к душе. Старицы пели с приголашиванием, высоко вздымая голос и взойкивая. Федосья Прокопьевна невольно прислушалась и тут совсем очнулась, глубоко вздохнула. Колыбнулось тонкое пламя свечи в руках покоенки, и царица умиротворенно улыбнулась, благость и нездешний покой разлились на крахмально-белом вытончившемся лице.
«Ой, что же я улилася? Подумают, притворщица, – укорила себя Морозова. Тайная постриженица почувствовала власяницу, жестко прильнувшую к увядшим сосцам и к впалой родове с провалившимся пупком. Как бы сама мать – сыра земля позвала: „Фео-до-ра-а“, – и украдчиво обняла боярыню-монашену. – Ведь слезами дорогу не торят. Христовы невесты плачут потиху и роняют слезы, как свеча ярый воск, чтобы каждой каплею пронимало душу насквозь».
Морозова приощипнулась по-бабьи, расправила складки синего костыча на коленях, приодернула вниз сарафан на валяные переда черных пимков, усеянных каплями ворсистого талого снега; и снова, как прежде в сенях, жестко растерла ладонями, размяла коченеющее лицо. Будто холод от усопшей проникал глубоко в Федосью и выстужал ее всю.
«Прежде с нею экого не бывало, – досадливо подумала двоюродница Анна Михайловна Ртищева; она невсклонно сидела напротив, будто проглотив аршин, с высоко поднятой головою, по-птичьи, из-под крутых коричневых век зорко приглядывая за Морозовой, как площадной расправы подьяк. – Что же она, привереда, срядилась в царев Верх, как последняя скотница во хлевище? Не зря бают, что монастырь на дому устроила… Келейниц прячет по погребицам да в подызбице».
А душа царицына тем часом витала по чулану, сыскивая такого места, чтобы, не выпархивая в окно, вместе с тем видеть все хоромы с чадами и домочадцами; и стены, такие прочные снаружи, куда, казалось, и мышь не протянется, стали вдруг прозрачными, как родниковая вода в хрустальной склянице; и каждую царевнину спаленку, охраняемую зоркими мамками, она посетила, проникая в родную кровинку через дрожащие во сне ресницы и невинное дыхание; царевич Алексей, ее любимец, стоял, растерянно угрюмясь, возле аспидного столика и сам с собою играл в шахмат, подолгу грея в ладонях тяжелые костяные игрушки; вдруг не удержал королеву, сронил в глубокий шемаханский ковер; нагнулся за фигурою – что-то мягко-нежно, словно опахало из павлиньих перьев, мазнуло по виску, и отрок кинулся лицом в подушки и заплакал горючими слезьми, жалея маменьку, не желая с нею расставаться; Алексей Михайлович, несмотря на поздний час, стараясь рассеять смуту в черевах и нудное нытье в боку, снова налил в нефритовый кубок белого ренского и выпил, унимая не столько боль, сколько сердечную тоску; ему бы сейчас в царицыных хоромах быть, где остывала благоверная госпожа, и уряживать вместе с верховыми боярынями в последнюю дорогу, но вот по заповеданным Дворцовым уставам нельзя мешать женским срядам.
Спальники сторожили по лавкам каждый знак государя и, не зная, чем помочь его горю, искренне желали, чтобы Господь наслал на царя опойный сон. Алексей Михайлович присел к столу, выудил из серебряного ставика лебяжью остро заточенную тростку и принялся писать царице прощальное письмо, с тем чтобы положить его тайком во гроб. Ставня, плохо ли закрытая на засовец, иль от чьей неведомой руки, но вдруг гулко отпахнулась, так что Алексей Михайлович болезненно вздрогнул, и в продух влетела белая голубка с рыжей коруною на голове, опустилась на переднюю застенку раскинутой ко сну постели и загулькала свирельным горлышком.
Дурной знак! – всполошились спальники, не зная, кого винить, кинулись к ночной незваной гостье, обступили кровать; голубица заметалась по опочивальне, вскружила по-над головами и вдоль стен, взмахом крыл потушивая витые свечи, но закогтилась в тафтяной завесе полога, заплелась в ней и, трепеща, замгнула в ужасе глаза. Царь велел осторожно выпутать птицу и подать в руки. У нее было горячее, знобкое, скользкое тельце, сердце готово взорваться в атласной грудке, и заполошный стук его упруго отдавался в ладонях, прося милости. Государь бережно подул в пестрый хохол, и голубка, уверясь, что жива пока, открыла змеиный, какой-то блестяще-жесткий, непроглядный чернильный зрак, обведенный розоватой каймою…
Нет-нет, то не Марьюшкина нежная душа посетила. Ей-то что за толк отлетать от домовины? поди, няньки уже поставили на подоконье тарель с просяным зерном и водицы корчик, чтобы не оголодала, сердешная, и Марьюшка, тоскуя, уместилась где-нибудь поверх канарейных избушек и досматривает, как спроваживают ее из мира земного родня и челядь…
От этих мыслей что-то оттеплило в груди, царь вздохнул освобожденно и выкинул залетку в ночной морозный кудрявый морок, густо завесивший окно. Сам же захлопнул ставню и набросил крюк. Стольники, чуя укоризну и скрывая растерянность, снова расселись по лавкам, принялись вполголоса судачить, обсуждая случай, припоминали пришедшие в ум досюльные приметы. Государь слушал их вполуха, уверившись, что прилетал вестник за ним; он отбросил сомнения и древние прилики и, минуя сени, где толпились бояре, отправился к Марьюшке.
… Царица лежала на лавке, как фарфоровая кукла, губы уже обвело синим; в подглазьях и на крутизне выступивших скул проступила рыхлая ржавчина.
– Чего расселися? Чего рассупонились? – вдруг всполошилась Анна Ильинична. – Расплылись, как бражное сусло. Христос-от не ждет распустих… Кто ко времени на запятки не вскочит, тому в прибавку сто лет терзаний.
Четыре свойки, приопомнясь, принялись уряживать покоенку. Убрали волосы, покрыли золотной скуфейкой; из суремницы, низанной жемчугом, с помощью спиц вычернили брови и ресницы и седатые паутинные волосы на висках; будто языческую куклу, толсто умазали царицу белилами и впалые щеки нарумянили турским баканом, и губы навели багрецом. Федосья Прокопьевна подавала боярыням коробочки и бочечки яшмовые, и кипарисовые шкатунцы, и погребцы сандалового дерева, клеельницы и скляницы, и ароматницы, стараясь не глядеть на усопшую, как бабьими руками превращается царица в труп повапленный, теряющий всякое сходство с родименькой Марьюшкой, подружней и заступленницей. Боярыни с таким усердием охорашивали мертвенькую, так вошли во вкус, прикусив язык от старания, с таким тщанием мешали белила и краски и прыскали гуляфными вотками из фарфурных скляниц, будто на брачное ложе собирали покоенку.
«Ой, матушка, – думала Федосья, – что же ты не посхимилась, сердешная, в крайний час? как бы ладно, уютно в ряске лежать, да в скуфеечке и в полотняных ступнях. Невинное Божье чадо! Бог-от чует безгрешных загодя, на сто лет вперед, и подгадывает к себе, как Христовых невест ко своему венцу. Вот ужо перекосит его с обиды, будто уксусу изопьет…»
… Вмешаться бы, да заново умыть Марьюшку родимым простым костромским мылом, согнать с чела мертвенную усталость и в хладные изболевшие уста влить живой заговорной водицы…
«Ой, миленькая, как мне без тебя жить-то-о?!» – беззвучно всплакала Федосья и, чтобы не взвывать снова в голос, кинулась в сени, где толпились мовницы, постельницы и рукодельные мастерицы, мамки и комнатные девки. И тут челядь, как по зову, рассыпалась по клетям, к нижнему рундуку, забилась в повалуши и чуланы; в переходе, как на грех, появился царь, Федосья Прокопьевна вздрогнула, проглотила слезный ком и растерялась не от страха, но не зная, куда девать себя, как повести; боярыня так давно не видела государя и, часто слыша про гнев его, вдруг зашлась душою, обмерла. Государя, отступя шага на три, провожал дворецкий Хитров, за ним сгрудились грудастые стольники, и в той ватаге увидела боярыня и своего сына, юного Ивана Глебовича…
Щетинистые брови царя удивленно вздернулись, когда разглядел боярыню в пестрядинном холопьем сарафане. Царь остановился, не доходя сажени; Морозова как бы перекрыла ход в спальный чулан…
Федосья Прокопьевна простила бы царя, если бы увидела его в несчастии, с почерневшим от горя лицом. Он же был в лазоревом зипуне и легких сафьянных, шитых золотом чувяках, лишь черная байбарековая скуфейка напоминала о туге. Мягкий перелив от платья беззаботно оттенял какое-то светлое, иссмугла лицо; в каштановом ожерелье бороды червленно горели, почти пылали губы, сложенные сердечком, голубые глаза были безмятежно сонны.
«Ах кот, ну и коти-на-а, – мстительно, неправедно подумала боярыня, скоро загораясь сердцем. – Мало ты шастал по повалушам, снимая сливки, не убоясь любодейного греха. Вот и радость отныне, не станет попрека и укора. И что тебе совесть, ежели стыд порастерял и самого Господа не чтишь, изгнав из своего Дома…»








