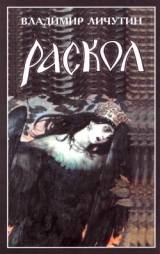
Текст книги "Раскол. Книга III. Вознесение"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Где же можно сыскать покоя на безумной земле? Куда деться от еретика, ступающего на пяты? Да только в сердце своем, если в нем заселился Бог.
Да и куда убежишь от себя? В какую бы скрытню ни затворись, в каком бы схороне лесном ни спасай дряхлеющую плоть свою, но душа-то постоянно бы терзалась думами о несчастной церкви, упадающей в сатанинскую бездну.
– Князинька, Петр Семенович послал. Иди, говорит, простись с сестрою. Думается, что присылка днесь будет, – помолчав, неуверенно сказала Евдокия и, уже скорбно жалея сестру, опустилась возле, приобняла утешливо за плечи, как старшую подружию. Худенькая, в чем душа живет, она так плотно прильнула к Федосье, словно захотела слиться с нею и принять от нее тепла и силы; иль надумала отдать свое мужество? Что-то зыбкое в настроении Федосьи смутило Евдокию. – С нами Христос, ты, матушка-сестрица, не бойся…
Федосья рассмеялась, резко встала:
– Ах ты, голубеюшка, косата голубушка. Она утешать меня взялась. Лучше ступай-ка домой поскорее. У тебя дочки малые. У тебя сын-отрок. Не спускай с него глаз, а то отобьется от рук…
– Да куда же пойду я? – недоуменно спросила Евдокия.
– Не крутись под ногами. Доложилась – и ступай. Мне в путь сряжатися. Ты мне в том пути обуза. Как бы самой не пропасть, слышь?
Говорила строго, а с лица не снималась тихая улыбка.
– Сестрица-матушка, да я уж собратая. Ты погляди…
Евдокия вдруг выскользнула за дверь, вернулась с мешком из оленьей ровдуги, обшитым цветной покромкой, торбочку скинула к ногам. Когда-то две замшевые кисы привез Прокопий Соковнин из воеводства с Мезени дочерям в гостинце, и вот, отлежав в чулане четверть века, вдруг сгодились комнатные кошули для сурового походного случая. И только тут Федосья Прокопьевна с удивлением рассмотрела младшенькую, что и вид-то ее нынче монашеский, затрапезный: из-под темно-синего зипуна выглядывает подол старушечьего костыча, и башмаки не прежние, красной работы из тонкой козловой кожи, с наборными высокими каблуками, с золочеными пряжками, но путевые коты из сыромятины, насунутые, как дворовые опорки, на толстые вязаные чулки; и вместо прежнего чебака на голове, круглой шапочки из парчового верха, опушенной соболем, – громоздкий овчинный треух; и нет на шее жемчужного пузыря, а в ушах адамантовых подвесок, и лицо белее синь-молока, с голубыми окружьями под кроткими таусинными глазами, и взгляд их не рассеянно-дробный, но как бы заглубленный, какой бывает у монастырских насельщиц. И что-то сполошливо дрогнуло в груди боярыни, и она тайно обрадовалась, что страдать не одной. Но для виду насуровилась, изогнула брови:
– Забирай мешок, и чтоб духу тут не было. Ишь она! Она собратая в сковороде подливу зализывать в мясопуст. Вижу, что грешница. Я вот подскажу Петру Семеновичу, чтобы он тебя посек да не спускал без нянек из дому. Пустоголовая, ветер в башке… Ты и в девках-то эка была, трясогузка.
Федосья Прокопьевна подскочила к кисе, отпнула к двери. Кошуля вдруг распоясалась, из нее выкатился медный складенек и сам собою растворился. Знамение… Богородица Феодоровская тревожно и недоуменно покачала головою. Евдокия зарыдала, упала в ноги.
– Матушка-сестрица, не гони от себя. Христом прошу, не покидай. Мне ли одной страдать посреди еретиков? Тебе ли одной мучиться в юзах? Вдвоем-то куда сподручнее. Отобьемся как ли, верно? Обогреемся друг от дружки. Вдвоем-то и дресвяный камень станет за сдобный колач. Любезная, возьми с собой, – частила Евдокия, то ли с надеждою сестру поддержать, то ли себя укрепить.
– Ну, будет тебе. Ишь ли, слез реки пролились. Ты что, Христос, чтобы из камени хлебы стряпать? Возомнила о себе курица, что в небеси летает.
Отвернулась к двери, чтобы скрыть невольную улыбку. Из коника достала свою торбочку из ровдуги.
– Нищему собраться, только подпоясаться.
– От кого слышу, Федосья? Ты ли нищая? Разве что царь богаче тебя, этот рожок сатанин.
– Все, что дал нам Бог, не наше, а поручено нам на короткое время.
Сложила образок вольяшный, две сорочки грубого полотна, скляницу жидкого мыла, гребень костяной да чуни.
– Гребень-то накой, милая?
– Не много потянет, а сгодится тебя уряживать… Попрощалась-нет с семьею-то? – еще спросила, не ожидая от сестры ответа. Туго увязала копгулю, прикинула в руке, каким-то сторонним взглядом обводя спаленку, словно бы навсегда прощалась с нею. Сердце-то христианское – вещун, для него и тыщи поприщ – не расстояние. Все родное, обжитое, со временем приросло к душе. Теплая, пропахшая свечами и ладаном опочивальня с десятком лампад под образами, с высокой постелью в тафтяных завесах, сейчас похожей на мраморную скудельницу. Вздохнула, увещевая себя. – А куда больше-то? И зачем? Больше-то ничего и не надо, верно? Не на век же сряжаться… А в веках-то будущих, глядишь, ничего и ненадобе.
Легла на лавку у порога, подсунула под голову кису. Лицо заострилось, стало темным, как у сербиянки, крутые скулы обтянулись, и над верхней губою, как у покоенки, выступила ниточка смоляных усов.
– Ты шерсть-то бы под носом сняла, – вдруг хихикнула Евдокия, опустилась на колени у коника, приклонила голову к сестре на грудь. – Решат, что на скамье мужик лежит. Придут, искать тебя станут.
– Эх, дитя ты еще, дитя неразумное, хоть и наплодила полную лавку детишек. Чего ликовствуешь, не испив чаши? Нам и нужно сейчас за мужика стать, чтобы слишком не чинились с нами, а сразу принялись щипать, как куроптей. Скажут, с бабы какой спрос? Бабу-то маленько прижаливать учнут. А мы с тобой Христовы воины. К зверям-то коли вкинут – ты смейся; в пещь огняную всадят – а ты и там веселися.
Федосья замолчала, словно бы кто ее попридернул за язык: де, чего мелешь понапрасну, боярыня? Знает ли кто грядущую судьбу, по каким еще жаровням придется ступать босыми плюснами… Боже, дай крепости.
И сестра, почуяв тревогу, смирилась, смежила глаза, но длинные ресницы ее трепетали, как крылья пушистого ночного мотылька-крестовика. Евдокия чуть присдвинула повойник, освободила маленькое розовое ушко, ловила каждый бряк и гряк с улицы.
Нет хуже, чем ждать и догонять…
Шел второй час ночи; обычно стража приезжает за ослушником впотемни.
Федосья не слухом, но сердцем услышала, как отворились въездные ворота, на окна упали отсветы многих фонарей. В груди, как ни ждала этой минуты, все всполошилось; отодвинув сестру, боярыня затравленно вскочила. Первым намерением было бежать сломя голову в подмосковные вотчинки, иль в Заволжье к старцам, иль в нижегородские земли, где их вековые владенья, и скрыться на крестьянском гумне иль в лешей охотничьей хиже. Так ведь и там скрадут, как зверя, гонными собаками.
– Матушка-сестрица, не бойся – с нами Христос! – вдруг повторила Евдокия, заметив смятение сестры. Задетая прозорливостью Евдокии, удивилась боярыня, встала на молитву. Положили пред образом Богородицы Феодоровской начало, попросили благословения одна у другой. И все еще никто не шел, но так же суетилось по стеклам отражение пламени, словно бы внизу во дворе разложили на ветру большой костер. Показалось даже, что никто и не придет, что всё придумки тревожного ума. Какое дело государю до боярыни Морозовой, что затворилась в своем кугу, живет по своему уму, никому не мешая, лишь молится истинному Богу. И впервые за три последних года Федосья решилась и отчего-то повалилась на кровать, посунув высоко под голову подушки, глубоко утонула в пуховых постелях, пылающей щекой слыша прохладу тонких батистовых наволок. Она закрыла глаза и поплыла под тафтяным прозрачным парусом. Евдокия же удалилась в чулан, где прежде спала наставница Меланья, и легла на ее постель.
Федосья прислушалась и в этой тишине уловила, что хоромы расслоены множеством бестолковых рассыпчатых шумов, будто кого-то толкли или волокли куда-то за ноги, сосчитывая головою ступени; кто-то охал и вздыхал, кто-то молился и пел стихиры пред казнью, как первые христиане, из теснин дома через многие галдареи, переходы, чуланы и повалуши, клети и подклетья, как с огромного судилища нового Пилата, доносились стоны, и плачи, и угрозливые вскрики; неведомая спира грузно подымалась по лестнице, гремя оружьем, расставливала везде свою сторожу, оттесняла в один скоп многую морозовскую челядь. Но никто из ближних людей не воспротивился злу, не встал в защиту хозяйки-матушки. И тут вновь поняла Федосья Прокопьевна, что не этой бездушной силы, не юз и темнички, не смерти боится она до сердечной сумятицы, но будущих терзаний ее живого болезного тела; она так явственно представила, как встряхивают на дыбе ее голое тело, с хрустом в плечах выворачивая руки, как протягивают кнутом, вырывая ошметья мяса и расплескивая по полу кровяной морс, как палач запаливает жаровню под ступнями, вороша кочережкой золотистое уголье, а после прижигает на лбу раскаленное клеймо: «блудня»… Даже запах паленой плоти учуяла боярыня и невольно простонала протяжливо от неминучих страстей. Но ни разу в это короткое время не мелькнула совратительная мысль: де, повинися пред царя, поклонись послам, и они тут же исчезнут, истухнут, как полдневные белесые моли…
Дверь с шумом отворилась; вошли чудовский архимарит Иоаким и дьяк Иларион Иванов, коренастый, волосы – чернь с серебром, подобраны под горшок, под седыми бровями – черемховые глаза. Нет, от такого милостей не дождаться; воинской складки человек с резким голосом и волчьим загривком, он не знает душевных колебаний. В проеме виднелись патриаршие стрельцы, равнодушные до боярыни. Архимарит прочел входную молитву, в полусумраке опочивальни беглым взглядом отыскивая хозяйку: тут ли она? Но скоро догадался, приблизился к застенке кровати, истиха приподнял полог, попросил света. Ему подали в руку походный слюдяной фонарь; свет за шибками колыбался, как на сквозняке, будто пришельцы явились в сопровождении всех нечистых духов, что издревле осаждают дом всякого православного человека. Черными крылами полоснули нетопыри по мгновенно вспотевшему лбу Федосьи, она зажмурилась от пронзительного света, в середке которого раскалился змеиный зрак. Иоаким чуть отставил фонарь, сказал елейно, кротко, расслабленным скрипучим голосом, в котором сквозила жалость:
– Боярыня, мы за тобой пришли. Царь послал справиться о здоровье, хорошо ли опочнула? Вон какие страсти кругом…
Вдруг звонко, отрывисто ударили бои; на стоячих напольных часах пробило два ночи.
Архимарит был в рогатом клобуке, в манатье травного цвета, из-под широкого кожаного ремня вытек грузный живот; лицо же длинное, с ввалившимися щеками, струистая серая борода тщательно ухожена гребнем до прозрачных невесомых волоконец и завешивала всю грудь. Федосья не сводила взгляда с натекшего на пояс пузья, наискав на рясе желтоватое пятонышко от ушного; эта жирная клякса шевелилась от затрудненного дыханья, как темечко земляной жабы. Рот архимарита был словно черная могильная ямка, густо опушенная волоснею: она струилась по-над губами, будто истекало из утробы многое могильное червие, опутывая кипарисовый крест. Тьфу-тьфу на тебя…
Федосья Прокопьевна не ответила на лживые словеса и не сшевельнулась телом, но лежала в постелях, точно покоенка, скрестив на груди руки. Она неожиданно успокоилась и сквозь прищур глаз с какой-то насмешкою разглядывала спосыланного, как тот искручивается умом, чтобы исполнить строгий государев наказ: без лишнего шума приневолить боярыню к покаянию, принудить к поклону. Да и то сказать, дорогого стоит эта сутырщица, известная по чину и богатству на всю престольную; ее не схватить служивому за космы и не оттащить в разбойный приказ для острастки, не кинуть на кобылу под плети. Лежит колодою, а не сшевельнешь. И это бессилие начинало бесить архимарита. Он рукою колыбнул кровать, но она, дубовая, сшитая мастером на века, забывшая любовные утехи, даже не скрипнула.
– Ты бы хоть встала, дочи моя. Не простого звания человек пред тобою. От Чюдова до северного моря вся Русь ко мне с поклоном. Исповедуйся, Федосья Прокопьевна, что за порча на сердце твоем? Какой бес испроточил тебя? Ежли еретик Аввакумко тому виною, так он острижен и сдохнет скоро в земляной яме за мерзкие кощуны свои… Очнися, матушка, вернись к Богу, ко Христу нашему, коего исповедуем все мы от Верха и до самого глухого погосту. Не отплывай далеко, смирися. Больно ты крутенька стала, крестивая, все это от гордыни.
А может, от кручины, что изъела грудь твою? От того вдовства, что иссушило плоть? Вот и взыграло? Ишь, какова худенька стала, как стень. Подойди под благословение, окстись тремя персты, как завещано от древних греков, и вся хворь сплывет разом, как простуда от малинового узвара. Поверь мне, дочи, я худого не насоветую.
Архимарит поднялся на прикроватную колоду, приложился крестом к Федосьиным губам. Боярыня прянула с испугом, будто от змеи, словно растворилась ледяная скудельница, и вот христовенькая очнулась от долгого сна.
– Сгинь… кыш, бесенок гугнивый! – вскричала Федосья, окрестила архимарита древним знамением. – Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас…
Ну как такую ерестливую да поперечную возлюбить? Будь сердце хоть маков цвет, так и то свернется и почернеет от такого злого жара. Иоакима перекосило, как от зубовной боли. И понял он, что зря волокся с добрыми надеями; всякие увещевания и щедрые посулы не переменят сшедшей с ума жонки. Сбилась с круга несчастная, а теперь возьми и выправь за один любовный разговор. Такую в чепи, в колоду, как бешаную, кормить с собачьей миски, вправлять мозги бичом да плетьми, чтобы встали на место, и тогда, быть может, Христос вернется в эту ошалелую грудь.
Архимарит сошел на пол, чтобы не впасть в гнев, и уже сурово, спокойно спросил:
– Где старица Меланья? Выдай властям воруху не замедля… Иль ты прячешь ее?
– Мой дом отверст для всех. Были тут и молящие, и скорбящие, нищие и безутешные. Сидоры и Карпы, Александры и Меланьи. Разве всех упомнишь?
Думный подошел к вахте, спросил у стрельца: де, нашли ли черницу? «Весь дом перевернули, – ответил сторож. – Как в воду канула. Сбегла, поди, воруха».
У Федосьи отлегло от сердца. Она вздохнула глубоко, унимая волнение, и снова растянулась в постели, решив, что больше не разомкнет губ… С псами лаяться – самой дворным зверем стать. Еретика не переменишь, а в грех упадешь.
Дьяк вошел в чулан, где прежде живала наставница Меланья. При тусклом свете елейницы увидел на кровати человека. Пожалел, что не взял с собою фонаря. Крикнул подать свечу. Пока несли, спросил: «Кто здесь?» Женский голос ответил: «Я, князь Петрова жена, Евдокия Урусова».
Дьяк обомлел от неожиданности, торопливо вернулся в спальню, спросил у архимарита: что делать? Де, в чулане Федосьина сестра. Иоаким велел: «Спроси, как она крест кладет?» Дьяк возразил: де, мы посланы лишь до боярыни Федосьи Прокопьевны. Иоаким же повторил с суровостью: «Не прекословь. Слушай же меня, я тебе повелеваю. Поди и допроси ее».
Дьяк вернулся в чулан со свечою в руке. Евдокия так и лежала на боку, подперев голову рукою. Дьяк спросил: де, как ты крестишься, княгиня?
«А как древлие святые знаменовали себя двумя персты, так и я крещуся».
Евдокия с расстановкою, как бы дразня думного, осенилась крестом. Думный приблизил свечу, чтобы рассмотреть княгиню; в глазах ее, серых заводях, плавала мягкая усмешка. Дьяк поразился, сколь несхожи сестры. Если Федосья была, как татарская наложница, скуластая, темнокожая, с росчерком усов, то Евдокия утонула в постели мягко, по-кошачьи, как выкуневшая лесная горносталька на сенном клоче, столько податливой гибкости было в ее теле. Думный смутился, кашлянул, чтобы выбить из себя озорные мысли. Постарался голос оттеплить, еще уверяя себя в душе, что случайно угодила княгинюшка в этот вертеп и лишь из бабьей сутырливости ерестится и идет впоперечку. Ведь муж ее, Петр Семенович, сейчас заседает в Комнате рядом с государем и ведет совет, как урядить с прекосливой боярыней, а тут, гляди, и баба егова затаилась с изменою.
«Ты бы шла домой, свет мой. Не подводи мужа под опалу. Что же ты забрела в раскольничий вертеп? Тут и запах-то котовий. И неуж не брегуешь?» – по-отечески пожурил дьяк.
«Это ты, пес блохастый, поди вон, поганый, – осекла думного Евдокия, однако не убрала ладони из-под щеки. – Это вы истинные раскольники, затеяли свару на всю Русь, завели переделку. Раскрыли врата в родной дом, впустили нежить латынскую в его стены, а на нас нынче приметываете свой грех. Устыдился бы, дьяк. Уж немолоденек вроде как, бородой опушился и видом грозный мужик, – поддразнила и вдруг мягко засмеялась Евдокия. Увидала, как встопорщил усы думный, резко приступил к кровати с худыми намерениями. Сразу приподнялась, остановила криком. – Не теряй ума, Иларион! И не мечи глазищами молоньи, озорь!»
Думный опомнился, уже кипя, вышел из чулана. Архимарит выслушал дьяка, сам воспламенился, поспешил к царю во Дворец. Царь сидел с боярами, ждал вестей. Иоаким приблизился, прошептал на ухо: де, боярыня и сестра ее Евдокия Урусова стоят на своем. Царь удивился и, мельком взглянув на князя, сказал: «Я слышал, что княгинюшка смиренна нравом, тиха и богомольна и не гнушается нашей службы. Я почасту ее в соборной церкви видаю. Не ошибся ли ты часом?» – «Нет-нет… Она еще злее ругает и клянет нас».
Царь потемнел лицом, снова метнул взгляд на князя Урусова и, помедлив, велел: «Коли так, то забирай и ту…»
Князь Урусов вздрогнул, уронил к полу взгляд.
Архимарит Иоаким вернулся во двор Морозовой. Боярыня так и лежала пластом на кровати. Взошел на приступку, наклонился над боярыней, посетовал мягко: «Ну что ж, голубушка моя. Не хотела жить в покорении, живи в неволе. Велено государем гнать тебя вон из дому. Добро побывала наверху, а теперь посиди в яме. Испытай, сладки ли те пироги. Давай вставай, ну!»
Но Федосья не сшевельнулась, смолчала, свела губы в нитку. Архимарит позвал патриаршьих стрельцов. Те усадили боярыню в кресло и на руках потащили вниз по лестнице. Сын проводил мать до среднего крыльца, поклонился сзади и возвратился назад в свои покои. Сначала-то озлился в сердцах, думая о своей судьбе: де, сама на себя беды наслала, да и меня подсидела. Но в ту же минуту и опомнился, горько стало и суеверно за грешность суетных мыслей, будто бы предал мать родимую в крайнюю минуту. Ведь не кинулся в защиту с саблею, не выхватил пистоли… Но чей-то льстивый голос из-за левого плеча утешил стольника, видя его кручину: де, не сходи с ума, добрый молодец, не такой уж злодей наш государь, чтобы всерьез принялся теснить боярыню. Ну, притужнет малость, припугнет для острастки, чтобы не взыгрывала, да и отправит назад в домы…
Карла Захарка радостно прискакивал впереди стражи, зажав меж ногами метлу; порой оборачивался и обметал ковровые кошмы, чтобы не запнулись Федосьины чувяки о невидимую соринку. Такой пересмешник, Захарка.
Федосью внесли в людскую подклеть и оковали ноги конскими железами, чтобы не утекла. Подле дверей поставили оружную вахту.
Сестра Евдокия спустилась в челядинную сама, чуждаясь прикосновения еретиков.
Глава четвертая
… Плачь, замятель, вопи, снеговей, отпевай, вьюга, на всю Русь сокрушенных страдников, пеленай в белоснежные холсты еще живых, но уже погребенных.
… Ах, где бы сыскать тех волшебных словес, чтобы как бальзам окутали огняные раны, облили елеем пылающие струпья и загасили боль.
… У плахи-то на миру инок Епифаний еще держался. Елозя по снегу, собрал свои кургузые пальцы, натыкаясь головою на пимки палача, положил за пазуху, чуя щекотное, плывучее тепло от живой, но скоро меркнущей плоти, проливающей по страдальцу кровавые слезы; не шатаясь, на негнучих чужих ногах побрел до своей тюремки, сквозь брусничную пелену вглядываясь в низкое мглистое небо, дожидаясь оттуда архангеловых труб. Слышал сторонне, как стрелец накидывает на дверь запоры. Опустился на лавку, достал пальцы, пересчитал уже стылые, неказистые, как осколки березовых сучьев; перекрестил несвычной левой рукою, поцеловал каждый перст, прощаясь навсегда, завернул в белую холстинку, положил на тябло под иконой… На тебе, Богородица, гостинец от великого грешника… Хотел промолвить покаянную молитву, шевельнул обрубком языка, и тут будто железным шкворнем, раскаленным в кузне, проткнули гортань и достали до самой души, пока еще безмолвной в памороке после казни, желая и ее припечь. И та боль, прожегши нутряные мяса, вдруг вскочила в руку, кинулась в сеченую пясть и, споткнувшись о пеньки перстов, немилосердно вскружила голову Епифания до тошноты. И только тут он по-собачьи с протягом взвыл и пал на земляной пол, и взялся весь огнем; опалило инока от висков до пяток, и, корчась, он забылся в беспамятстве возле лавки, желанно прощаясь с жизнью. И так трижды, моля Господа о смерти, Епифаний возвращался в память, горько плакал, и просил Спасителя взять душу к себе, и снова терял сознание.
Воистину: «Всякая плоть не похвалится перед Богом». И если она, слабосильная и нервная жидь, эта жалкая утроба не может терпеть и малой муки и просит от души не только всяких почестей и услад, но и особенного внимания, так пусть же скорее отправляется в мать – сыру землю червию на поедь. Тюремка для души, цепи каторжные для молитвенного чувства, царственное прибежище для сатаны и слуг его, пусть же скверные телеса источатся скорее, как ветхое платье…
Епифаний взлез на лавку с неукротимым желанием умереть, опустил сеченую руку вниз, с какой-то радостью наблюдая, как вытекает из него руда. Подумал: когда ли выльется вся, как пиво из дырявого жбана, а с нею источится и грешная, бесполезная жизнь. К вечеру на колобашках мерзлого пола скопилась лужица. Пришел десятник Семен, чтобы проведать узника, принес хлебца позобать, горячих штей, увидал ручеек крови, стекающий в мышиную норку под порогом, вернулся с охапкою сена и устелил пол. Пять дней, потиху иссякая, точилась руда; пять дней, возвращаясь иногда в чувство, Епифаний молил Господа о смерти и снова погружался в сладкое плывучее забвение; он с замиранием в груди, востороженно качался на лествице, как на качели, между небом и землею, рискуя сорваться в когти грающих нетопырей, пытаясь проткнуться сквозь твердь к Вышняму Престолу, но лишь с муками и болью бился темечком о невидимую дресвяную паволоку и возвращался назад. Бывалоче, в далеком детстве, также на Иванов день, качался на повети в родном дому, то ныряя головою в сумеречный проем чердачного лаза, пахнущего сеном и вениками, то больно ушибаясь загорбком о плахи наката. В голове гудели цимбалы, наигрывали накры и свирели; Епифаний открывал глаза и видел сквозь накипь на слипшихся ресницах то вязкий, пахнущий сквернами густой вар ночи, то мрелое жиденькое серенькое утро, то розовую водицу заката на полу…
В конце седьмицы Епифаний вдруг очнулся со светлой головою (будто кто-то окликнул его с улицы), но с горькой мыслью, что Бог и нынче не дает ему смерти и надо дальше нести свой крест страстей. Он промычал жалобно стрельцу и попросил взглядом обиходить язвы. Во рту все еще тлело каленое уголье, струп языка скребся о худые, уже беззубые десны. Стрелец отмыл на руке кровавые ссохшиеся печенки, нажевал из горьких окатышей лиственичной серы липкую лепешку, приложил ее к пенькам пальцев, обмотал чистой холстинкою. Епифаний взмолился мысленно, всхлипнул, уливаясь слезами, загугнил: «Господи, миленькой мой! Сладенький мой! Да почто ты терзаешь меня? Иль я такая пропащая касть, такой негодящий скверный человечишко, что ты позабыл меня на земле с неминучими страстями?.. Ну позови же, прибери к себе. Доколь мне маяться здесь? Я не могу больше терпети…»
А боль-то крутит, прямо спасу нет. Рухнешь с лавки наземь, как рогозный куль, сколько-то утишишь страдание стужею, а вскоре, как напарьей, снова засверлит руку. И куда тут деваться от безжалостного железа? куда скрыться?
… И-эх, Епифаний! Грозился до смерти стоять за правую веру, а тут от малых ран разблажился, закорчился на полу, как кликун, впал в греховное уныние, сыскивая причину столь убогого своего состояния.
«… Да это ж ты, отец наш Илия, архимарит соловецкий, виноват. Зачем прибрел однажды ко мне на Видань-остров и смутил дерзкими речами: де, возьмись, Епифаний, за перо и пиши книги на обличение царю и обращение его к истинной вере. И я книги писал во спасение царево и всего мира. И снес их царю. И царь уже дважды утомил меня немилосердною мукою и в темницу кинул гнить заживо. А ты меня, Илия, оставил в беде немилостивой. Один погибаю…»
И с тоскою всполз Епифаний на лавку, повалился на спину, а руку сеченую положил на сердце. И впал в короткое забытье. И тут подошла к нему Богородица, взяла в пригоршню сеченую ладонь и стала байкать. Епифаний хотел удержать руку Матери Небесной, но не смог поймать. Ушла. Очнулся инок, ощупал правую пясть: нет перстов.
… Но и боли же нет!
* * *
Весенняя распута палась в тундрах о ту пору, и олений путь закрылся. И лишь когда реки вскрылись, через волока и многую воду от Усть-Цильмы дошло известие в Пустозерскую слободку, что юрод Феодор Мезенец повешен, а Настасья Марковна с детьми повинились, избежали петли… Сердешный сынок духовный Феодорушко, откушал ты наконец-то Христовых хлебцев, и небесный ангел омыл вехотьком твои исстрадавшиеся плюсны, покрыл твои мозглые плечи прозрачными ризами. Не диво бы стало, кабы вознесся ты живым на небеси подобно Христу; и не отчаивайся, коли псы смердящие, эти царевы слуги, бросили твое костье на потребу лесовому зверю. Пожалей ты их, несчастных и заблудших… И Лука вот Лаврентьевич, раб Христов, едва бородой опушился, а не убоялся смерти; уж такой тихоня был прежде, слова громкого никогда не бросил, да вот не соступил с заповеданного пути.
Но вы-то, светы мои, чада мои единокровные, чего испужалися? Ведь как ни убегай от смерти, но Господь в свой час поставит под нее, и никакими молитвами не отгрестись тогда, никакими слезами не разжалобить, никакими ароматными горячими маслами не отогреть деревянеющих перстов.
Ивашко да Прошка, бедные сыны, два набольших пальца моей руки; и отрезал бы их Господь, и как больно бы стало мне, и рыдал бы ночами, тоскуя по вам, да зато бы душа моя пела, мысленно возносясь за вами сквозь тесные небесные врата. А нынче: ох да ах! Ни плетью не огреть отступников, ни словом грозным не выучить, ни жестокой эпитимьей не наставить. Так далеко спрятали меня царевы слуги, что я, червь земляной, не мог приползти к вам за триста поприщ, чтобы скоротать несчастные дни и укрепить к подвигу малые силы.
… Это все ты… ты, Настасья Марковна, несчастная трясогузка, сотворила, попустила на беду; все о других пеклась, суетилась, учила персты слагать, нищих кормила, а детей своих забыла поддержать, чтобы с радостью на виселицу пошли и заедино доброю дружиной умерли Христа ради. Зажгло утробу-то, вот и рассупонилась, горюшица; иль ослабла черевами и захотелось сдобных тех перепечей, что кидают прошакам с государевых столов? Ведь все спознала на миру, сладкое и горькое вкусила, плодильницу жаркую охичивала не по разу, накатала дитешей полную лавку; и знай же, с восходом каждого дня ничего нового не раскутаешь в сей временной жизни. Так чем же соблазнилась? какой хитрой уловки сыскала в курином уме, что и в душе наследила вдруг? Закоим зацепилась за жизнь ту грешную? Эх, кабы знатье, так доброго урока дал бы тебе батожьем в научение, абы кнутом постегал, чтобы с седьмицу на лавку сесть не могла… Вопуха, больше всех о Христе блажила, когда сытно было и хмельно, а как припекло да клюнул петух в подушки, так первой поспешила пасть в ноги еретикам и детей с пути сбила…
Прости, не наставил.
Без мужа-то жить – как хлеб без соли есть. Без мужа-то жена – как церква без купола.
Христос, прости ме… Милые, несчастные детки! Ну, да Бог простит вас. То ведомо мне. Ничем не пособлю, а этим утешу. Страшно помирать-то, ой страшно, когда батьки возле нету. Вот и Петр-апостол некогда убоялся смерти и о сем плакался горько. Но также помилован и прощен бысть…
* * *
Эк заненастило…
Третий день дождинушка полощет; снега слизнуло, и тундра опросталась. Стланик по веретьям сначала засиреневел, а после очнулся в одно утро и оделся в молодую зелень. Тепла не дивно пока; в тундряных просторах путнику легко заколеть и преставиться; но в такую непогодь в земляной засыпухе уже приветливо и можно жить.
Но вот дождь притомился, наполнил озера и речки, забусил сиротски; знать, зарядил на всю седьмицу. На небе обложник. По глинистым тропинкам острожка ручьи бегут с белыми гребнями, пенятся у стены. Выбредет Аввакум, поторчит на росстани возле своего тына, выглядывая в проем калитки, потомится в одиночестве, как подчасок, накинув на голову рогозный куль, и снова нырь в свой курятник. Пять полешков кинет в печуру, запалит, чтобы сварить немудреную выть. И пока прогорают дровишки, стоит на правиле, гнусит урок на коленях, бия лбом о земляной, покрытый вешней плесенью пол. У порога вода стоит, и какая мышка ежли и береглась в запечке иль в нижних пазьях венца во всю зиму, то нынче ушла на волю в травяную ветошь, под дымчатые крохотные березняки пожевать спелых мягких кореньев.
Кириллушка лежит на лавке, охает и вздыхает, вздымая очи горе, лень ерестливому встать; дым из печного чела ползет по изобке, сизым пологом нависает по-над полом, выедает глаза, покрывает веки красной бахромою. Бешаный трет лицо, чихает, его лоб и щеки, обычно белесые, как капустная кочерыжка, покрываются пятнами. Четками бы постегать неслуха? Да к чему томить болезного, коли бесы в полон взяли вкрутую и не хотят отпускать. «У-у», – простонал Кириллушка, свалился с лавки; вконец одолела нечисть, надо помочь страдальцу. Аввакум обернулся от правила и костяными четками перетянул бешаного по шее, по плечам, прихватил за кафтанье, поставил на колени возле себя. У Кириллушки голова неровно выстрижена, вся в рубцах, как баранья шкура. Он покорился, согласно кланяется образу, слушает, что поет протопоп, иногда гнусавит следом Исусову молитву, нещадно коверкая слова. Что-то осмысленное появляется в затравленном взгляде, ино и слеза выпадет из глаз, и по-детски разрыдается несчастный, нещадно колотясь лбом о землю.
«… Заставь дурака Богу молиться, лоб расшибет. Поди, хворый, лягь на лавку», – пожалел Аввакум. И забылся в молитве на короткое время, задумчиво созерцая небесный вертоград и лиственную сень, невдали от Христовых покоев, где хорошо бы опочнуть под пенье райских птиц. И вдруг у печи сгрохотало. Обернулся, с натугой вырываясь из сладкого виденья. Это бешаный выпил глиняную корчагу, куда сливал Аввакум ополоски и помои, куда ходили по нужде. Заторопился Кириллушка вытереть усы и бороду, да и упустил горшок на пол, расколотил черепушку. «Ах ты, Божье мне наказание! – вскричал Аввакум. – Что ж ты свинье уподобляешься? Богу помолясь, полез во хлевище, порастерял Христов образ!»








