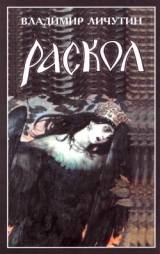
Текст книги "Раскол. Книга III. Вознесение"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
… Ой, бешаные во всем белом свете на одну колодку шиты: лишь взглядом и рознятся. У одних – вечно счастливый, будто из Божьей кадцы опился человек доброго медового хмеля; у других – со звериной искрою и кровавым отблеском; а у Кириллушки тоской горючей налит. И молодой бы парень-то, вся жизнь у него впереди, давно ли бородою опушился, но сгорел вдруг в пустозерских болотах, говорит нынче пустое, без нужды бродит по слободке с бадейкой и вересовым веничком и кропит всех водичкою: де, прислана ему от Махмета турского.
Несчастный, на чьи руки его спехнешь? Каждый горемыка труждается живота ради, и безумный едок на берегу Печоры, как жернов на шею. Подадут житенного колоба иль звено рыбы – и ступай прочь, прошак… Аввакумище, ты думал, что нет на свете горя горше твоего, а тут прибрел горюн и напомнил, что нет меры страданьям.
Аввакум еще поискал глазами за плечом Кириллушки, не уловляет ли кто: скажут, де, шляешься, бегун, меж тюремок по своему изволу, так и ступай нынче же в цепи.
И верно: калитка в бревенчатой стене качнулась, появился стрелецкий сотник Ларивон Ярцев, будто звали его.
А куда бежать-то? Лишь за свой тын, к окну изобки, да и падать поскорей на лавку. Но для какой нужды? Ведь сжились со стрельцами за годы-то, спелись, как на клиросе, и не рассудить теперь толково, кто кого стережет.
Ларивону намедни дарена Аввакумом шуба из собольих пупков. Прислана страдальцу от боярина Ивана Хованского стужи ради, а пригодилась сотнику. Ну и слава Богу…
Ларивон взглянул на смутителя, как на пустое место, собачиться не стал, но ухватил бешаного за шиворот и поволок вон.
Кириллушка послушно пятился и плакал, поскуливая: «Вчера собачку удавили. Сама шоста, и все беленьки, как снежок…»
– Куда гонишь несчастного? Кому нужон? Отдай-ка его мне, – вдруг попросил Аввакум. – Нищий нищего да обогреет. Много я таковьских выимывал из горестной ямы, опутанных бесами…
– Дождешься, что дыру забью. Захлебнешься своим лайном, – хмуро бросил сотняк. Лисий треух на голове лохматым гнездом, низко нахлобучен на уши и лоб, есть куда глаза прятать, если стыд еще в душе не иссох. Как слепой, позевывая, обошел засыпушку, открыл на дверке замок, отпнул полотно ногою. Добавил лениво: – Баловник, ой ты и баловник. Дождешься, старик, посажу на чепь.
– Ой-ой… напугал ежа голой задницей, – засмеялся Аввакум. Ему вдруг стало весело и бестягостно, вроде бы новая жизнь открывалась с этого часа, прежде запретная.
– И ты смотри не балуй мне! Последние мозги выбью. – Сотник втолкнул бешаного в скрытню, остановился у притвора, выставил пред Аввакумом толстый валяный сапог. Пожаловался: – Голову сердито ломит. К непогоде, что ли?
– Помене бы вина-то жрал. С дурака Сампсона пример берете. Тот покруче вас был мужик, а ино сгорел с винища, как порох. Живете, мерзкие, суда Божьего не боитесь. Кишки нажег, дьявол, а душа-то в дырьях.
– Буде тебе казнить-то… Кишки нажог, – передразнил хрипло. Сотник дергал головою и мучительно морщился, будто зуб разболелся. – Худо ты меня почитаешь. А ведь из-за тебя пропадаю, баламут окаянный. Мутишь воду-то. И меня, глядишь, под монастырь. Какой послабки дал. А вдруг нашепчут… Спустили бы тебя ко всем чертям иль скончали скорей. Чего тянуть? И мы бы по домам в гулящую. Собаки и те куда лучше нас живут. Как тут не свихнуться…
Аввакум молчал, прислушивался, что творится в житьишке: от бешаного всего жди. Не было забот, так купил мужик порося. Чего взвихрился? Сам в тюремке, забит в землю с головою, хорошо, когда штей плеснут из кислой капусты. У самого хлеб со счету, а тут живи с бесноватым и каждую минуту лови дикой выходки.
Сотник притушил гонор, сбавил голос, каждое громкое слово отдавалось в голове. Присдвинул на затылок треух; серенькие глазки взялись кровавой паутиной. Хорошо посидели, есть что вспомнить.
– Сашка Машигин сбил с панталыку. Давай, говорит, Ларивон, по крюку дерябнем ради дня недельного. Ну, встали на левую ногу, надо и правую подправить. Взяли у целовальника по кружке, побежали на обех лапах. Но что-то глаза приослепли, худо видят. Ты, поп, знаешь нашего брата стрельца: пить, штоб вдребезги, а биться в лоскутья. Ну и просиделись, наревелись, а сейчас впору запеть: «Со вчерашнего похмелья болит буйная голова»… Машигин к тебе наслал: поди, де, к Аввакуму. Он пьяного плетью потчует, а болезного просвиркою…
– Так не болен ли ты?
– Вот тут жмет, а там крутит, – показал сотник на грудь и голову. – Больные сраму не имут. Поправил бы, батюшко. И надо-то пятиалтынный с отдачею.
Сотник просил виноватым скорбным голосом, но с той нагловатой настойчивостью, от коей добрым словом не отбояриться. Ежли не хочешь ссоры да есть в мешке копейка, отдай без промешки.
– Это мертвые сраму не имут. А ты – срамной человек, Ларивон. Ты около меня – как кот у сливок. Худая я корова, на тощих кормах живу сколькой год, в скорбех пропадаю, на ужищах вишу, одни ребра во мне, а ты все титьки отдерьгал за короткое время. Только и слышу от тебя: дай-подай… Ох, связался коли с падшим, то и сам повязался до смерти.
Аввакум бормотал уже себе в бороду, с кряхтеньем отыскивая в подпечке заветную кошулю, куда собирал милостыньку со всей Руси по копейке, а растрясал, вот, пригоршнями. А поди не дай – и последнюю свечу погасят, и наступит вечная тьма. Да и то верно, и Ларивон не крайний злодей: задумал бы, так давно бы все отнял. Стыд-то не потерян, коли со мной якшается.
Подошел к лампадке, загородившись от Кирилла спиною, скупо рылся в тряпице, перебирая монеты, чтобы не промахнуться. Бешаный мучительно зевал и со всего размаху лупил себя кулаком по колену. Протопоп вышел из засыпухи, протянул сотнику деньги, верно зная, что никогда не получит назад.
Проскрипел:
– Чтоб тебе околеть от винища, проклятый. Ой ты, жорево и неслух.
– Ты Кириллушку-то прибери. Все веселее житье, – не смутясь ответил сотник. – Молись за меня. Да не забудь отдарить.
Ларивон Ярцев решительно водворил протопопа обратно в камору, сунул в пробой замок. На воле уж совсем развиднелось, в отверстое окно врывался теплый ветер-шалоник, скоро сжигая уже нежилой снег; стайка серебристых пулонцев вдруг ссыпалась из-за тына на белые плешины по краям тропы. Аввакум натолок хлебных корок, выкинул в проем и так, глядя на веселых беззаботных тундровых птах, провалился в тонкий сон. И повиделось ему, будто лежит он на лавке в родимом дому в Лопатицах, и тут отворяется дверь и входит высокий, голова в потолок, незнакомый муж с светлоблещущих одеждах. Он ласково касается ладонью Аввакума, и вдруг из его груди вырастает куст, кованный из золота. И такое сиянье от куста, как от вешнего солнца, когда глядишь на него, не заслонившись ладонью. От мрака в глазах Аввакум вскрикнул и пришел в чувство…
Бешаный что-то гугнил, возился на полу у печи. Курился дымок, уже запахло паленым. Все припасы, что Аввакум приберегал до худших времен, были распотрошены по изобке. Кириллушка в олений пим насыпал пшенца, срыл туда из ладки печеных наваг, налил воды из бадейки, разложил на полу костерок из лучин и сейчас, помешивая Протопоповой ключкой, варил в сапоге ушное.
– Ах ты, нехристь! Не шалуй мне, баловной! – завопил Аввакум, стегнул Кириллушку четками промеж лопаток, перетянул по шее и голове. Закрутил ухо в пельмень и отвел на лавку. Бешаный по-заячиному тонко вскричал от боли, затрясся, заслоняясь ладонями. Из его прозрачных, каких-то льдистых глаз вдруг посыпались слезы горохом.
– Батюшка, не казни, помилуй детку… Изверг ты, а не батюшко! Не хочу с тобою знаться, злоключимый человек, спусти меня на волю. На волю хо-чу! Вот ужо бесу Микешке скажу, как навестит, он тебе выймет ребро на шти, – уже загрозился Кириллушка, глаза его скоро просохли и обтянулись тоскою.
Аввакум перекрестил болезного, усадил на лавку, погладил по голове. На вороте рубахи плотно гнездились платяницы, и в колтуне волос было поизнасажено вшей.
– Прости ты меня, грешника, – повинился Аввакум. – Сам не знаю, что нашло. Да и ты, вишь ли, братец мой, хорош. Чего надумал? Не токмо голодом заморить, дак и в дыму удушить.
Бешаный от теплого голоса сник, послушно подставил себя Аввакумовым рукам. Протопоп ножницами окорнал с Кириллушки волосы, отдал последнюю рубаху и исподники, на плечи кинул шубняк, с Мезени Настасьей Марковной спосылан. Дал горбуху с солью и квасу. Бешаный жадно поел, пал на лавку и скоро заснул. Аввакум хлебы вымесил, печь вытопил; дым глаза выел, пока обряжался, на коленях елозя. Но вот и стряпня готова. Кириллушка кротко посапывал, совсем мирный человек, и лишь от присутствия его в тюремке протопопу было хорошо. Одиночество сокрушает пуще хвори и глада, а тут вон как привелось – и сотник вот помирволил; скаредный и жадный до дареного, тут вдруг попустился на доброе и вспомнил, аспид, про Бога.
В оконце луч солнечный проник, тепло улегся на земляном полу, и вся изобка (сажень на сажень) приняла веселый вид. Ах, человек же не скотина, все переможет, он и в самой захудалой норе приноровится к жизни и отыщет себе счастия. Вот и в углах, где во всю долгую зиму жили сугробики снега и накипь льда, сейчас отпотело, и стены поприсохли, и потолок, набранный из тонкомера, не сочил влагу.
Весна красна; зиму перенесли, а сейчас, после новых страстей, и дальше тянуть надо. Бог не выдаст, свинья не съест. Вот и Михайлович, по всем приметам, не вовсе пропащий, и в нем поди отыщется отцовское, и всех извергов рода человеческого, опомнясь, погонит прочь со Двора. Только бы детки духовные не пали духом и не увлеклись бы, аки слепцы за поводырем, за Никоновыми новинками и не поддались лживым переменам.
… За отцовское-то стой! Тебе руку долой, а ты пой «Господи, прости мя»; тебе и ногу прочь, а ты смейся лютому злодею в глаза; тебе и язык выковырнут, а ты рассуждай одним сердцем, и по глазам признают правоту твоих мыслей…
Вот Федосьюшка Прокопьевна просила совета, а я в хлопотах о себе позабыл от отцовском долге. Какой же я пастырь, ежли из-за малой невзгоди сокрушился и пал сердцем?
Аввакум разложил писчий снаряд на крохотном столике под окном. Впереди длинный день, и надо его скоротать. Меж молитвами-то самые сиротские часы, и не знаешь, чем занять их, чтобы утекли бесследно, как ключевая водица.
В оконный проем пряно пахло болотиной, вешней водою с Пустого озера, талой смолою и рыбьими черевами. Мужики поди уже скинули валенки – пришивны голяшки и сейчас обулись в бахилы, густо напитав их ворванью. Где-то еще помор бредет слободкою, а от смазных сапог дух впереди его летит. У них, миленьких, свои заботы, как бы семью прокормить да пред Господом не сокрушиться в уныние…
Боже, Боже, зришь ли ты меня, тварь малую: яко червь, ползаю в земле и, яко червь, насыщаюсь тлетворным духом своим и, будто вешняя квакуша, воплю у поречной старицы, помышляя свой безумный крик за высокую песнь.
… Прости и помилуй! Дай мне того стояния и терпения, коим преисполнен Феодор Мезенец. Как-то он там, дружок любезный? Ишь вот, боярыня его незалюбила в высокоумии своем. Надо укорот дать бабе… Говорят, в яму брошен, болезный, что и моя семья; но – тот все стерпит без нытья и притужанья. Милый, милый сынок духовный. Царь-от крепко юродов незалюбил, он за ними поскочит, как выжлец за лисою. Юроды правду рычат без боязни, их голос до небес слышен. А кто на кривую дорожку попустился, наперегонки с самим чертом, тот и от истины бежит сломя голову.
… Вот тоже Христова невеста Федосья Прокопьевна. Власяницей терзает плоть, а сердцем-то плачется о сыне Иване; мир не отпускает сердешную, цепляется за подол, будто репей, и сладу с ним нет… Иван-то уже женихается; писаной красавец был в детках-то; малым его оставил на Москве, и уж головой в потолок, женихается, мать теребит, де, дай-подай невесту. Послал ему благословение к женитьбе. Получил-нет? Стрельцу у бердыша в топорище велел ящичек сделать, и заклеил своима бедными руками то посланьице в бердыш, и дал с себя ему шубу и денег близко к полтине, и поклонился ему низко, да отнесет Богом храним до рук сына моего, света…
И мой-то Прокопей-шалун не вем когда и вырос. Возрос, когда батько его по тюремкам скитался. Пишут, де, привалил дворовой девке младенца, но себя отцом не чтит, божится и запирается. В летах детина, не диво и привалять. Да не то прискорбно, а что не могу покаяния получить.
… Ой, Настасьюшка Марковна, баба моя! Тебя ругаю лихоматом, а посмотри, сам-то каков, лиходей. Попустил сынов шляться по чужим постелям, как псов бешаных, не научил чтить Христовы заветы…
Аввакум, неведомо на кого сердясь, с неспокойным сердцем зачинил гусиное перо, облизал языком, нет ли заусенки, лучинкой намешал в оловянном стакашке сажных чернил. Решил сам нагородить боярыне Морозовой. Старцу Епифанию нынче не с руки перебеливать: пальцы рублены, как с тросткой сладить ему?
Достал из схорона последнюю Федосьину вестку. Писана в два столбца, и хоть не по разу читана от безделицы, но тут сызнова проглядел: годы учат, но годы и мучат, от тех страстей голова мохом зарастает, как пруд тиною. Уж не та живость ума, не то и проворство речи.
… Эх, сердешная, не устала на Феодора-юрода жалиться. И что не спелись, гордоусы? Видно, нашлось что делить? У одного нагота да босота, а у другого восемь тыщ дворов да аргамаки с серебряными поводьями.
«… Прости меня Христа ради, а я пуще всех согрешаю. А дети твои не так живут, как ты; пошли за Феодором ходить, и у него переняли высокоумье великое на себя, и гордость положили, и всех обманывать стали. Так их съел – и душу, и тело! Так они не отстанут: не познали за грех, за него умирают… А я сама такова была, чаяла себе доброго спасения, да немного душу не потеряла. Лют сей человек. Да велико милосердие Божие, что нет его у нас. Много того писать, что и уму непостижно козней его. Пиши, свет, детям своим и запрети с ними знаться, и помолися за меня, чтобы и меня Бог избавил от него. И тому Феодору во всем запрети, чтобы в покаянии был. Только тебя послушает. А что к тебе ни пишет – то все ложь. Ну да, чу, послушает ли тебя? Бога забыл и детей твоих всякому злу учил».
Вспыхнул Аввакум. Они-то оба в яме земляной в спражнети своей купаются, а она, курица, вина фряжские попивает в своем дому да еще и протопопа учит, отцу духовному указывает, как духовное стадо пасти. Сама вся в грязи, а иных очищает; сама слепа, а зрячим путь указует.
Бешаный храпел на лавке, свиристел носом. На воле вовсю распалилось солнце, ручей прободился сквозь тын, тоненький пока, но уже в пенных гребешках, заструился по еще заколелой тропинке, отыскивая себе перелазы; но задохнулся у ближнего сугроба и стал скоро копиться в прозрачную лужицу. Близко потоп, скоро, глядишь, новые терзания. Хорошо, если стрельцы смилостивятся.
Посторонние пока заботы освежили голову, утишили сердце.
… Эй, гневный, затвори уста и спрячь бумагу, пока не утихнет в груди! По злобе много можно грехов натворить, кои после и не замолишь.
… Да, что там писал сын Иван о боярыне еще в прошлом лете?
«… Ивашко писал мне, де, кручинится на нас боярыня за Феодора. Как бы, де, я Феодора еретиком звал, так бы, де, меня и жаловала, и добрые, де, мы люди были.
Я детям своим велю Феодора любить – добрый он человек: прежде тебя его знаю и давно мне сын духовный. И ты, миленькая, на них не сердитуй. Я им Феодора еретиком звать не велю. И ты только не перестанешь, и ты за то постраждешь. Такова ты разумна: не смогши с коровой, да подойник о землю. Себя ведь тебе бить по роже той дурной, как и я себя четками… Говорила, что детей моих и по смерти моей не покинешь, а ныне, вижу, и при живом оплевала. Ведаешь ведь, каков тебе сын – таковы и мне дети, хотя бы они и впрямь заплутали. И ты бы их духовно смиряла, а голодом не морила. А то ты нынеча, оставя себя, да людей смиряешь! Ну-тко, ты посмиряй себя, как я, бывало, всем себя велю домашним по трижды ударить плетью, колико душ прилучится в моем дому. А то ты на небо-то хочешь взыти, бьючи сама, а не бита быти.
Как тебе дали двор и крестьян прибавили, и ты ко мне тогда писала: «Есть чем, батюшко, жить; телесного много дал Бог». А ныне пишешь: «Оскудала, батюшко, поделиться с вами нечем». И я лишь рассмеялся. А все-то у тебя притрапезники и душегубцы изгубляют, а истинным рабам Христовым милостыня от тебя истекает, яко от пучины малая капля, да и то с оговором. Да сказывал мне Феодор: де, обещалась ты давать от имения своего пятую долю страждущим рабам Христовым, а ныне жаль стало, или тем отдаешь, которые пропивают на вине процеженном, на романее и ренском, и на медах сладких и изнуряют во одеждах мягких. Ох, горе тебе, неосмотрительно живущей!
… Ну, полно мне того говорить! Помирися с Феодором, помирися с детьми моими…»
Аввакум задумался, перевернул лист, еще раз прочитал на обратной стороне Федосьино посланьице, не пропустил ли чего ответить, не выпала ли из вида какая особая весть. И не просматривая свое писанье, чтобы заново не перемарывать, торопливо закруглил, уже злясь на себя за напрасный скорый гнев. С первых стопок воспалился умом, излил лаяния и желчи, нагородил огорожи, а сейчас и самому через нее не перевалиться.
«… Ну, дружище, не сердитуй ужо! Правду тебе говорю. Кто ково любит, тот о том и печется и о нем помышляет пред Богом и человеки. А вы мне все больны: и ты, и Феодор. Не кручинься на Марковну: она ничего сего не знает, простая баба, право».
Глава третья
Давно ли, кажется, повыгарывала Москва, еще не изветрился дух головней, срытых по овражцам, а снова дымом чуется: это злоимцы и порубежные воры, схитники рода человеческого и расколоучители не дают покоя престольной, крадучись, метят подворья Белого города и Скородома огненными печатями, пускают в барские усадьбы рыжих лисиц; и улицы кипят голью, и самый бросовый народишко – ярыжка питейный из Воскресенского кабака и лотошник с Пожара, – встретившись с дворянином иль стряпчим, не ломает шапки, но плюет вослед. Да и как не тешить мстительных чувств, ежли на Дону и Волге еще не утихло, там Разя бродит со смутою; черемисы и башкиры, вотяки и татарове смотрят косо на царя, точат вострые кинжалы; и работные по Уралу льют злодеям пушки и, осклабясь, зверовато-радостно щурятся на престольную, так понимая, что всякое зло течет оттуда, от собольих опашней и аксамитовых саккосов; и с Соловков приваживают гонцы дурные вести: де, не желают покоряться монахи, но решились стоять до смерти за прежнее знамение; и с Пустозерья из земляной ямы пшют самохвалы подметные письма под сам Китай-город и в государевы покои; а всякая казнь бунташника, задуманная в устрашение, – как сухое бересто в тлеющие уголья.
… Всякая власть, разделившаяся в себе, не устоит. Чем больше жадных рук ухапливают ее, стремясь разобрать по горстям, тем труднее сохранить землю в спокое; это как бы хоромы из кондового дерева иль белого тесаного подмосковного камня вдруг поставить, издурясь, на гнилые, изъеденные в труху стулцы. Лишь ветер подует, и житье то повалится.
Эх, как бы к одной православной вере всех привесть, чтобы свет Софии Цареградской осветил все потемки дремотной одичавшей души; и тогда бы всякий Словении и в дальних окрайках чужих владений стал бы нам за брата и прикончились бы все распри.
Да не жди добра от лукавствующих.
Не дели трапезу со спесивыми, ибо получишь ссору.
Не веди дружбы с гордоватыми и ломоватыми, ибо в крайнюю минуту кинут у беды.
Не прикармливай умника, ибо возомнит о себе.
Не бери в друзья завистника – получишь кольем в подреберье.
Ибо сколько волка ни корми, как ни приваживай его, он все в лес смотрит.
… И при Дворе заселилась своя скарабея, Федосья Морозова, характером круче большого воеводы: уловляет в сети слабых, бьет клинья меж шаткими, суесловит на сильных, и хоть Терема чурается и всяко бежит его, но и своим затворничеством, даже лишь тем, что присутствует непокорливая на земле, – вносит смуту и раскол; наущает неспокойных и хитроумных: де, можно противиться государю; де, не всякое его уложенье в строку, и хоть близкий он к Богу человек, но и на небесах промашки бывают.
И многим суемудрым тут хочется поверить: де, и мы не лыком шиты.
Вот и нашептывают льстивые думные на ухо: государь, де, сколько можно терпеть спесивую и ломоватую? пожертвуй малым, чтобы не потерять всего; ты много потакал Никону – и отсюда разброд на Руси, ты долго ждешь поклона от сутырливой бабы – и отсюда злая смута. Рви дурную траву с корением, чтобы не дала всходов.
* * *
… Все пути назад отрублены: наконец-то можно свободно вздохнуть. Было живано, диво на диво: хмельно пито, сыто едено, срядно езживано, красно уряживано. Сладкий мед, да не ложкой в рот. В последний путь пора сряжаться, Прокопьевна.
Так решила Федосья, увидев на Рождество Богородицы страшный сон. Будто бы купают ее сенные девки в мыленке, загрузили в кадцу с головою, а в ней вместо парной воды кровь алая человечья, уже створожилась печенками и пахнет мертвечиною.
Тут и вестка пришла с Мезени от верных: де, юрода Феодора повесили…
Эх, сколько ратились, бывало, всяк одеяло на свою сторону тянул, жеребья бросали, будто на кону решали, кому первому смертный главотяжец вздевать; разминулись, расплевавшись, как ненавистники, а ныне последние слова юрода светятся, как скрижали на манатье, как святой остерег блаженной души, уже отлетающей в вечный Дом: «А вы-то как? Ведь пропадете без меня! Вижу, много мяса разложено по торгам. И жбаны крови человечей разоставлены по ларям, как морс брусеничный. Как вы-то, бедные, будете без меня?»
И ушел, бесплотный уже, и растворился в Руси. Не хотела, но отчего-то поспешила в чулан наставницы, приникла к зальделому окну, наискивая прорубку света; увидела, как струилась поземка, вскидывая с забоев снежные вороха, завивая подол хламиды, обнажая иссохлые шишкастые ножонки. «Бедный! – невольно вскрикнуло сердце. – Зябко-то как!» … Нет-нет, поди прочь, сгинь с глаз, обавник, сотрись из сердца, сотона, как бы и веком не бывало в дому! Ведь оприютила с любовию, а всё житьишко перетряс, как свою гобину, и домашнюю приязнь превратил в вечную свару…
С протягом закрылись ворота, упал железный крюк в проушину, сторож зевнул, подпрыгнул, греясь, хлопнул себя по бокам, сплюнул вослед бродяге.
Она тогда без нужды вроде пошла в повалушу, где ночевал Феодор, и увидала посередке пола жалкую грудку носильного платья: синий кафтанец английского сукна, лазоревые порты с галунами, а поверх брошены желтые юфтевые сапожонки, когда-то не выношенные ее благоверным хозяином. Постояла, бездумно вглядываясь в одежду, и, будто навсегда прощаясь с юродивым, досадливо плюнула на тряпки, как дворовый вратарь, и гневно приказала сжечь в истопке.
… Лишь в снах человек провидит свою судьбу: то он скидывается в ребенка, то проживает жизнь грядущую, коя лишь сулится в отдаленных годах, то с мертвыми беседует отворенным сердцем, как с живыми; ведь никто не покидает бренного мира сего, не оставив по себе вечного странника на земле-матери, бесплотную, но живую стень, осязаемую лишь в ночном забытьи.
… А сон-то в руку. Она нынче в крови купалась, и вот вестка: де, юрода не стало, скончали блаженного; и все его примолвки и придирки, отчего так обижалась прежде и жалилась пустозерскому протопопу в письмах, будут отныне как отцова воркотня: и слушать вроде бы досадно, но вспоминать после тепло.
Ведь было же… Она тогда окстилась поганой щепотью, чтобы помирволить государю и вернуть сыновьи вотчины; ради Иванушки, одинакого сына, поклонилась в ноги рожку сатанину. И следующим же днем на трех пальцах, коими знамение сотворила, выметались багряные желвы на суставцах, раздуло изнутри и кости зажгло нестерпимым огнем. Пришел юрод трапезовать. Взмолилась тайно, де, прости, отче; встала на молитву возле. А Феодор внимательно и сурово взглянул в глаза и, прочитав ее бессловесные муки, вдруг ухватил больные пальцы и сгорстал бережно, пожамкал, помял в корявой ладони, и тут погасла боль, а к вечеру и язвы утекли под кожу, как не были. Знать, дана была юроду целительная чаша, да опрокинулась, уплыла вся в северные снега…
Ой, не хулите, благоверные, тех, с кем никогда не расстаться; повязаны вы нерасторжимой вервью, как каторжане железной путевой цепью, и брести вам отныне вместе до Господнего суда к ответу.
Сморилась. Кинула на пол рогозницу, повалилась опочнуть, подсунув под голову волосяную подушку. Весть не шла из ума. Кровать в кисейных пологах, высоко взбитая, была как пуховое небесное облако, по которому гуляли смирные ангелы. Вдруг рука заныла, по ней к предплечью побежали кусачие мураши, тонко заныла грудь. Дверь в опочивальню приоткрылась неслышно, украдчиво ступая, вошел Феодор; ступни его, обычно гремевшие, как коньи копыта, сейчас будто шелестели по натертым воском половицам. Подол белоснежного кабата был в три ряда обложен розовыми бейками, по-над коленями по тканине бежали красные кони, из груди, где обычно висел верижный крест, выметнулся ветвистый золотой куст, усеянный мелкими цветами шипичника. Феодор что-то шептал, ласково улыбаясь, и вдруг наклонился, бережно приобнял Федосью за плечи, пытаясь приподнять с рогозницы и возложить в постелю. От юрода пахло поститвой, кадильницей и свечами.
«… Дочи ты моя, Богоданная невеста, душистый Христов хлебец…»
Откуда истекает этот разымчивый талый голос?
Губы вроде не растворялись, плотные, мясистые, из-под них высовывались мелкие фарфуровые клычки. Вдруг мгла легла на ясное лицо юрода, он резко вспрянул головою, пытаясь скинуть чью-то руку, туго придавившую шею, и невзначай придернул Федосью на себя. Она вскричала не столько от боли, но от внезапного страха. Ей помстилась за плечами блаженного темная рогатая тень с пылающими угольями глаз.
«Доча… голубеюшка… госпожина, очнися!»
Меланья бережно встряхивала боярыню за плечи. Ой, худое наснилось, раз кричит на весь дом; знать, бесы толкут беспомощную невинную душу в своей ступе, изымают из ребер, чтобы перенять к себе.
Федосья открыла беспамятные глаза, утекающим сонным взором наискивая юрода и отчего-то не видя его. Ведь только что был тут, еще кожа хранила теплое прикосновенье, еще не изветрился как бы из самого Федосьиного нутра дух живого пришлеца, его обволакивающий взор.
Боярыня села на рогозницу, тупо встряхивая головою. Волосы под тугим повойником превратились в войлочный колтун, и в самой глубине засаленного клоча шевелилась беспокойная вошка.
«Сестра к тебе, Евдокия Прокопьевна. Велишь ли звать?»
«Беда стучит в ворота, матушка. Не проворонь, встречай.
Вели-ка сестрам Христовым немедля съезжать из дому. Пусть на Волгу спешат, в скиты али куда подале от еретического глаза. И ты, сокровенная, беги нынче. Слышь, уже в ворота стучат».
Федосья перекрестилась, широко зевнула, как опоенная дурманом; в висках кузнечные молота били по наковальне: то кровь дурная, вспугнутая давешним страхом, искала протоки.
«Будет тебе зря-то. Накличешь беды», – сурово остерегла наставница, не чинясь перед хозяйкою. Но сразу же сметливым умом перекинулась на престольную, в какую скрытню сунуться при нужде, в какой ухоронке увязнуть надежнее на смутное время. Федосья – вещунья, напрасно не станет разводить толковище иль гнать бессловесных на улицу. Значит, воистину приперло, последний час настал; то не черти толкли бабу, но небесные гонцы теребили за поняву, велели вставать. И, не допрашивая более, мелкой поступочкой поспешила к голубицам в келью.
А Федосья Прокопьевна бормотала меркло, сонно, неживым голосом: «Юрод приходил, зазвал с собою. Идем, говорит, со мною, невеста Христовая, под сладкий венец… Да вон и сестра с худыми вестями. Слышь, Меланья, как чоботки ее стучат?»
Боярыня спрашивала, но никто не отвечал ей…
* * *
Дурные вести не пеши ходят и не саньми ездят, но по воздуху с ветром текут иль тайной летучей почтою по духопроводу.
Евдокия еще по лестницам подымалась, унимая сердце на рундуке, подметая подолом и цветными рукавами долгого опашня вощеные половицы сеней и переходов, крытые персидскими кошмами, а Федосья Прокопьевна, перебирая костяные четки, уже верно знала, с чем спешит сестрица… И что же призамедлилась-то? Коли взняли топор над главою, так роняйте, не мешкая, отпускайте душу на простор.
Знать, где-то в куту переняла ее смышленая наставница, угостила сыченой водою, принудила отдохнуть на лавице, отпышкаться, чтобы первой выведать слухи: на сглазливой воде иль на меду настоены они. Ей, верховодке, еще долго пасти смиренное стадо, и очи надобно иметь зрячие, а душу – не замутненную тревогой.
Федосья раз двадцать перекинула костяную зернь, прочитывая Исусову молитву, и как-то само собой успокоилась. Прошептала: «Не вкусив опреснока, и горчицы, и фараонова огня, не попадешь в царствие небесное».
Подошла к окну, нашла чистую репью, прилипла взглядом к стеклинке. Сторож отворил калитку, пропустил черниц, перекрестил в спину: идите, де, с Богом. Монашены шли след в след узкой тропинкой меж осенней жухлой отавы, отряхивая метелки осоты: в черном кафтанье, в платах кулем, пригорблые, как лесовое воронье, с торбами на загорбке, они спешили за Неглинную, в Замоскворечье, в лесовые пустошки, в суземные келеицы и скрытни.
«Спопутья вам, сердешные. Да пусть ни один торчок не попадет вам под ногу. Пусть ни одна каравая рука не придернет за старческий зипунишко и не укоротит ходьбы. А коли припрет нужда, так не бойтеся смерти ни от глада, ни от хлада, ни от зверя, ни от войны, но вершите свое дело, как научал Господь! Божья охрана лучше человечей».
И вдруг улыбнулась, посветлела ликом, словно бы грудь ее отомкнулась наконец, изгнав последнюю черствость. Спровадила Христовых невест, а нынче и самой сбираться в последний путь, вздевать терновый венец. Эх, коли соступила на волосяную стежку меж провальных тундряных болотин, так иди смело тропою, не сбредая с нее, не хватаясь за услужливую сосенку, обавно вставшую на пути.
– Ду-ня, где ты? – позвала Федосья мысленно. Дверь открылась внезапно. Стремительно вбежала сестра, упала на грудь, залилась слезами.
– Молчи… Все знаю…
Оторвала Евдокию от груди, осмотрела любовно ее тонкий иноческий лик с зареванными напухшими глазами.
– Когда? – только и спросила Федосья, опускаясь на прикроватную колоду. Устало протянула ноги в шерстяных головках грубой вязки, огладила ноющие колена, покрытые крашенинным сарафаном.
И все печали мира, все тревоги его, заботы и хлопоты хозяйки-большухи по имению и гобине, весь ужас будущих страстей вдруг источились, как утренняя роса, как ветхое изношенное платье, стоптанное к ногам, ибо совершенно голым Господь принимает к себе; такой кротости, такого равнодушия к грядущим дням она не знавала прежде во все дни от смерти мужа… Бедная, она хотела спрятаться, как рак-каркун, в своей жарко натопленной, надежно укрытой от житейских бурь опочивальне, под покровом наставницы соскребая накипь грехов долгими молитвами и слезьми. Да напрасны тщеты, как ни затворяй ставнями окна, как ни завешивай стеклины толстыми ковровыми запонами.








